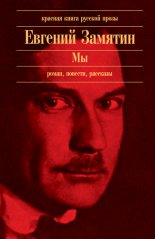Место встречи изменить нельзя (сборник) Вайнер Георгий

– Да как же это я могу допустить?! – взвился я.
– Подождите, подождите. Я же говорю – на десять минут. Ну что вам стоит?
– Хорошо, допустим.
– Если это допустить, вся ваша система доказательств начнет рушиться, как карточный дом, – сказал Груздев.
Я вспомнил, как уже пытался сегодня связать все наши факты, чтобы подпереть обвинение Груздева, и как эти подпорки все время выскальзывали из рук, шатались, не хотели стоять на месте. Ну пусть теперь он их попробует на прочность. Но я сказал бодро:
– Интересно поглядеть, как это у вас получится.
– Сейчас увидите, – пообещал он и начал: – Уже на первом допросе вы исходили из того, что, ненавидя Ларису, я решил избавиться от нее. Я действительно любил ее когда-то, но… Долго рассказывать, что там и как у нас происходило, но любовь выгорела – вся, дотла. Вы считаете, что антипод любви – ненависть. Но, поверьте, это вовсе не так! Настоящий антипод любви – равнодушие… И ничего, кроме равнодушия, Лариса у меня в последнее время не вызывала. Квартира… Квартира, как вам известно, моя, и вопрос ее обмена был лишь вопросом времени. Кстати, известно ли вам, что Лара хотела вернуться к матери, но именно я решил оставить ей часть своей площади? Если нет, спросите у Наденьки, у их матери – они подтвердят. Неужели я произвожу впечатление человека столь нетерпеливого и к тому же столь жестокого, что мне легче убить, чем подождать месяц-два? – Груздев внимательно смотрел на меня, рассчитывая увидеть, какое впечатление производят его слова, но я хоть и думал, что наши мнения здорово совпадают, просто он до конца эти вещи закругляет и додумывает, но виду не подавал, сидел и слушал – давай, мол, излагай, раз условились…
Я протянул Груздеву папиросу, он поблагодарил кивком, заломил мундштук по-своему – стабилизатором, прикурил и продолжал:
– Важной уликой против меня вы считаете заявление этого алкоголика Липатникова о том, что он меня видел на лестнице. Но я вам еще раз говорю: я был там не в семь часов, а в четыре! И Ларису дома не застал, поэтому и написал записку… Я не знаю, как мне это доказать, но помогите мне! В конце концов, почему слова Липатникова ценнее, чем мои? Но ему вы верите безоговорочно, мне же вовсе не верите…
– Ваш сосед – человек незаинтересованный, – подал я голос.
– Ну, допустим. Но он ведь только человек, эраре гуманум эст – человеку свойственно ошибаться… Тем более, как это положено, всех соседей расспросите, осмотрите его часы – может быть, они врут, – еще что-нибудь сделайте! Только делайте, не сидите сиднем, успокоившись на одной версии. Еще раз мою жену допросите, квартирохозяйку, сопоставьте их рассказы – тут миллиграммы информации могут сыграть счастливую или роковую роль…
– Хорошо, – перебил я его. – Я обещаю вам еще раз все это проверить досконально. Но вы отвлеклись…
– Да. Действительно… – Груздев тряхнул головой, словно освобождаясь от порыва чувств, который он себе только что позволил. – Главная улика против меня, просто-таки убийственная, – этот злосчастный «байярд»…
– Еще и страховой полис… – напомнил я.
– И этот дурацкий полис, о существовании которого я даже не подозревал! Если предположить, что я не имею отношения к убийству…
– То выходит – вы прямо так и сказали Жеглову, – что мы их вам подбросили, – встрял я. – А зачем – вы об этом подумали? Наши ребята каждый день жизнью рискуют…
– Подумал, – сказал Груздев твердо. – Вероятно, я был не прав. Не вдаваясь в обсуждение ваших моральных качеств, я подумал, что для того, чтобы эти вещи мне подбросить, вы должны были иметь их сами… А это уже маловероятно. Значит, их подбросил мне убийца, и отсюда следует, что он меня знал. Вот в этом направлении вам и надо искать…
Я невольно усмехнулся: войдя в роль, Груздев начал давать мне указания, будто он сам был моим начальником, а не Глеб Георгиевич Жеглов. Наверное, что-то такое есть в моем характере, если все вокруг меня, только познакомившись, уже пробуют мною командовать. Но я, честно говоря, командиров таких самозваных недолюбливаю, с меня тех хватает, которые по уставу положены. Потому я и сказал Груздеву:
– В каком направлении искать, это вы меня не учите, сообразим сами как-нибудь!
Он, видно, понял, что хватил лишку, потому что сразу же вроде как извинился:
– Да мне и в голову не приходило… без меня учителя найдутся. Я просто хотел сказать, что самая у вас неблагодарная задача – доказать мою вину. Поскольку я не виноват и рано или поздно это откроется, я в это свято верую, а то бы и жить дальше не стоило… – Он тяжело, судорожно как-то вздохнул, добавил: – Был такой китайский мудрец, Конфуций его звали, вот он сказал однажды: «Очень трудно поймать в темной комнате кошку. Особенно если ее там нет…»
Поймать в темной комнате кошку – это значит доказать, что он убил Ларису. А кошки в комнате вовсе нет… М-да, это он лихо завернул, красиво, надо будет Глебу рассказать, он такие выражения любит. К слову вспомнилась мне «Черная кошка», и от этого я почему-то почувствовал себя неуверенно, тоскливо мне стало как-то. Помолчал я, и Груздев сидел молча, в кабинете было тихо, и только на первом этаже слышались смех и крепкие удары костяшками о стол – свободная от караула смена забивала «козла». Ввел он меня все-таки в сомнение, Груздев, надо будет все, о чем он толкует, до ногтя проверить. А я, выходит, никак на него повлиять не смог? Сильнее он меня, выходит? Это было как-то обидно осознавать, и я попробовал:
– Илья Сергеевич, все, про что мы говорили, – это, куда ни кинь, воображение. Ну поскольку мы вообразили, что вы не виноваты. А факты остаются, и для суда их, по моему разумению, будет вполне достаточно, чтобы вас осудить. А какой будет приговор, вы сами знаете, у вас в камере Уголовный кодекс имеется. Так не лучше ли сознаться – ведь у вас наверняка какие-то причины были, ну, не уважительные, конечно, а эти… смягчающие, что ли. Суд учтет и может вам жизнь сохранить…
Груздев вскочил, лицо и шея пошли у него красными пятнами, он закричал:
– Нет! Никогда! Признаться в том, чего не совершал, да еще в убийстве? Никогда! Как же я жить-то дальше буду, убийцей?.. Не-ет… Уж если мне суждена эта Голгофа… я взойду на нее… я взойду… Не-ет, мой друг, – сказал он глухо, но очень твердо, окончательно. – Раз уж я человеком родился, надо человеком и умереть…
По комнате растеклось, всю ее до отказа заполнило тяжелое наше молчание; каждый думал о своем, а внизу по-прежнему с треском, с хрустом врубали «козла», гомонили, смеялись. На окно, шелестя здоровенными крыльями, слетел сизарь, он заглядывал в комнату и смешно крутил крохотной головкой, словно приглашая выйти из прокуренного помещения подышать свежим воздухом. Груздев долго смотрел на него, а когда голубь, захлопав крыльями, взлетел в небо, проводил его взглядом, и вдруг лицо его, суровое, сухое, с жесткими складками у рта, утратило на моих глазах четкость, черты стали расплываться, губы жалко задрожали – Груздев плакал! Я неуклюже пытался успокоить его, и так мне было невыносимо видеть взрослого плачущего мужчину, что я отвернулся к окну, делая вид, что не замечаю его слез, и он сам, видимо, старался сдержаться изо всех сил, и за моей спиной раздавались тяжелое сопение и храпящие всхлипы, похожие на рычание.
Успокоившись наконец, он сказал:
– Не вижу я выхода! Весь в уликах, – будто меня кто-то нарочно запутал… Я ведь всю жизнь был практическим человеком, но… Я не могу бороться с неведомой тенью, да еще отсюда, из тюрьмы… Я не могу искать в темной комнате кошку… И мне отсюда не вылезти… – Он судорожно вздохнул, как вскрикнул, по-детски, ладонью, утер мокрое от слез лицо, поднял на меня глаза: – Послушай, Шарапов! Я вижу, ты хороший парень, неиспорченный… Пойми, меня может спасти только пойманный настоящий убийца. Прошу, заклинаю тебя всем святым – ищи его, ищи! Найди! Ты сможешь, я верю. Пойми, если вы его не найдете, вы сами станете убийцами – вы убьете ни в чем не повинного человека!..
Я нажал кнопку, вызывая дежурного надзирателя, поднялся, и Груздев крикнул мне, уже в дверях, руки назад:
– Даже если меня осудят, ищи его, Шарапов! Не жизнь, хотя бы честь мою спаси!..
С тяжелым сердцем ехал я в радиокомитет – Груздев не то чтобы убедил меня в своей невиновности, но и мою уверенность в противоположном он размыл основательно. Конечно, стоило бы все это обсудить с Жегловым, но он скорее всего назовет меня сентиментальной бабой и поднимет на смех, и я был даже рад, когда после допроса Груздева не застал его в кабинете: умчался куда-то в город. А я решил узнать на радио, когда и какой именно матч транслировался двадцатого октября, во сколько точно кончился, с каким результатом и так далее, – больше полагаться на приблизительные вычисления Жеглова я не хотел.
Совсем молоденькая девчурка – на улице я бы ей больше шестнадцати ни за что не дал – оказалась редактором спортивных передач и дежурила в тот день. Разговор у нас с ней предстоял короткий, по моим расчетам, но, вместо того чтобы ответить путем на мой вопрос, редакторша сама спросила, порывшись в аккуратных папках-скоросшивателях:
– Вас какой матч интересует?
Я удивился – только что я уже сказал ей, что интересуюсь матчем двадцатого октября. На что девица спокойно мне возразила:
– Двадцатого транслировались два матча – конец сезона и очень напряженная таблица розыгрыша…
* * *
...
В Москве семьсот детских садов. Ежедневно их посещают 70 000 ребят. Количество садов все время возрастает. В хорошем помещении на Лефортовском валу создан детский сад для 250 детей. Недавно гостеприимно открыл свои двери для ста маленьких хозяев детский сад в Свердловском районе.
«Вечерняя Москва»
…Меня, как говорил старшина Форманюк, будто пыльным мешком по голове из-за угла стукнули; во всяком случае, редакторша спросила с недоумением:
– Случилось что-нибудь очень серьезное?
– Да, золотко, – сказал я торопливо. – Говорите, да поскорее, какие были матчи, где, во сколько и тому подобное…
Редакторша пожала узкими плечиками:
– Пожалуйста. Двадцатого октября, четырнадцать часов. Трансляция со стадиона «Динамо». Ведущий – Вадим Синявский. Двадцать две тысячи зрителей. Кубок СССР. Играли ленинградский «Зенит» и московский «Спартак». Счет 4:3. Передача окончилась в пятнадцать пятьдесят пять. Там же – календарная встреча ЦДКА – «Динамо», в семнадцать часов…
– Стоп, девушка, хватит!.. – заорал я и умчался, наверняка оставив у молодой редакторши не самое лучшее впечатление о московских сыщиках.
Когда я вернулся из Лосинки, переполненный самыми поразительными новостями, какие только можно себе представить, Жеглов уже сидел в кабинете за своим столом и сосредоточенно работал над какими-то записями. Он поднял голову, довольно хмуро взглянул на меня, буркнул:
– Ты где шляешься, Шарапов? Время уже к семи, а тебя все нет…
– Сейчас доложу, – пообещал я, скинул плащ, причесался и занял выжидательную позицию.
Глеб дочитал записку, перевернул ее вниз текстом, ухмыльнулся:
– Ну, валяй, орел, докладывай. По лицу вижу, сейчас будешь хвастаться.
– Так точно, – сказал я. – Только не хвастаться, а сообщать о результатах проверки. Хвастаться нескромно как-то…
– Ну-ну, скромник… Слушаю.
Я выждал немного, чтобы как в театре, эффектно, и сказал:
– Груздев невиновен. Освобождать его надо!
Получилось не так, как в театре, а, наоборот, будто бухнул я холостым. Жеглов поморщился, сказал хладнокровно:
– Да ты шутник, оказывается. Ну ладно, шути дальше.
– Я не шучу, – сказал я. – В книжке, которую ты мне дал, написано, что сила доказательств – в их вескости, а не в количестве. И я с этим согласен…
– Тогда порядок, – не удержался Жеглов.
Я не стал заводиться, кивнул:
– Ага, точно. Вот я поговорил по душам с Груздевым и понял, что у нас с ним что-то получается не то. Калибр не такой у человека, чтобы из-за квартиры на душегубство пойти…
Жеглов снова перебил меня.
– Я, конечно, не Лев Толстой, – сказал он. – Но тоже отчасти психолог… И хочу внести некоторую ясность с Груздевым. Почти все сослуживцы характеризовали его как человека скрытного. Да мы и сами в этом убедились. А скрытность обязательно означает притворство – значит, ложь… Уже одного этого немало, потому что притворщик, врун – потенциальный преступник…
Я эти рассуждения даже дослушивать не стал.
– А если человек скрытный от застенчивости, например? – сказал я, но сообразил сразу, что к Груздеву это, пожалуй, вряд ли относится, и поправился: – Или от скромности? Тоже потенциальный преступник?
Жеглов, конечно, зацепился:
– Скромный он – это да, точно, прямо институточка голубая, чистая, как мак! – И, довольный собою, посмеялся немного, а потом посерьезнел как-то с ходу, будто тряпкой с лица смех стер, сказал: – Давай к делу, что ты бодягу развел…
– Так я и собирался к делу, а ты тут со своей психологией, – сказал я досадливо. – Можешь ты меня минуту послушать не перебивая?
– Ну?..
– Мы рассчитали, что сосед Ларисин видел Груздева на лестнице около семи часов – как раз в этом время кончился матч ЦДКА – «Динамо».
– Ну?
– Ты помнишь, что сосед этот, Липатников, времени не знал, только по футболу мы и сориентировались?
– Так.
– И кто играл, он не помнил, помнишь? Он еще сказал, что не болеет…
– Заладил: «помнил», «помнишь»! Не тяни кота за хвост, что у тебя за привычка!..
– Я не тяну, я хочу, чтобы ты все до мелочи вспомнил – это очень важно. Так вот, на радио мне сказали, что в этот день был еще один матч, «Зенит» – «Спартак», и трансляцию его закончили в четыре. Понимаешь – в четыре! Соображаешь, что это значит? – спросил я и протянул Жеглову справку из радиокомитета.
Он взял справку, внимательно прочитал ее, с недоумением посмотрел на меня, повертел справку в руках, будто хотел еще что-нибудь из нее выжать, но больше там ничего не было написано, и он сказал:
– М-да… Это несколько подмывает показания соседа… Но мы ведь на них меньше всего базировались.
– Я извиняюсь, – сказал я запальчиво. – Это, по-моему, подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты. Сосед что? Он утверждает, что видел Груздева после матча, а когда это было, ему неизвестно. А Груздев сразу сказал, что встретил Липатникова в четыре. Это как будем понимать? Он ведь показания соседа предусмотреть не мог?
– Да черт с ними, с этими показаниями, – сердито сказал Жеглов. – Мы и без них бы обошлись.
– Пока не обходились. Ты же сам про скрытность Груздева толковал и целую теорию из нее вывел: раз скрывает, что был в семь, значит… и все такое прочее…
Жеглов разозлился всерьез:
– Слушай, орел, тебе бы вовсе не в сыщики, а в адвокаты идти! Вместо того чтобы изобличать убийцу, ты выискиваешь, как его от законного возмездия избавить.
И оттого что он разозлился, я, наоборот, как-то сразу успокоился и сказал ему уважительно:
– Глеб Георгиевич, ну что ты на самом деле… Мы ж с тобой одну работу работаем, просто я хочу, чтобы возмездие действительно законное было, как говорится, без сучка без задоринки. Ты же лично против Груздева ничего не имеешь, верно? Но уверился, что он преступник, и теперь отступать не хочешь…
– А почему это я должен отступать? – рассердился Жеглов.
– А потому, что факты. Вот ты послушай меня спокойно, без сердца. Я после разговора с Груздевым думал много… плюс все делишки Фокса этого растреклятого. Понимаешь, ведь между ними ничего не может быть общего, не могу я себе представить, чтобы такие разные люди могли промеж себя сговориться как-либо…
– Ты еще много чего не можешь себе представить, – вставил Жеглов.
– Не заедайся, Глеб, – попросил я его. – Лучше слушай. Соболевская мне малость глаза приоткрыла. Мы с тобой все время считали, что Груздев в крайнем случае мог навести Фокса на Ларису, так? Оказывается, Фокс и без Груздева ее знал и у них были отношения. Серьезные, ну, со стороны Ларисы, стало быть…
Глеб закурил, сильно затянулся, так, что щеки впали, сказал:
– Ну-ну, продолжай, психолог…
Я на это не обратил внимания, мне важно было ему все разъяснить, чтобы он, как и я, уразумел расстановку сил.
– Когда я про второй матч узнал, у меня в башке будто осветилось. Ты сам посмотри, все ведь как нарочно складывается: патрон нестандартный, палец на бутылке не его, след на шоколаде чужой. И что в четыре был, а не в семь, вполне возможно. А если в четыре, а не около семи, то остается одна-единственная улика – пистолет…
Глеб снова затянулся и процедил:
– Одна эта улика сто тысяч других перевесит…
– Ага. Вот я и понял, что точно так же может думать Фокс. Поэтому я поехал в Лосинку и расспросил обеих женщин о том, что было двадцатого и двадцать первого октября, – подробно, по минутам…
Глеб даже со стула поднялся:
– И что?..
– Утром двадцать первого, часов в одиннадцать, пришел проверять паровое отопление перед зимой слесарь-водопроводчик. Крутился по дому минут двадцать. Высокий, черный, красивый, под плащом – военная одежда. В хозконторе поселка водопроводчик с такими приметами не значится… – Я с торжеством посмотрел на Глеба: – Вопросы есть, товарищ начальник?
Жеглов в мою сторону даже не высморкался. Нещадно скрипя блестящими сапогами, принялся ходить по кабинету из угла в угол, долго ходил, потом остановился у окна, снова долго там рассматривал что-то, ему одному интересное. Не поворачиваясь ко мне, сказал:
– Жена Груздева, чтобы мужа выручить, под любой присягой покажет, что это ты пистолет подбросил. Или расскажет, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем в корчме на литовской границе. Квартирохозяйку тоже можно заинтересовать. Или запугать. Это не свидетели.
Опять вся моя работа к чертовой бабушке. Беготня, все волнения мои – коту под хвост. Я аж задохнулся от злости, но спросил все-таки негромко:
– А кто же свидетели?
По-прежнему глядя в окно, Жеглов кинул:
– Фокс. Вот единственный и неповторимый свидетель. Для всех, как говорится, времен и народов. Возьмем его, тогда…
Чуть не плача от возмущения, я заорал:
– Но ты же сам знаешь – Груздев не виноват! Что же ему, за бандита этого париться?! У него, может, каждый день в тюрьме десять лет жизни отымает!
Жеглов наконец повернулся, но глядел он куда-то вбок, и голос у него был злой, холодный:
– Ты лишние сопли не разводи, Шарапов. Здесь МУР, понял? МУР, а не институт благородных девиц! Убита женщина, наш советский человек, и убийца не может разгуливать на свободе, он должен сидеть в тюрьме…
– Но ведь Груздев…
– Будет сидеть, я тебе сказал! А коли окажется, что это Фокса работа, тогда выпустим, и все дела. И больше об этом – хватит, старший лейтенант Шарапов. За дело несу персональную ответственность я, извольте соблюдать субординацию!..
Замолчал он, и мне как будто говорить нечего стало, хотя и вертелось у меня на языке, что Жеглов – это еще не МУР, что во всем этом нет логики и нет справедливости, но как-то заклинил он меня своим окриком: ведь я как-никак военная косточка и пререкаться с начальством в молодые еще годы отучен… В репродукторе голос певца старательно, с коленцами выводил: «В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю-ю-ю…» Только он и звучал в нехорошей тишине между нами, двумя довольно упрямыми мужиками, приятелями, можно сказать…
В пепельнице лежали и дымили обе наши «нордины», и случайно залетевший сквозь окно лучик солнца пересекали две струйки дыма – одна ярко-голубая, плотная, другая светлая, почти прозрачная, – и я подумал: как странно, у двух одинаковых папирос дым совсем разный, вот один, голубой, выстлался понизу, вдоль стола, а другой, белый, тянется вверх. Я посмотрел на Жеглова, он снова отвернулся к окну, загораживая весь проем широкой спиной, а я думал о его шуточках, о всей его умелости, лихости и замечательном твердом характере. «Железный парень наш Жеглов», – сказал однажды о нем Коля Тараскин, и это было, конечно, правильно…
* * *
В девять часов утра конвой доставил Ручечника к нам в кабинет. Камера никому, видать, не в пользу – за эти дни он сильно сдал: пожелтело лицо, редкая жесткая щетина прибавила добрых два десятка лет, крупная тяжелая челюсть, придававшая ему мужественное выражение, как-то неуловимо вытянулась, стала просто длинной, старческой, глаза запали и недобро поблескивали из глубоких глазниц. Я усадил его на стул в углу кабинета, и он уставился на свои пижонские штиблеты, которые из-за вынутых шнурков сразу приобрели какой-то жалкий, нищенский вид. Жеглов разгуливал по кабинету, напевая под нос: «Первым делом, первым делом самолеты», а я сидел за своим столом, глядя на Ручечника, и длилась эта пауза довольно долго, как в театре, пока он, хрипло прокашлявшись, не сказал:
– Чего притащили, начальники? Покемарить вдосталь и то не дадут…
На что Жеглов быстро отозвался:
– Не лги, не лги, Петр Ручников, тебе спать сейчас совсем не хочется, бессонница у тебя сейчас!
Ручечник спорить не стал, он уныло смотрел куда-то в стену за спиной Жеглова, взгляд был у него грустный и сосредоточенный. Потом без видимой причины повеселел, попросил у Жеглова чинарик, и тот, лихо оторвав зубами конец папиросы, протянул ее вору:
– На, пользуйся моей добротой… – И, подождав, пока Ручечник сделал несколько жадных затяжек, осведомился: – Не надоело бока давить в нашем заведении?
– Ох, надоело, начальник! – искренне сказал Ручечник. – Можно сказать, от одной скуки тут околеешь. Сидит со мною хмырь какой-то залетный – деревня, одно слово, ни в очко, ни в буру не может…
– А на воле благода-ать… – соблазнял Жеглов. – По нынешнему времени ты бы уже огрел бутылочку, поехал бы на бегах рискнул…
Ручечник аж всхлипнул огорченно от таких замечательных, но – увы! – недоступных возможностей:
– Чего толковать, на воле жизнь куда красивше, чем в седьмой камере, да куда денешься? – Он с хрустом потянулся, широко зевнул. – О-ох, тошно мне, граждане начальники, отпустили бы мальчишечку…
– И отпустим, – с готовностью и вполне серьезно сказал Жеглов. – Ты мне Фокса – я тебе волю. Мое слово – закон, у любого вора спроси!
– Точно. Ты мне волю, а Фокс? – Ручечник опустил голову и говорил тоже серьезно: – Он ведь меня погубит. Фокс – человек окаянный. На первом же толковище не он, так дружки его меня по стене размажут, ась?
Он поднял голову, смерил Жеглова глазами, и ничего в его лице не осталось дурашливого, что было еще минуту назад, а видны были только испуг да тоска по свободе, такой близкой и такой невозможной.
– Не так страшен черт, как его малюют, – построил улыбку Жеглов. – Мы ведь его все равно возьмем…
– Только не через меня, только не через меня, – быстро забормотал Ручечник. – Мне главное, чтоб совесть чиста, я тогда на любом толковище отзовусь…
Глеб пожевал губами, лицо его стало суровым.
– Ты Фокса боишься… – сказал он не спеша. – Напрасно… Тебе пока что меня надо бояться, я тебя скорее погублю, коли ты так…
– Эхма, тюрьма, дом родной! – отчаянно махнул рукой вор. – Отпилюсь на лесоповале – и с чистой совестью на волю! Вы не подумайте, начальнички, что я злыдень такой… – Лицо его сморщилось, казалось, он вот-вот заплачет. – Что я, вам помочь не хочу? Хочу, истинный крест! Но не могу! Я вам вот байку одну расскажу – без имен, конечно, но так, для примеру. Хочете?
– Ну-ну, валяй, – разлепил губы Жеглов.
– Есть такое местечко Божье – Лабытнанга, масса градусов северной широты… И там лагерь строжайшего режима – для тех, кому в ближайшем будущем ничего не светит. Крайний Север, тайга и тому подобная природа. Побежали оттуда однова мальчишечки – трое удалых. Семьсот верст тундрой да тайгой, и ни одного ресторана, и к жилью не ходи – народ там для нашего брата просто-таки ужасный. И представьте, начальники, вышли мальчишечки к железке. Двое, конечно.
– А третий? – спросил я. – Не дошел?
Ручечник сокрушенно покачал головой, вздохнул:
– Не довели. За «корову» его, фрайеришку, взяли.
– Это как?! – оторопело спросил я.
– Как слышал. Такие у нас, значит, ндравы бывают. Жизнь – копейка. А уж для Фокса тем более…
Ручечника увели – дальше разговаривать с ним было без толку, он явно предпочитал отсидку встрече с Фоксом. Оставалась Волокушина. Жеглов сбегал переговорил с ней, и она без особого сопротивления согласилась позвонить Ане. Со связистами все было заранее договорено, и не прошло и часа, как мы сидели в маленькой уютной комнате Волокушиной в Кривоколенном переулке, 21. В комнате даже после обыска было чисто и уютно; массивный торгсиновский буфет сиял промытыми резными стеклами, кружевной подзор на кровати и такая же салфеточка под телефоном топорщились от крахмала, мраморные слоники – семь штук по ранжиру – на буфете сулили счастье, которого Волокушина так жадно хотела, да не дождалась…
После того как Волокушина позвонила по телефону бабке Задохиной, разговаривать нам было особенно не о чем – инструкции полной мерой были выданы по дороге, – мы сидели молча, думая каждый о своем, и только старший сержант Сафиуллин из отдела связи, приехавший с нами для обеспечения нормальной работы аппаратуры, время от времени проверял, не фонят ли наушники, которые он для нас с Жегловым подключил к телефону параллельно. Конечно, прождать можно было черт-те сколько – и сутки, и двое, – но нам повезло: минут через сорок телефон задребезжал, и Волокушина, резко побледнев, сняла трубку. Мы тоже прижали к ушам наушники. Мужской низкий голос прозвучал так, будто звонили из соседней квартиры:
– Света?
– Да, я… – Волокушина глазами, всем лицом, головой показала нам, что это Фокс.
– Где Петька? – требовательно спросил Фокс.
Точно так, как было уговорено, Волокушина зашлась в плаче, сквозь который прорывались отдельные несвязные слова.
– Ты что ревешь, дура? – спросил Фокс злобно. – Говори толком!
– Пе-етеньку посадили, – заверещала Волокушина. – Фоксик, миленький, помоги, что же я теперь делать-то бу-у-уду-у?..
– А ты как выскочила? – спросил он подозрительно.
– Его с номерком взяли, на карма-а-ане-е…
– Понял, – сказал Фокс деловито. – Слушай внимательно: я ему помогу, чем возможно. Раз. Ты больше к Аньке не звони, я тебе потом сам позвоню. Это два. Если тебя легавые возьмут, молчи, как немая. Тогда выручу. Будешь болтать – язык отрежу. Все.
Гудки отбоя возвестили, что разговор окончен, и почти в ту же секунду раздался зуммер полевого телефона Сафиуллина. С телефонной станции сообщили: Фокс звонил из автомата в булочной у Сретенских ворот. Прямо со станции туда уже мчался на машине Пасюк – прочесать с группой сотрудников прилегающую территорию.
Но Фокс как сквозь землю провалился, хотя поработал Пасюк истово. Узнали мы об этом немножечко позже – когда приехали в Управление и выслушали его рапорт.
– Ничего, – утешил расстроенного Пасюка Жеглов. – Он, гад ползучий, от меня не уйдет. Слово чести!
И я видел, что от злости он прямо искрился, словно только что заряженный танковый аккумулятор.
– По домам! – скомандовал Жеглов. – Отдохнуть по силе возможности и в девятнадцать пятьдесят быть у входа в «Савой». Марш!..
* * *
...
ЭКСПОНАТЫ ИЗ БЕРЛИНА
Выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941—1945 годах, продолжает пополняться новыми экспонатами. В Москву доставлено много образцов боевой техники, отбитой у врага в Берлине, Будапеште и в других районах недавних боев.
«Известия»
Глупо, конечно, но факт – очень я взволновался перед походом в «Савой». Как там ни говори, а все-таки первый раз в жизни собирался я в ресторан. Еще до демобилизации побывал я пару раз в немецких «гештетах», но какой же это ресторан – забегаловка, и все! И еще я очень жалел, что в ресторан я иду искать Фокса, вместо того чтобы нам отправиться туда с Варей, попробовать жареного мяса, выпить винца, потанцевать, и все бы увидели, что я тоже кое-чего стою, коли пришла со мной туда самая красивая девушка.
Но об этом и думать нечего, потому что мы отдали Шурке Барановой карточки и нам с Жегловым еще надо смикитить, как дотянуть до конца месяца хотя бы на хлебе с картошкой. Наши талоны на второе горячее блюдо были действительны только для управленческой столовой. Нет, коммерческие рестораны нам пока не по карману!
Об этом и сказал нам Жеглов в автобусе, когда мы остановились неподалеку от входа в «Савой» без десяти минут восемь. Он выдал нам по замусоленной синей сотняге и сказал:
– Деньги казенные, не вздумайте там шиковать на них! Тем более что вовсе не известно, явится ли он сюда…
Все засмеялись: в коммерческом ресторане на сотню зашикуешь, пожалуй! Гриша Шесть-на-девять спросил:
– А чего можно взять на сто рублей?
Жеглов неодобрительно покосился на него:
– Две чашки кофе, рюмку сухого вина и бутылку лимонада. Но тебя это все не касается – ты нас вместе с Копыриным будешь здесь дожидаться…
– Ну-у, тоже придумал, я, может быть…
– Отставить разговоры! Вы здесь не прохлаждаться должны, а прикрывать наш тыл. Неизвестно, как там все сложится, поэтому у вас с Копыриным должна быть все время готовность номер один. Не отвлекаться, газет не читать, байки не травить – все время вы должны просматривать зону перед входом в ресторан. Если случится так, что Фокс придет и вы его опознаете, дайте ему спокойно войти, после чего ты, Копырин, остаешься на месте, а Гришка идет ко мне. Задача вам ясна?
– Чего там неясного! – невозмутимо сказал Копырин.
– Ясна, но мне хотелось бы… – начал Гриша, но Жеглов махнул рукой:
– С тобой все! Теперь задача для Тараскина и Пасюка. Значитца, ресторан имеет два зала в форме буквы «Г». В оба зала есть входы – один с улицы, другой из гостиницы. Вы проходите и садитесь в самом конце второго зала, блокируя вход-выход из гостиницы. Я зайду в ресторан первым и сяду в самой середине – у фонтана, так, чтобы меня видно было из обоих залов. Шарапов двигается замыкающим. У входа в первый зал находится стойка с высокими стульчиками, называется «бар». Вот ты, Шарапов, со своей заграничной внешностью и будешь нести службу у стойки. Сидеть тебе надо спиной к входу, вполоборота к стойке – тогда ты будешь всех просматривать, а твое лицо почти никто не увидит. Диспозиция ясна?
– Ясна.
– Как только мы уйдем, Копырин отгонит автобус к углу Пушечной и Рождественки – с этой точки вы можете наблюдать оба входа: и в ресторан, и в гостиницу.
Я спросил:
– Что делаем, если опознаем Фокса?
– Спокойно пьем кофе на всю отпущенную финчастью сотню. Не глазеем на него, не дергаемся, не ерзаем. Все сидим на своих местах и ждем, пока Фокс отгуляет и начнет собираться домой или в туалет. Брать его можно только в гардеробе – он вооружен и в зале может положить несколько человек. Начинать по моей команде.
– Последний вопрос, – сказал я. – Глеб, мы его не можем перепутать? Ну, за другим погнаться? Мы ведь его в лицо не знаем – только по словесному портрету…
– Знаем, – твердо кивнул Жеглов. – Есть у меня человек, который его знает… Все, оперативка закончена. Тараскин и Пасюк, на выход!
Через минуту после них ушел Жеглов, а потом и мне отворил дверь своим костылем-рукоятью Копырин.
– Давай, старшой, ни пуха тебе, ни пера, – сказал он мне вслед и хлопнул по спине.
Я отдал гардеробщику свой плащ, потрогал локтем пистолет в боковом кармане, причесался перед зеркалом и поднялся по четырем мраморным ступенькам в зал. Народу было не очень много – я знал, что ресторан работает до трех часов ночи и собираются люди около девяти. Огляделся я быстренько и увидел, что нахожусь около той самой стойки с высокими табуретами, о которой говорил Жеглов. Табуретки, кожаные, мягкие, крутились на шарнире, как сиденья у пулеметной турели, и сверху мне было очень удобно озираться. А зеркала буфета в лучшем виде отражали входную дверь. Ко мне подошла буфетчица и вежливо сказала:
– Добрый вечер, добро пожаловать…
Я даже удивился – чего это она так обрадовалась моему приходу? И тоже ей приветливо сказал:
– Здравствуйте, давненько я не бывал у вас…
Бровки у нее белые, выщипанные, подведенные, и крендельки шестимесячной аккуратненько выложены под сеточкой с мушками.
– Что желаете выпить? Коньяк, водка, ликер, коктейль, пунш?
И спрашивает негромко, доверительно, будто о секрете между собой мы сговариваемся и она мне тоном своим дает понять, что никому не разболтает, нигде не проговорится, что я у нее в баре выпивал.
– Вы мне кофе пока налейте и меню дайте, – сказал я ей тоже по секрету.
– Меню в обеденном зале, а у нас карточка, – сказала она не очень обрадованно.
– Ну карточку давайте, – покладисто кивнул я.
Она ушла варить кофе, а я стал оглядывать каждый стол в отдельности. Прямо передо мной, слева от входа, торцами к окнам стояли четыре стола, и к ним были приставлены диваны с высокими спинками, так что сидящие за столом будто в купе поезда находились – их никто не видит, и они ни на кого не смотрят. За стойкой бара вход на кухню, потом зал кончался и переходил в площадку, посреди которой бил настоящий фонтан! Маленький бассейн с медными загородками, а в середине фонтан! В потолок были вмазаны зеркала, и в них я видел дно фонтана, и это было невероятно красиво – по потолку плавали золотые рыбки с пышными хвостами! Это ведь надо придумать такое! Напротив фонтана на маленькой сцене сидел оркестр, а вокруг стояли двухместные столики.
За одним из них уже устроился Жеглов, с ним за столом сидел еще какой-то человек вполоборота ко мне, и с затылка он казался почему-то знакомым. Жеглов прицепил ко второй пуговице гимнастерки крахмальную белую салфетку, и со стороны казалось, будто он готовится к обильному обеду. Это же надо, на сто его рубликов – смех один! Мне с моей табуретки было очень хорошо видно лицо Жеглова, высокомерно-насмешливое, со злым блеском в глазах. Время от времени он что-то цедил своему собеседнику сквозь зубы и учительски помахивал пальчиком у него перед носом. Во дает!
– Вот ваш кофе. И карточка. – Я обернулся к буфетчице, которая протягивала мне дымящуюся чашку и картонку с ценником. Я смотрел на карточку углом глаза, чтобы не терять зал из поля зрения. «Крюшон-фантазия», «мокко-глинтвейн», «шампань-коблер», «абрикотин», «порто-ронко», «маяк». Все очень красиво и загадочно, но все мне не по деньгам. Взял я себе самый дешевый пунш «лимонный», пятьдесят шесть рублей порция. Буфетчица смотрела на меня прозрачными белесыми глазами, и лицо у нее было вытянутое, постное, как у сытой утицы.
– И все? – спросила она.
– Пока все, – бросил я ей небрежно, и она стала колдовать с какими-то кувшинчиками, бутылками, бросила в бокал две вишенки и кусок льда. В общем, получилась довольно большая порция – высокий хрустальный бокал. И еще воткнула в него утица длинную соломинку – за бесплатно. У меня еще оставались деньги на чашку кофе – с таким боекомплектом я на этой огневой точке продержусь долго. Вот только одно плохо: все время с кухни мимо меня еду носят. Очень меня все эти запахи сильно раздражали и отвлекали. Уж в тарелки-то я старался и не смотреть! Да как – все мимо меня несут. Особенно хороша была баранья отбивная на косточке – кусок красного, прожаренного, горячего мяса, вокруг него румяная золотистая картошечка, горочкой жаренный на масле лук, соленый огурчик сложен сердечком, а на баранью косточку надет большой бумажный цветок, вырезанный фестонами. У-ух, красота!
Самое обидное, что у меня в плаще, в кармане, лежал завернутый в газету большой кус хлеба. Эх, если бы его можно было сейчас взять сюда и закусить им пунш со сладким кофе – не жизнь бы настала, а малина! Но нельзя, к сожалению: я ведь, предполагается, уже в другом ресторане сытно поел, а сюда так забежал – пуншиком побаловаться, музыку послушать, станцевать при случае…
Короче, размышлял я обо всей этой ерунде, а сам, облокотившись на стойку, внимательно зал прощупывал – стол за столом, человека за человеком. Офицеры с женщинами, какие-то хорошо одетые гражданские, и что очень досадно, много людишек, по всем статьям смахивающих на спекулянтов. Вид у них какой-то нахальный и в то же время трусливый, женщины с ними шумные, сильно намазанные. Оркестр гремел на всю катушку, и оттого, что посетители все время вставали из-за столиков танцевать, мне их рассматривать и сортировать было удобно. И все входящие в ресторан мимо меня обязательно дефилировали и, как по команде, рядом со мной притормаживали – осматривались в поисках свободного столика. Так что среди тех, что уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было.
Чем там угощался Жеглов со своим партнером, мне не видно было, но каждый раз, когда входил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой.
Саксофонист на сцене сказал своим рокочущим раскатистым голосом:
– Дорогой гость Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого Автандила Намаладзе. – И джаз заиграл «Сулико».
В этот момент мимо меня прошел высокий военный. Жеглов, наверное, снова толкнул своего напарника, тот повернулся, и я чуть не упал со своей шикарной табуретки: за столом Жеглова сидел Соловьев! Дежурный Соловьев! Ну конечно, он-то видел Фокса в упор, и я понял, что имел в виду Жеглов, когда сказал, что мы не ошибемся и на другого человека не бросимся.
Жеглов перехватил мой удивленный взгляд, усмехнулся и еле заметно подмигнул мне: мол, пусть гад хоть так поможет делу.
Все это время я, естественно, не видел Соловьева, и надо сказать, что у него видик был не преуспевающий. Как-то он весь облез, усох, в изгибе спины появилось что-то трусливое, и, присматриваясь сбоку к его лицу, я видел, как он угодливо улыбается на каждое жегловское слово, а чего ему улыбаться, и непонятно вовсе – чего уж там ему веселого или доброго мог сказать Жеглов?
Пока я глазел на них, вынырнула у меня откуда-то из-под мышки буфетчица-утица и спросила своим постным голосом, будто деревянным маслом смазанным: