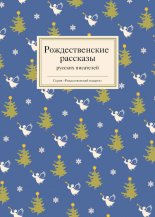Моя жизнь (сборник) Коровин Константин

Моя жизнь
I
Я родился в Москве в 1861 году, 23 ноября, на Рогожской улице, в доме деда моего Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Прадед мой, Емельян Васильевич, был родом из Владимирской губернии, Покровского уезда, села Данилова, которое стояло на Владимирском тракте. Тогда не было еще железных дорог, и эти крестьяне были ямщиками. Говорилось – «гоняли ямщину», и не были они крепостными.
Когда родился прадед мой, то, по обычаю, сел и деревень, находящихся по Владимирскому тракту, при рождении ребенка отец выходил на дорогу и первого, которого гнали в ссылку по этой дороге, Владимирке, спрашивал имя. Это имя и давали родившемуся ребенку. Будто это делали для счастья – такая была примета. Нарекали родившегося именем преступника, то есть несчастного. Так полагалось обычаем.
Когда родился мой прадед, по Владимирке везли в клетке с большим конвоем «Емельку Пугачева», и прадеда наименовали Емельяном. Сын ямщика, Емельян Васильевич был впоследствии управляющим в имении графа Бестужева-Рюмина, казненного Николаем I декабриста. Графиня Рюмина, лишенная прав дворянства, после казни мужа родила сына и умерла родами, а сын Михаил был усыновлен управляющим графа Рюмина, Емельяном Васильевичем. Но у него был и другой сын, тоже Михаил, который и был мой дед. Говорили, что огромное богатство моего деда пришло ему от графа Рюмина[1].
Дед мой, Михаил Емельянович, был огромного роста, очень красивый, и ростом он был без малого сажень. И жил дед до 93 лет.
Я помню прекрасный дом деда на Рогожской улице. Огромный особняк с большим двором; сзади дома был огромный сад, который выходил на другую улицу, в Дурновский переулок. И соседние небольшие деревянные дома стояли на просторных дворах, жильцами в домах были ямщики. А на дворах стояли конюшни и экипажи разных фасонов, дормезы, коляски, в которых возили пассажиров из Москвы по арендованным у правительства дедом дорогам, по которым он гонял ямщину из Москвы в Ярославль и в Нижний Новгород.
Помню большой колонный зал в стиле ампир, где наверху были балконы и круглые ниши, в которых помещались музыканты, играющие на званых обедах. Помню я эти обеды с сановниками, нарядных женщин в кринолинах, военных в орденах. Помню высокого деда, одетого в длинный сюртук, с медалями на шее. Он был уже седым стариком. Дед мой любил музыку, и, бывало, сидит один дед в большом зале, а наверху играет квартет, и дед позволял только мне сидеть около себя. И когда играла музыка, дед был задумчив и, слушая музыку, плакал, вытирая слезы большим платком, который вынимал из кармана халата. Я тихо сидел около деда и думал: «Дед плачет, так, значит, надо».
Отец мой, Алексей Михайлович, тоже был высокого роста, очень красивый, всегда хорошо одетый. И я помню, панталоны на нем были в клетку и черный галстук высоко закрывал шею.
Я ездил с ним в экипаже, похожем на гитару: мой отец садился верхом на эту гитару, а я сидел впереди. Меня держал отец, когда ехали. Лошадь у нас была белая, звали Сметанкой, и я ее кормил с ладони сахаром.
Помню вечер летом, когда на дворе поблизости ямщики пели песни. Мне нравилось, когда пели ямщики, и я сидел с братом Сергеем и своей матерью на крыльце, с няней Таней и слушал их песни, то унылые, то лихие, с посвистом. Они пели про любушку, про разбойников.
- Девушки-девицы раз мне говорили,
- Нет ли небылицы из старинной были…
- Возле бора сосенок береза стоит,
- А под той березою молодец лежит…
- Вечерний звон, вечерний звон,
- Как много дум наводит он
- Про отчий край, про край родной…
- Не одна во поле дороженька пролегала широка…
Хорошо помню, когда наступал поздний вечер и небо охватывала мгла ночи, над садом показывалась большая красная комета, размером в половину луны. У нее был длинный хвост, пригнутый вниз, который лучился светящимися искрами. Она была красная и будто дышала. Комета была страшная. Говорили, что она к войне. Я любил смотреть на нее и каждый вечер ждал, ходил смотреть на двор с крыльца. И любил слушать, что говорят про эту комету. И мне хотелось узнать, что это такое и откуда пришла она пугать всех и зачем это.
В большие окна дома я видел, как иногда ехала, запряженная четверкой лошадей, по улице Рогожской страшная повозка, высокая, с деревянными колесами. Эшафот. И наверху сидели двое людей в серых арестантских халатах, со связанными назад руками. Это везли арестантов. На груди каждого висела большая, привязанная за шею черная доска, на которой было написано белым:Вор – убийца. Отец мой высылал с дворником или кучером передать несчастным баранки или калачи. Это, вероятно, так было принято из милосердия к страждущим. Конвойные солдаты клали эти дары в мешок.
В беседке сада летом пили чай. Приходили гости. У отца часто бывали его друзья: доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков и еще молодой человек Латышев, художник Лев Львович Каменев и художник Илларион Михайлович Прянишников, совсем юноша, которого я очень любил, так как он устраивал мне в зале, опрокидывая стол и покрывая его скатертями, корабль «Фрегат „Палладу“». И я залезал туда и ехал в воображении по морю, к мысу Доброй Надежды. Это мне очень нравилось.
Также я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке, кистью рисовала в альбом такие хорошенькие картинки – зиму, море, – такие, что я улетал куда-то в райские края. Отец мой тоже рисовал карандашом. Очень хорошо, говорили все – и Каменев, и Прянишников. Но мне больше нравилось, как рисовала мать.
Дед мой Михаил Емельянович хворал. Сидел у окна летом, и ноги его были покрыты меховым одеялом. Я и мой брат Сергей сидели тоже с ним. Он нас очень любил и меня расчесывал гребешком. Когда по улице Рогожской шел разносчик, то дед звал его рукой, и разносчик приходил. Он покупал все: пряники, орехи, апельсины, яблоки, свежую рыбу. А у офеней, которые носили большие белые коробы с игрушками и выкладывали их перед нами, ставя на пол, дед также покупал все. Это было радостью для нас. Чего только не было у офени! И зайцы с барабаном, и кузнецы, медведи, лошади, коровы, которые мычали, и куклы, закрывающие глаза, мельник и мельница. Были игрушки и с музыкой. Мы их потом ломали с братом – так хотелось узнать, что внутри их.
Моя сестра Соня заболела коклюшем, и мать увезла меня к няне Тане. Вот где было хорошо… У ней было совсем по-другому. Небольшой деревянный дом. Я лежал больной в постели. Бревенчатые стены и потолок, иконы, лампадки. Таня около меня и ее сестра. Замечательные, добрые… В окно виден сад зимой в инее. Топится лежанка. Все как-то просто, как надо. Приходит доктор Плосковицкий. Я был рад всегда его видеть. Он прописывает мне лекарства: пилюли в таких хорошеньких коробочках, с картинками. Такие картинки, что так никто не нарисует, думал я. Часто приезжала и мать. В шляпе и кринолине, нарядная. Привозила мне виноград, апельсины. Но запрещала мне давать есть много и сама привозила только суп-желе, зернистую икру. Доктор не велел меня кормить, так как у меня был сильный жар.
Но когда мать уезжала, то моя няня Таня говорила:
– Так касатика (это я – касатик) уморят.
И мне давали есть жареного поросенка, гуся, огурцы, и еще из аптеки приносили длинную конфету, называлась «девья кожа», от кашля. И все это я ел. И «девью кожу» от кашля без счета. Только Таня мне не велела говорить матери, что меня поросенком кормят, и про «девью кожу» ни гугу чтоб. И я ни за что не говорил. Я верил Тане и боялся, как говорила ее сестра Маша, что, не евши, меня уморят совсем. Это мне не нравилось.
А на коробочках – картинки… Такие там горы, елки, беседки. Мне сказала Таня, что недалеко за Москвой такие растут. И я подумал: как только выздоровлю, уйду туда жить. Там мыс Доброй Надежды. Сколько раз я просил отца поехать. Нет, не везет. Уйду сам – погодите. И Таня говорит, что мыс Доброй Надежды недалеко, за Покровским монастырем.
Но вдруг приехала мать, прямо не в себе. Плачет навзрыд. Оказалось, что сестра Соня умерла.
– Это что же такое: как умерла, зачем?..
И я ревел. Я не понимал, как же это так. Что такое это: умерла. Такая хорошенькая, маленькая Соня умерла. Это не надо. И я задумался и загрустил. Но когда мне Таня сказала, что у ней теперь крылышки и она летает с ангелами, мне стало легче.
Когда настало лето, я как-то сговорился со своей двоюродной сестрой, Варей Вяземской, пойти на мыс Доброй Надежды, и мы вышли через калитку и пошли по улице. Идем, видим – большая белая стена, деревья, а за стеной внизу река. Потом опять улица. Магазин, в нем фрукты. Вошли и спросили конфеты. Нам дали, спросили, чьи мы. Мы сказали и пошли дальше. Какой-то рынок. Там утки, куры, поросята, рыба, лавочники. Вдруг какая-то женщина толстая смотрит на нас и говорит:
– Вы чего же это одни?..
Я ей насчет мыса Доброй Надежды, а она взяла нас за руки и сказала:
– Пойдемте.
И привела нас в какой-то грязный двор. Повела на крыльцо. В доме у нее так нехорошо, грязно. Она посадила нас за стол и поставила перед нами коробку большую картонную, где были нитки и бисер. Бисер очень понравился. Она привела других женщин, все смотрели на нас. Дала нам к чаю хлеба. В окнах уже было темно. Тогда она нас одела в теплые вязаные платки, меня и сестру Варю вывела на улицу, позвала извозчика, посадила нас и поехала с нами. Приехали мы к большому дому, грязному, страшному, башня-каланча, и наверху ходит человек – солдат. Очень страшно. Сестра ревела. Вошли по каменной лестнице в этот дом. Там какие-то страшные люди. Солдаты с ружьями, с саблями, кричат, ругаются. За столом сидит какой-то человек. Увидев нас, вышел из-за стола и сказал:
– Вот они.
Я испугался. И человек с саблей – чудной, будто баба, – повел нас наружу, и женщина тоже пошла. Посадили на извозчиков и поехали.
– Ишь пострелы, ушли… неслухи, – слышал я, как говорил человек с саблей женщине.
Привезли нас домой. Отец и мать, много в доме народу, доктор Плосковицкий, Прянишников, много незнакомых. Тут и тетки мои, Занегины, Остаповы, – все нам рады.
– Куда делись, где были?..
Человек с саблей пил из стакана. Женщина, которая нас нашла, что-то много говорила. Когда человек с саблей уходил, то я просил отца оставить его и просил, чтобы он дал мне саблю, ну хотя бы вынуть, посмотреть. Эх, хотелось мне такую саблю иметь! Но он мне ее не дал и смеялся. Я слышал, что кругом много говорили в волнении и все про нас.
– Ну что, видел, Костя, мыс Доброй Надежды? – спросил меня отец.
– Видел. Только это за рекой, там. Я туда не дошел еще, – сказал я.
Помню, все смеялись.
Как-то зимой дед захватил меня с собой. Проехали мы мимо Кремля, через мост реки, и подъехали к большим воротам. Там стояли высокие здания. Мы слезли с саней, прошли во двор. Там были каменные амбары с большими железными дверьми. Дед взял меня за руку, и мы спустились по каменным ступеням в подвал. Вошли в железную дверь, и я увидел каменный зал со сводами. Висели лампы, и в стороне стояли в шубах татары в ермолках. В руках у них были саквояжи в узорах из ковровой материи. Еще какие-то люди, знакомые деда моего: Кокорев, Чижов, Мамонтов. Они были в шапках и теплых хороших шубах с меховыми воротниками. Дед здоровался с ними. Они посмотрели и на меня и сказали: «Внук».