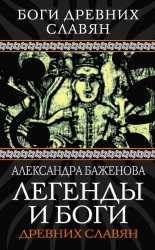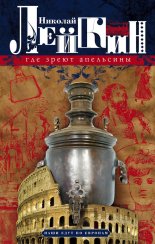Красное колесо. Узел 2. Октябрь Шестнадцатого. Книга 2 Солженицын Александр

– Пружина отдаёт, если на неё слишком жать. А не надо жать.
– Вот-вот, – опять покачивался на стуле, опять качался на своём упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. – Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и правительство и Государя – а о них вы посмеете вслух промолвить хоть осьмушку того? Да никогда! А почему? Вот это и называется – страх иудейский! Загнаны! Они нам ещё на голову сядут! Этот избранный народ на чью палубу всходил – тот корабль бортами черпал. Так и Россию погубят.
– Нет!! Нет! – вмешался тут Воротынцев. – Так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда – то сами и виноваты. – Досадно, вся редкая встреча поворачивалась вхолостую и кончится ничем. – Я много лет замечаю: еврейский вопрос – это такой колючий, растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя, и решить нельзя, и никто не остаётся равнодушным. А между тем…
Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытее в болезни и печали, но и глубже:
– Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаёшься и не можешь не признать, что он – самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, – улыбнулся Гучков. – Так вот, кадеты поддались, и всё это приняли. Но и вы, Виктор Андреич, поддаётесь с другой стороны.
Нельзя уже было проще оторвать их от спора, как подкатить скорей к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрей проговаривая:
– По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или: евреи – это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрёк разложится на всех. Или: это – сплошь тёмные, злобные заговорщики, которых как единое целое можно только ненавидеть, и подозрительно, когда любят хоть отдельных из них. И всякая попытка ввести оговорку, не сплошь нежно любить или не сплошь страстно ненавидеть, отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посередине? Вот я считаю, что я стою прочно посередине. Я – решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллектуальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.
– Значит – послабить? – громогласил Свечин с непокидающей жёсткостью. – Так сразу они на голову и сядут! Вот в этом и секрет, понимаешь? – они не могут и никогда не согласятся по-равному. Как только им послабишь – сразу на голову!
– Мне кажется, – сосредоточился Гучков, разглядывая своё пенсне как самую большую загадку, – и я тоже занимаю среднюю позицию. Я… и мои некоторые единомышленники… мы понимаем вот как. Евреи – нам посланы. Не во всякой стране их шесть миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Расплетутся ли когда или нет – не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб – «иллюминациями», надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, тёмные мужики не понимают, что делают, Россия жжёт и громит сама себя, – а для депутата русского парламента… Ну, что о покойном… Затем, я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны, признаюсь, что и я их, в общем, больше – не люблю. Но: они – нам посланы. И поскольку государство – наше, мы должны это переплетение решить приемлемо для всех. В Европе? – с ними обращались жёстче, чем у нас. Черта оседлости? – когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависи – от международных еврейских денег. И в периодической печати они всесильны, да. И художественная, и театральная критика – в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений. И тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять.
– Вы и не заметите, – горели чёрные глаза Свечина по обе стороны крупного, сильного носа, – как всё уступите. Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расшатывание власти. Тк вы – и бросаете искры по крышам, Александр Иваныч.
Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке всё так же держа витиеватый защем неразгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть не от света, а от громкого собеседника. И как бы ещё проверял сам с собой:
– Но не можем мы отказаться от Освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули…
И Воротынцев:
– Ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность: евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важней еврейского. Ехал я две тысячи вёрст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы…
Чтобы?
Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые, неоживлённые карие глаза с выкатом, пожалуй тоже нездоровым, но самый взгляд – взгляд бойца.
Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел.
…Чтобы?..
Да такие, как Воротынцев, – неужели ж ему не нужны?
Хотя закралось теперь: а под то– понимает Гучков то или не то?..
…Чтобы?
Да господа, да неужели же мы, такие решительные, умные, энергичные люди, – и не сумеем ничего придумать? не сможем спасти дела?..
Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью.
Гучков не стал его есть. А приятелям – отрезали, и они приложились трудиться.
Пока лакей был – помолчали, но и когда вышел – что-то разговор не возобновлялся. Свечин вдруг замолчал так же круто и безповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков очевидно берёг аппетит на следующий обед, или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино – и тоже молчал. Воротынцев – не мог говорить прямо, но надо было поддержать в том направлении:
– А интересно, Александр Иваныч: Алексеев – ответил вам на ваше письмо?
Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу:
– Нет. Но. За него ответил Штюрмер.
– Как так?
– От имени Верховного запретил мне въезд в Действующую армию. Даже к санитарным поездам. Ну, тем более, конечно, в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. – Щурился. – Без армии я – что?
Не удержался Свечин, и тут поперёк:
– А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, и вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооружённых сил, что ваша дрянная, слякотная, жалкая власть гниёт на корню, – и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они ж вот вам на Кавказский не препятствуют…
Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался:
– Предупредил Штюрмер и о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции – наверно, ни за какими бомбистами никогда… По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовём кличками. Не удивлюсь, Георгий Михалыч, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведётся реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим паккардом гнали филёры на лихаче и теперь у подъезда дежурят.
– Ну, Алексееву тоже досталось, не думайте, – упрямился Свечин. – И с Государем у него, конечно, было объяснение.
– Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? – грустно, через силу улыбался Гучков.
– Наверно. Примерно. И Алексеев, надо думать, отрёкся от вас.
Гучков поднял брови. Опустил. Узнавая. Что ж, политическая борьба – она такая и есть.
– И заболел во многом от этого.
– Ну не совсем так, ты говорил!
– Про болезнь я слышал, – кивал Гучков.
– И теперь, наверно, уйдёт в длительный отпуск, лечиться.
– В отпуск? – насторожился Гучков. И сразу: – И кто же вместо него? – С нескрываемым значением, неспроста.
Да, в самом деле: кто же? Ещё бы не важно.
Свечин любезно:
– Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолопа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие: Головин или Рузский.
Головина?.. Неужели подымут? Нашего?..
Гучков насадил пенсне. Оно заблестело повеселей:
– Головин – это бы замечательно.
Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору: замечательно? А – для чего? В каком смысле?
– Корпусами смело будет двигать, – предсказал. – А сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас, генкварт Девятой. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.
– И надолго это? – спрашивал Гучков очень заинтересованно. – А вы, Георгий Михалыч, в этом случае как? Не попытаетесь вернуться в Ставку?
Догадался… Воротынцев энергично потёр щётку бороды, выражая глазами больше, чем словами:
– Во-первых, захочет ли Головин? И – он ли ещё будет? Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих – нужен ли я там, Александр Иваныч? Там ли я нужен? Как это правильно понять?
И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.
– Рузский? – перебирал тот как своих подчинённых. – Вяловат. И слишком эгоист. А – кто ещё может быть?
Покинуло Гучкова бездеятельно-грустное, гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел. Сосредоточился.
– Да что ж вы не курите, господа? Вероятно ведь курить хотите.
А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть. Задымили, Свечин трубку. Развалились.
Гучков тщательно прошёл тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, по верху бороды. Отложил.
Поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая, по небольшому пространству, несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел.
Снова сел. Руки собрал в замок перед собой.
– Господа. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях? Возьму с вас слово чести?
Да, конечно, разумеется.
И – чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт. Седина у него только чуть прорисовалась – по переду бобрика и по краям бороды.
– Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, чт ещё не упущено… совершить.
Так! Дождался Воротынцев часа своего! Не опоздал. Был здесь.
Гучков больше на него и смотрел.
С сознанием своей славы и власти в этой стране.
И с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его черезо всю жизнь.
– Я хотел бы обсудить с вами: что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час родину направляет режим фаворитови шутов? Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым всё дано, но с которых и спросится историей?
41
(Александр Гучков)
Род Гучкова. – Убить Дизраэли. – Молодость Гучкова. – Нигде не свидетель, везде участник. – Его первые советы трону. – Как прошёл Манифест 17 октября. – «Союз 17 октября» и его программа. – Как её толковали Шипов и Гучков. – Поражение октябристов на выборах в 1-ю Думу. – Урок Шипова. – Гучков приближается к Столыпину. – Второй приём у Государя. – Гучков поддерживает военно-полевые суды. – Поддерживает закон 3 июня 1907. – Кто виноват в неудачах Японской войны. – Состояние армии. – Положение офицерства. – Робость военных реформ. – Гучков содействует им. – Атакует великих князей. – Теряет расположение Государя. – Феноменальность гучковских думских речей. – 3-я Дума и доброжелательство между обществом и властью. – учков в защиту Столыпина в 1909. – В обличение террора. – Вокруг взрыва Петрова-Воскресенского. – Особенности парламентского центра. – Союз правых и левых против крестьянских реформ. – Гучков – председатель Думы. – Неудача с Государем. Хлопнул думской дверью. – Отшат от Столыпина весной 1911. – Запрос об убийстве Столыпина. – Запрос о Распутине. – Враг императорской чете. – История и дуэль с Мясоедовым. – Провал октябристов и Гучкова на выборах в 4-ю Думу. – Гучков меняет линию борьбы: примирение с властью невозможно. – Гучков покинут. – Его балканские попытки. – В эту войну. – Бьёт тревогу в 1914, втуне. – Укрепляется в 1915. – Опережая кадетов в оппозиции. – Дворцовый переворот?..
Фёдор Гучков, дед Александра, был крепостным дворовым человеком малоярославецкой помещицы. В конце позапрошлого века, тринадцати лет, он попал в Москву и был отдан учеником в суконную лавку за 20 копеек в месяц (гривенник помещику, гривенник ему). Женился на крепостной, выкупил себя и семью, устроил в Преображенском шерстяную фабрику с английскими станками. В семье считалось, что мысль поджигать Москву с подходом Наполеона принадлежала ему. Всё сгорело – но он всё возобновил и расширил. Однако ещё при жизни оставил фабрику и торговое дело сыновьям, а сам был сослан в Петрозаводск за упрямое старообрядчество. Сын его Иван, полюбив замужнюю француженку Корали Вагез, переодевался кучером, чтобы проникнуть в её квартиру на кухню, – и так увлёк её, увёз от мужа и женился, всем этим порывая со старообрядством. От того брака было четверо сыновей, среди них и Александр. Хотя и этот не вовсе выбился из плоти московского купечества, состоял членом банковских и акционерных правлений и директоратов (впрочем, не был богат, наследство уступил брату Фёдору, и отец не считал его хозяином), – жизнь Александра сложилась необыкновенно для его рода и окружения, лишний раз убеждая, что наш характер и есть наша судьба.
Уже гимназистом он испытал немалые общественные страсти. В семье его, как бывшей крепостной, было поклонение Александру II – и после выстрела Засулич Саша Гучков в школе заступился за правительство: стрелявшая подняла руку на доверенное лицо Государя! Соученики побили его за это. Но вскоре же понял он и сам неотвратимую прелесть террора: от позора Берлинского конгресса, английского флота в Босфоре, Саша решил своей рукой убить Дизраэли за антирусскую политику, во имя чести России. Купил револьвер, учился стрелять, готовил деньги на побег в Англию – и восторгался счастьем пережить казнь за Россию. Но доверился брату, брат выдал отцу – и всё разрушилось. (Через тридцать лет главою нашей думской делегации в Лондоне остановился перед памятником лорду Биконсфилду: «А ведь ты мог погибнуть от моей руки!»)
Окончив московскую гимназию с золотой медалью, затем и московский университет «кандидатом» (то есть тоже с отличием), он ещё пять лет ездил в Германию доканчивать там образование, слушать семинарии философские и экономические, и притом написал несколько работ – об общественном землевладении, о страховании, о хозяйственной жизни древнего Новгорода, и доискивался (как безсознательно предчувствуем мы сами себя): участвовала ли Екатерина в государственном заговоре Мировича? В 23 года Гучков сдал в гренадерском полку экзамен на прапорщика, и это не было простым отбытием повинности университетским человеком, как и в 26 лет не случайно было избрание почётным мировым судьёй Москвы, в 31 – членом московской городской управы: гражданская и военная деятельность пересеклись и переплелись на жизни Гучкова – парламентского оратора, государственного человека, армейского застойника, солдата, отличного стрелка.
Можно понять, что очень рано и с болью он осознал распространённое русское интеллигентское свойство – не шибко любить делать дело, больше о нём разговаривать, спорить, а если уж и взяться, так не доделывать до конца, прощать себе и другим оставшиеся вершки. Может быть от крепкой крестьянско-купеческой натуры ощутил в себе Александр Гучков способность и волю: делать и доделывать. И в то время, как бывший его университетский товарищ Павел Милюков всё больше сладости находил в диспутах и лекциях, Гучкова из библиотек и аудиторий срывало к студенческим дуэлям в Германии, к бою, и к делу. Никогда не свидетель, везде – участник, и даже сорвиголова.
Услышав о голоде в России, покидал он берлинский университет – и кидался в нижегородскую глушь: стать волостным писарем и кормить деревню. Резали турки армян – Гучков кидался туда. Опасна охранная стража на сооружаемой Маньчжурской железной дороге – Гучков, покинув муниципальную деятельность в Москве, уже там, служит офицером и даже ищет боевых столкновений. Отсюда близко Тибет – и он странствует к заветным местам его. Его мучит поиск грандиозного. Началась далёкая романтическая бурская война, кто-то волнуется над газетными депешами, кто-то поёт «Трансвааль в огне» – Александр Гучков с братом Фёдором уже добровольцами среди буров, и даже храбрые буры удивляются его самообладанию в бою: под картечью он остаётся распутывать постромки зарядного ящика, высвобождая мулов из гибели. За все эти годы не раз приходится ему писать прощальные письма родителям на случай своей неизбежной смерти. В бурской войне едва не потеряна нога, осталась хромота на всю жизнь; с 26 лет уже мучает его грудная жаба. Но вспыхивает восстание македонских четников против турок – и вот уже Гучков едет добровольцем туда. Лишь на 41-м году безпокойный этот человек женится. 42 года ему – и он уходит на Японскую войну, хотя не с винтовкой, а уполномоченным Красного Креста и московской управы (впрочем, не минует его и короткий японский плен).
И может, ещё и на том не унялся бы он отзываться на дальние мировые события, если бы самые главные события (тогда ещё никто не прозревал, что – всемирные) не заклокотали бы в самом сердце России. И всё, что делал Гучков до сих пор, загорался и кидался пособлять, – оказалось лишь брожением молодым, лишь подготовкою мужа к событиям государственным. Теперь-то пришлось попробовать, чт сдюжит он для России.
Уже довольно было имя его известно, и по Москве заметный был он человек. Воротясь из Маньчжурии весною 1905, узнал он, что от московской городской думы избран на майское земское совещание. Там уже всё более выдвигались не собственно земцы: Петрункевич, Милюков, Родичев, братья Долгоруковы. Совещание поразило приезжего накалом своей революционности. Хотя и избиралась депутация к царю посоветовать ему конституцию, но многие жаждали, чтоб отказано было в приёме, и можно было бы неогляднее разворачивать революцию. Умеренная шиповская группа, и в ней Гучков, осталась в порицаемом меньшинстве. Но Гучкову, не избранному в депутацию, как раз во время съезда пришло личное приглашение в Петергоф к Государю (наслышанному о деятельности Гучкова в Красном Кресте и о спорах с Милюковым). Был принят, беседовал целый вечер, при встрече милостиво присутствовала государыня (далеко не предвидя в этом купчике своего будущего лютого врага). Это было сразу после Цусимы и ещё до приёма земской депутации. Гучков, как он понимал себя и самодержца, дал советы мужественного, бывалого человека – человеку засидевшемуся, отгороженному от жизни и робкому: не дать внутренней слабости одолеть Россию, ни в коем случае не идти на перемирие с Японией, где игра внешних держав решит русскую судьбу; но, уж ввязавшись, продолжать стоять против Японии, а в России быстро, без сложных выборов, собрать Земский Собор – от дворянства, крестьянства и горожан, явиться туда самому и выступить смело, что в прошлом было много сделано ошибок, они не повторятся, но сейчас не время реформ, а время – окончить эту войну, при единстве страны не может Россия проиграть Японии – и не проиграет! В Земском Соборе будет почерпнуто недостающих сил, это передастся и армии, она воспрянет духом, передастся и Японии, все расчёты которой – на общественный развал в России. И несколько раз Государь в раздумьи повторял: «Да, вы правы. Вы совершенно правы». (И в тех же днях советчику противоположному – что Земский Собор только усилит революционное движение, продолжение войны грозит России гибелью, и надо немедлнно заключать мир во что бы то ни стало – Государь согласно повторял: «Вы совершенно правы. Именно так надо поступить».)
Обласканный Гучков в то лето был позван и на узкое петергофское совещание по выработке проекта Думы. Все там предлагали выборы сложно-сословные, чтоб не упустить руководства, только Шипов и Гучков – общенациональные (но – ступенчатые, по степени достоверной известности кандидатов избирателям, отнюдь не прямые).
Если открыть Верховной власти разумный путь – отчего б она не пошла этим путём? Нет! Безмысло и бездарно ту войну начав – бездарно и невыгодно спешили только вытянуть ноги из проклятой Азии. Внутри России вместо смелых шагов всё лето перебивались малыми, трусливыми и опозданными, а когда помнилось, что вода уже под горло – выбросили сумбурный Манифест 17 октября. Манифест был вырван не потому, что у власти не было физической силы (она – была, и проявлена через два месяца при подавлении московского вооружённого восстания), – но коснеющая царская воля испытывала перерывы уверенности, и в такие перерывы от неё бралось всё, что угодно.
Осудили Манифест правые, осудили и левые. Настроение общества было: царь задрожал? уступает? – так вырвать большее, а взятое – ничто! (Когда в ноябре Гучков предложил земскому съезду осудить насилия и убийства как средства политической борьбы – «конституционное» большинство съезда отказалось принять такую фразу!) Кадеты отказались войти и в «полуобщественный» кабинет Витте.
Отказались и приглашённые к тому Шипов, Гучков, орловский предводитель Стахович, князь Евгений Трубецкой, ибо сочли, что зовут их для показа, перемешать со старыми администраторами, но не реально обновить политику. Шипов же настаивал, что они – меньшинство, а большинство – левые, и именно их надо звать, чтобы общество поддерживало правительство.
Однако за совместные поездки из Москвы в Петербург и обратно, то на консультации о законосовещательной Думе, то на переговоры о вхождении в кабинет, Шипов, Гучков и Стахович в долгих беседах обнаружили и утвердили основания новой партии.
Вослед Манифесту сразу заплодилось много партий, тем мельче, чем их больше. Шиповская группа этой проблемою партийной группировки была застигнута врасплох: она вообще ведь была против всякой политической борьбы. Теперь и конституционное устройство и партии приходилось принимать как неизбежное зло, всё равно уже введенное волею монарха. Не оставалось другого пути, как принять и свою долю тяготы в новом устройстве. С другой стороны, единственное практическое расхождение с земским большинством – конституция, первенство правового начала, всё равно уже было введено, так что практически Шипову ничто не мешало бы вступить и в партию кадетов. Но разделяла, как он говорил, чуждость кадетов основам народного русского духа.
А Гучков и был за конституционную монархию, именно такую, как обещал Манифест, с ответственностью правительства перед монархом, а не партиями. Он не одобрял наступательного настроения левых земцев, кадетской требовательности парламентаризма ради парламентаризма. Для него Манифест был хорош как он есть, и только опасался Гучков, как бы власть не стала выкрадывать его по частям назад.
И согласились Шипов и Гучков, что пришло время политически объединить всех тех, кто хочет осуществить Манифест – утвердить новый государственный порядок, но при сохранении авторитета монарха; кто одинаково отвергает и застой и революционные потрясения, у кого есть это ощущение исторической глуби, вековой устойчивости, которую надо сохранить в её новом развитии. А для того создать не партию, но союз партий – чтоб избиратели не группировались мелко, разномыслием по частным вопросам лишь усиляя партийную рознь, но – единомысля в основном. Первый такой союз – не против правительства, но в поддержку его.
В начале ноября 1905 шестнадцать основателей объявили о «Союзе 17 октября», приглашавшем в себя мелкие партии с сохранением их программ. Не могли войти только: сторонники неограниченного самодержавия и сторонники демократической республики. Средь главных положений программы нового Союза были: все гражданские права и неприкосновенности; уравнение крестьян в правах с другими сословиями; признание государственных и удельных земель фондом земельной нужды; допустимость и принудительность отчуждения частных земель, но при справедливом вознаграждении и в исключительных случаях; для рабочих – страхование, ограничение рабочего дня и даже свобода стачек, но при условии, чтобы не страдала жизнь прочего населения и государственные интересы; прогрессивный прямой налог (чем богаче, тем больше платит) и понижение косвенных.
Устроители «Союза 17 октября» торопили скорейший созыв Думы – в мечте, что тогда и начнётся тесное единение монарха с народом. А между тем быстробегущие недели накатывали на Россию сотрясения и испытания: пьяный мятеж в Кронштадте, флотский мятеж в Севастополе, волнения в губерниях, убийства, террор, паралич всей Сибири, вооружённое восстание в Москве, а в ответ – «режим чрезвычайной охраны» вместо «незыблемых основ гражданских свобод», обещанных Манифестом: левые круги и правительство, как бы наперехват, друг друга выпереживая, сшибали и топтали тот злополучный Манифест. И «Союзу 17 октября», всю свою деятельность полагавшему от Манифеста, приходилось спорить о своём заветном ещё прежде, чем Союз учредился вполне.
Эту среднюю сложную миротворную линию устроители объясняли так:
Шипов: Кому дорого мирное преобразование государственного строя, должен с появлением Манифеста признать революционное движение в стране законченным и доброжелательными усилиями содействовать проведению новых начал. Мы отмежёвываемся и от левых, и от правых партий. От правых, потому что они силятся сохранить старый приказный строй, приведший нас к Цусиме. От левых, потому что весь русский народ привержен идее монархизма, а не деспотизма олигархии или массы. Монарх – выше всех политических партий, и свобода и право каждого гражданина наиболее обезпечены при конституционной монархии. В отличие от левых партий мы считаем, что человек должен быть не только свободным, но и проникнут нравственным идеалом.
Здесь председатель ЦК «Союза 17 октября» сильно приподнял, приписывая свою высокую программу разношерстному соединению, составившему Союз. Для Шипова задачи нового Союза совпадали с его давней мечтой:
устранять из политической борьбы раздражение, предвзятую подозрительность, взаимное недоверие; политическую борьбу сводить по возможности к доброжелательному выяснению спорных вопросов, к установлению соглашений, приемлемых для спорящих сторон.
Гучков: Мы не можем относиться отрицательно к тому, что создано старой Россией. И монархическое начало тоже должно быть перенесено обновлённым в новую Россию.
В Охотничьем клубе на Воздвиженке, где триста прекрасно одетых людей слушали уверенных ораторов, съезд октябристов как будто мог торжествовать: сложная средняя линия общественного развития была ясно выражена в речах и неоспоренно принималась аудиторией. Но когда вскоре начались выборы в Думу – мелкие партии и их кандидаты легко откалывались от «Союза 17 октября», вступали в любые безпринципные блоки, лишь бы быть избранными. И собранная силища Союза оказалась трухой. А общество, всё более обозлённое и убеждённое, что никакие соглашения с этой властью невозможны, не отдавало голосов странным проповедникам какой-то средней линии и соглашения. И на выборах в Первую Думу в начале 1906 года октябристы потерпели сокрушительное поражение, даже сами Шипов и Гучков не были избраны. И как будто зря они эти месяцы силились воплотить свои высокие принципы в послушное политическое тело.
То был кризис для обоих, но, при разнице возраста всего в 11 лет, для Шипова – переломивший его общественную деятельность на нисходящую ветвь, для Гучкова – взмывший его жизнь по восходящей. Не хочется сказать, что от поражения, но от сошедшихся нескольких причин на том они и разошлись, и даже отчуждились. Вскор после неудачных выборов Шипов уступил Гучкову пост председателя «Союза 17 октября». Была в их расхождении смена эпох, но было и то, что по законам собственной жизни мы должны, отыграв своё, не задерживаться на сцене. Шипова это настигло в пятьдесят пять лет, счастливы те, кого настигает в семьдесят, а иные и в тридцать отжаты.
На этих обзорных страницах мы так много занимаемся Дмитрием Шиповым не потому, что он повлиял на ход русской истории, но именно потому, что с началом самых жестоких сотрясательных лет не повлиял нисколько. Его умеряющие благотворные действия прежних тихих лет, принесшие и успех его медленным основательным замыслам, и всероссийское влияние ему самому, – с началом общественной тряски сменяются чередой поражений, честных самоотказов и полным задвигом в бездействие, отбросом в безсилие. Именно потому мы так внимательны к урокам Шипова, что за четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счёты, или был бы лукав, или корыстен, или славолюбив, – нет! он своим спокойным, обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 – и поста премьер-министра. И – все его советы оказались непринятыми. И – ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, – странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда – отказ…
Урок Шипова напряжённо дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно нравственное действие в истории? Или – какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкой политической жизнью, – много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных интересов и сил, а – из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль.
Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым, и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, – так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершён загиб, ему самому незаметный. Ещё год назад он считал для России конституцию губительным путём. Затем из послушания монаршьей воле стал проводником Манифеста 17 октября – твёрже самого Государя. Теперь же, когда победа – едва, на перевесе – оставалась за властью, Шипов, не замечая, всё более принимал сторону кадетов:
Власть должна отказаться от борьбы с обществом.
В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц, или грозили убийством (брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков официально постановил – убить), однако Шипов не прибавлял: «и общество должно отказаться от борьбы с властью». Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы «не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни», и склонялся отдать последнюю в волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике.
Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встречались Шипов со Столыпиным летом 1906, обговаривая, как вместе создать правительство, – но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу – душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбуждённого, сбивчивого, оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам.
А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишён хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а сделать в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасать – ему не по силам.
Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, не избираемый в Думу, всё более вышибленный и устранённый даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства и из московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслёзная плёнка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешает видеть. Дописывая мемуары осенью 1918, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории, подобная кровавая катастрофа никогда не повторится, окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма, религиозное сознание победило, особенно в Соединённых Штатах; русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалёком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савинков, уже перешедший в христианство.
И такой конец Шипова заставляет усумниться, насколько отчётливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906 согласился бы возглавить русское правительство? (Это – не символическое представление: в тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Г. Е. Львов. В 1917 тот показал, чего стоила вся линия.) Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской Думы? – богоносцу ничто не повредит, он всё равно подымется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную неправоту правоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели постигаемые только интуицией.
Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова, в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли: от первой же встречи, почти мгновенно, всё той же нашей спасительной интуицией, Гучкову без оговорок полюбился его твёрдый, уверенный, мужественный ровесник Столыпин. В наших схожденьях-расхожденьях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убежденьями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определённым взглядом на всякий предмет, прямизной в высказываниях и -
В нём русское было центром всего.
Сам Гучков, к сорока пяти годам из своих передряжных поездок и войн придя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь – перенявши от Шипова руль «Союза 17 октября» в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым: благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу.
А для меня, напротив, всегда большое удовольствие – хорошенько накласть своим противникам!
Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы – до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию кадетской Думе, пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар – хотя б в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтобы кадеты хоть поперхнулись.
Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину, – войти в его первый кабинет Гучков не решился: это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове, за несколько недель до взрыва, Столыпин предложил ему пост министра торговли-промышленности, и программу правительства Гучков одобрял, – а ставил и ставил встречные условия, кого ещё из общества непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны.
В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и Государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свеаборге, а тут – дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе. Тоже звал в министерство. Но, по всему, не отдавал себе отчёта в серьёзности положения. Монарх – как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало
так тяжело на душе, что и сказать нельзя. Петергофские впечатления совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идём навстречу ещё более тяжёлым потрясениям. Но вместе с тем и примирительное чувство, что невинных нет, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости. До боли жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц, целые классы, весь строй, —
писал Гучков жене по свежим впечатлениям петергофской аудиенции. Вся загадка и всё безсилие сгущались в этом странном вежливом Государе, который только и находился спросить солдата – в каком он полку служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста – чт он, старший или младший брат однофамильца-моряка?
Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрёл против сшибающего течения. Когда в августе 1906 были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении:
Революция добивается не реформ (проведение их почитает обязанностью и правительство), но разрушения самой государственности и монархии,
а всё общество, разумеется, негодовало на суды, – Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением:
Твёрдая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идёт междуусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов – жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой: только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей ещё не было у власти у нас.
И через год:
Если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину.
Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твёрдо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни – те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьётся вся остальная жизнь.
Не сразу этот путь пробился: общество жаждало левизны и революции, во 2-ю Думу октябристы так же не попали, как и в 1-ю. Но весной 1907 Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете – чтобы побиться за Думу, собирать октябристов под проклятья и угрозы слева.
Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности «Союза 17 октября»? или только теперь и начинались, как уверенно вёл Гучков:
Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осуждённого уклада к новому.
Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться
только под предводительством сильной царской власти. Конституция (1906) просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных тёмных влияний, -
но не для того, чтобы кинуть её
в распоряжение политических партий и их центральных комитетов! Мы – против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности мы решительно стали на сторону власти,
сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги.
Сам тот Манифест 17 октября сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя – был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 более спокойного развития к парламентскому состоянию?
Тот государственный переворот, который был совершён нашим монархом, как раз и являлся установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная лояльная работа Третьей Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынуто ядовитое жало, столько времени растравлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдёт в созидание.
Так и случилось. Именно с 1907 в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и всё более заметной фигурой общества становился инженер.
Осенью 1907 октябристы прошли сплочённой группой в Третью Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устроения России. Две первых Думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество, – сумеет ли Третья формировать государственный путь страны?
Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, – это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя Совета министров Столыпина: их сотрудничество – не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели, кто лучше её поймёт: при единомыслии – спор и состязание. Одно из первых выступлений Гучкова (май 1908) было: отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию – отказать ей в броненосцах! Иначе
как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародно имена лиц, виновных в катастрофе.
Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде.
С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю Японскую несчастную войну:
Главной виновницей наших неудач была не армия, виновники – наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны; в долгие мирные годы не озаботилось правильной постановкой дела обороны; когда появилась опасность – не отдало отчёта в серьёзности положения. Предполагалось, что это – далёкая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идёт не о Южной Маньчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны, и дух армии был ещё бодр – правительство потеряло веру в себя, в свой народ, и заключило тот мир, который надолго похоронил наше международное положение.
Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач – наше общество, так до конца и осталось в своём ослеплении. Общество оказалось нисколько не прозорливее правительства, они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И всё, что лилось отсюда в армию, – наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, всё это отнимало последнюю бодрость, остаток веры в себя и в успех. Наше общество действовало во всё время войны деморализующе на нашу армию. (Справа: «Правильно!») А в конце войны оно ещё усугубило свою ошибку.
Впрочем, и в армии
канцелярия заполнила всё, подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в Крымской, и в Турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором всё слабое и ничтожное всплывает наверх, а всё талантливое и смелое отбрасывается.
Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но – каждою речью улучшить что-то в отечестве, и особенно – в армии, которой он посвятил свою детельность. То – за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то – за увеличение содержания офицерам, сословию, презренному обществом, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты отечества за всех за них проявить высший воинский дух.
Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклады содержания офицеров и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого Освободительного движения несколько устроили своё материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище, офицерские жёны несут самую чёрную работу, офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далёких окраинах ведут существование прямо не достойное человека. Безпросветность жизни армейского офицера… Невозможность даже под конец жизни обезпечить свою семью.
Тогда как в армии должна быть только одна привилегия – образования, военных знаний и таланта (аплодируют, но не справа),
в ней – незаслуженные, неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей.
Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережётся чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчинёнными, издевательствами, униженьями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке – из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии – куда-нибудь, землемерами, экзекуторами, бухгалтерами. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела, или лица, ни на какую другую службу не годные.
А реформы входят в военное ведомство слишком робко.
И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция, на какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?
Ещё в 1908 Гучков понимал и называл:
Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает.
И – о благовременном переносе заводов от возможного Западного фронта. (До отступления 1915 так и не сдвинулось ничто.) И – о слабости, дряхлости наших крепостей. (Так и оставлены.)
В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор:
Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел: когда же он внесёт законопроект о расширении свободы печати.
Ибо не улучшить нам военного ведомства и особенно легендарного интендантского, пока не будет выслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр (Редигер) решился на безпримерную ревизию над интендантским ведомством.
Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос: известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить: «мне известны гораздо большие злоупотребления». (Смех в центре и слева.) А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям: для вороватых интендантов мы готовы дойти до военно-полевых судов. (Рукоплескания в центре и справа.) Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования. (Слева шум.) И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий. (Бурные рукоплескания. Пуришкевич: «Молодчина, Гучков!»)
В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил думскую комиссию государственной обороны (не допустив туда ни социалистов, ни кадетов), министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи и с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели и повышение окладов офицерству. Наверху были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатий армии и вмешивается не в своё. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами, и Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтоб никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить возможно быстрей, чтобы не прервали, атаковал великих князей:
Совет Государственной Обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обезсилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. («Браво!» Рукоплескания.) Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией («Браво! Верно!»), которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен ещё сказать: должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части – великий князь Пётр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений – великий князь Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица, по своему положению фактически безответственные. («Браво! Браво!») Назвать это своим именем – наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше безсилие. («Верно! Верно!!») Прав был депутат Пуришкевич: мы больше не можем позволить себе поражений! Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но будет тем ядовитым укусом, который сведёт в могилу нашу родину! (Рукоплескания. «Верно!») И если мы требуем от страны тяжёлых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам и потребовать только всего: отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия! (Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа.) Этой жертвы вы вправе от них ждать.
Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена. Спрашивал Милюков в кулуарах:
– Александр Иваныч! Что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят!
– Нет, армия и народ – с нами, не решатся!
А Николай II Столыпину: «Он мог бы это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны». Однако в частном разговоре ответ – улыбка и «вы совершенно правы», и всё остаётся на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей подорван. Но и до 1917 они оставались на подобных местах. А Совет Обороны был распущен, к облегчению.
Терял Гучков былое расположение Государя. А хотел совсем не этого. В начале 1909 при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию:
При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо, -
и за этот ответ Государь отрешил военного министра и назначил на долгие годы… – Сухомлинова. Этот – был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову ещё немало разоблачать и Сухомлинова.
Вспоминал Шингарёв:
Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас – скандал, удаление на пятнадцать заседаний. А его – слушали.
Впрочем, правые – неспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от Верховной власти к Думе. В правых газетах и с думской же трибуны Гучков был обвинён в «младотуречестве», в «раскрытии ран» нашей обороны, подрыве доверия, выносе сора из избы. Гучков отвечал:
Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили: это – неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами, – скорее те, кто держат их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много настрадались, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул: «Нужна вера, вы вселяете безверие». Но есть хуже, чем безверие, – это ложная вера. И мы будем разрушать её везде, где найдём. «Хлопчатобумажный патриотизм», сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. Эти господа не могут мне простить, что я – купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я им ещё добавлю: я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством. (Рукоплескания.) И в моём «хлопчатобумажном патриотизме» вы, может быть, найдёте отзвук другого патриотизма – чернозёмного, мужицкого, который знает цену таким барчукам, как вы.
И разве Гучков не выдержал исходной программы «Союза 17 октября»? Пора Третьей Думы представлялась ему
небывалой с 60-х годов картиной русской жизни: власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизились. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств. Благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера, накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещавшая обновление во всех областях нашей жизни.
О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти! Уже весною 1909, чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону – убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью:
Конституции грозит опасность со стороны правых групп, отставных бюрократов, при новом строе оставшихся не у дел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вёл борьбу с революцией – правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ, и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того как революция отлагалась, поднимали головы со своей короткой памятью те, кто неискренно терпел Манифест как легкомысленную уступку. Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной расплатой как будто исчезнувшие, – они теперь выползают изо всех старых гнойников и захватывают позиции.
А ещё
Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти. Тут он безпощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось тёмное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование.
(Всё же в ту весну Столыпин устоял: ещё недостаточно прискучил Государю и как будто ещё не опасно затмевал его.)
Особенности центра – с такою же силой Гучков разоблачал и левых:
Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружён в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую, безсмысленную злобу?.. Последние годы, отмеченные Освободительным Движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов! Припомните, чем оно закончилось? (Слева: «Оно – не кончилось!») …Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками, он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. И если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм перекочевал в противоположный лагерь; надо признать, что те городовые, солдаты, те генералы, губернаторы и министры, кто в течении многих лет мужественно выстаивают на своём посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, – они и являются истинными героями! (Рукоплескания центра и справа.)
И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан всею Думой – это оздоровило бы нравственное сознание страны,
прекратило бы или ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины.
Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если б осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, непоправимо скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли.
Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несём.
Были и позже случаи противостать левым – всё о терроре. В конце 1909 на Астраханской улице в Петербурге, в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбою начальник петербургского Охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты внесли шумный, кривой запрос о полицейской провокации: что квартира была полицейскою фабрикою бомб. – Но зачем полиции фабрика бомб, да ещё тайная? производить взрывы? – возражал центр. – Нет, подкидывать бомбы перед обысками, – изобретали левые.
Так накалено было в думских крылах – всегда доказывать правоту своих, всегда доказывать виновность тех, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо-цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева (такое возможно было в консервативной Думе!),
кому кадетская фракция верит больше, чем председателю Совета министров,
но упустил, очевидно неумышленно, – язвит Гучков, – как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке (Петрове-Воскресенском), произведшем взрыв, что он был
агентом революции, палачом революционного трибунала, командированным в стан охраны двойником.
А это даёт повод Гучкову высказать, что часто
в полицию являются представители революционных партий с предложениями услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга «всё дозволено в политической борьбе» дошли до лозунга «всё дозволено во всех областях жизни». Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошёл, а теперь наступил период разбойный. Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период Освободительного движения, что каждая так называемая политическая экспроприация – грабёж, чтобы достать средства для революции, сопровождалась всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали: произошла политическая экспроприация.
И, обращаясь к левым:
Если вы будете разоблачать действительно провокационные приёмы полиции – вы всегда найдёте нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией – то нет, слуга покорный!
Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева и справа, то поддерживаемый, то бранимый, – но в вере, что твёрдо ведёт средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания; в надежде, что наконец и власть и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований.
В этом – особенность парламентского центра:
В Думе есть группы, нисколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши товарищи твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет и нужна великая катастрофа;
правые грозят, что Дума к ней и ведёт; власть презрительно смотрит на Думу – нечего с ней считаться; но
разочаруются те и другие, и Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость.
Кто же больше центра заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра: прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых – и так двигаться вперёд, и так отстаивать страну.
Вместе с левыми Гучков: то (1908) поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора: он осмелился требовать запрещённые цензурой книги опечатывать и даже сдавать властям!
то (1909) – за свободу публичного старообрядческого проповедания (все социалисты были конечно за, но эту свободу запрещала православная Церковь);
то – против произвола над присяжными поверенными (адвокатов, передававших заключённым недозволенные вещи, – министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы, каково!);
то (1910):