Рулетенбург Гроссман Леонид
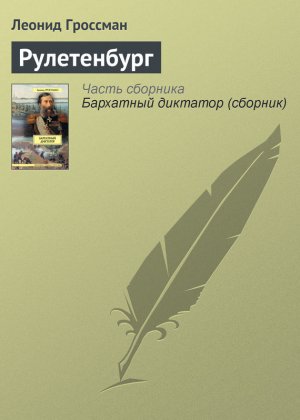
– Ну, вот видите, – продолжал Дубельт, снова погружая в кресло свою сухопарую фигуру, – вы словно уже готовы протестовать против этого обвинения, и я, поверьте, буду первый ликовать, если вам действительно удастся доказать со всей неопровержимостью, что вы не были участником цареубийственного заговора…
– Но никакого заговора и не было, – с глубочайшим убеждением и почти возмущенно проговорил арестованный.
– О, не будьте так убеждены в этом, – вежливо, хотя и с ноткой предостерегающей строгости, возразил Дубельт. – Но если вы лично не замышляли против жизни нашего ангела-монарха, вам это, разумеется, и не будет поставлено в вину. Ошибок у нас не бывает.
– Я смогу доказать, что принимал участие лишь в литературных и экономических прениях. Наши мирные беседы…
– О, я не собираюсь расспрашивать вас о деталях дела, о лицах, о намерениях, о разговорах (он даже чуть-чуть поморщился: как, мол, противна эта следственная кухня с ее придирками и мелкотой!). Меня интересует более общий вопрос – о вашем отношении к некоторым событиям.
Он на мгновенье задумался. Легкая пауза должна была углубить впечатление от сказанного. Он словно хотел подчеркнуть перед Достоевским свое особое отношение к делу – какую-то высшую точку зрения, безупречную позицию верховного руководительства, быть может, чистейшей идейности и высокой принципиальности. Это была та олимпийская отрешенность от всякой пошлости и грязи, которая неизбежно внушает мягкую и светлую благожелательность даже к противнику. Он как бы стремился отчетливо отгородиться от всей этой низменной полицейской процедуры с агентами-провокаторами, сыщиками, шпионами, осведомителями, приставами следственных дел. Он пребывал где-то неизмеримо над ними, парил в лазури, среди светил – в какой-то астральной сфере, словно возвещенной безгрешным цветом его мундира, серебрящейся белизной эполет и солнечными лучами анненской звезды… Это был почти художник, зачарованный светлым видением своего надземного замысла.
Было известно, что Дубельт считал себя отпрыском царствующей католической фамилии и любил выказывать себя – особенно с литературной публикой – благосклонным потомком принцев, аристократически спокойным и безоблачно приветливым. Его бешеную ругань, когда из-под личины этого потомка владетельных князей внезапно выступал вахтер полицейского ведомства, знали клиенты низшего сорта, лишенные возможности запечатлеть на бумаге, хотя бы в отдаленном будущем, черты и жесты жандармского генерала.
Все это было достаточно известно. Достоевского не удивил этот исполненный благоуханной грации величаво-ласковый тон. Не верховный истребитель крамолы, не глава тайной полиции – артист и мечтатель, почти единомышленник, беседовал в своем кабинете с молодым писателем Достоевским. Начальник государственной охраны мог даже позволить себе некоторую задумчивость. Он, впрочем, быстро вышел из своей рассеянности и прервал краткую паузу.
– На следствии вы сможете во всех подробностях доказать вашу непричастность к злодейской конспирации. Тем отраднее будет установить вашу неповинность в покушении на подобное отцеубийство, – смею так выразиться (Достоевский вздрогнул), – тем отраднее, говорю я, что его величество в неизреченном милосердии своем предоставил вам возможность получить в свое время высшее и почетное образование, признал вас своим инженер-прапорщиком и выразил свою высочайшую надежду, что в сем чине вы так достойно и прилежно поступать будете, как то верному и доброму офицеру надлежит…
– Слабость здоровья и склонность к литературным занятиям побудили меня выйти в отставку.
– Это не было поставлено вам в вину, – с успокоительным и сочувственным вниманием, хотя и не без некоторого затаенного налета укоризны, отвечал генерал. – Его величество никого не неволит. Когда же вашею первою повестью вы с таким блеском доказали свою способность служить пером отечеству, государь-император соизволил благосклонно отозваться о вашем сочинении. Его читали при дворе. Великая княгиня Елена Павловна, его высочество герцог Лейхтенбергский нашли всемилостивую возможность оценить вас. К вам отнеслись с вниманием и ободрительным сочувствием. (Глухая укоризна крепла и звучала все явственнее.) Перед вами открывался, быть может, широкий и славный путь, по которому не гнушались шествовать Карамзин и в наши дни Жуковский…
– О, едва ли бы я мог стать придворным писателем!
– Почему же? Разве вам не дорога наша великая Россия? Разве вы не хотите видеть ее мощной и грозной? Непобедимой и славной? Вы ведь русский писатель, а не иностранец, как эти полячишки, французики и немчики, которых согнал к себе господин Буташевич. – Он брезгливо покачивал в руке какой-то канцелярский листок. – Чего только стоят эти имена: Момбелли, де Буст, Балас-Оглы (даже турок затесался)! Ястржембский, ну, конечно – la resurection de la Pologne, так, кажется, требуют в Париже? Оль-де-Коп, Эуропеус.
Он декламировал с недоуменным отвращением, не совсем правильно произнося эти иностранные имена, словно забыв о своей собственной заморской фамилии.
– Так вот они, спасители нашей святой Руси! Только иудеев недоставало… Впрочем, один, кажется, удостаивал своим посещением – музыкантик Антон Рубинштейн, что ли? О, я знаю, что вся эта иностранщина вам глубоко чужда, что вы, слава создателю, не «эуропеус», а настоящий русский душою и сердцем…
– Судьбы моей родины мне были всегда дороже всего. Но, сознаюсь, я не закрывал глаз на темные стороны нашей жизни, на эту вечную подозрительность властей, на продажность наших судейских канцелярий, на удручающую нищету столицы, на приниженность и рабство нашего крестьянства. Неужели же мне, мыслящему человеку, надлежало молча принимать все это неустройство нашей жизни?
– Никоим образом, – почти с предупредительной любезностью отозвался Дубельт. – Ведь для борьбы с тем злом, на которое вы указываете, и существует Третье отделение собственной его величества канцелярии.
Он вспорхнул и прикоснулся своей костлявой рукой к большому стеклянному колпаку. Под ним на легком постаменте повис шелковый фуляр, украшенный коронованным вензелем «Н» в одном из уголков.
– Под этой хрустальной шапкой – вся программа нашей деятельности. Этот платок передал наш премудрый и великодушнейший государь незабвенному графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу с золотыми словами: «Утирай им как можно больше слез – вот моя инструкция». И мы свято выполняем ее. Вступая в корпус жандармов, я дал клятву быть опорою бедных, защитою несчастных, поддержкою угнетенных, другом вдов и сирот, неутомимым борцом с судейскою неправдою… Видит бог, я выполняю мою присягу.
Он с видом умиления поднял к потолку свои круглые несытые глаза лесного хищника. Удержав несколько мгновений молитвенный взгляд на полногрудой нимфе плафона, он с кроткой покорностью перевел его на Достоевского.
– Верьте мне, вы пошли неправильным путем. Ибо сказано: «Никто не может служить двум господам». Разве ваше желанье помогать бедным людям, нищим и угнетенным могло встретить поддержку в этих низких сборищах грубых, полуневежественных людей, неудачников и проходимцев всякого сорта, бессильных и беспомощных болтунов, лишенных всяких средств и влияния? Не изгоняйте бесов силою Вельзевула, князя бесовского! Только рука в руку с правительством, только в согласии с его широкими планами и неисчерпаемыми возможностями, резко отграничив себя от всех этих бессмысленных филантропов, вы могли бы по-настоящему выполнять долг человеколюбивого писателя, одновременно служа пером благожелательнейшим предначертаниям верховной власти.
– Я всегда полагал, чти дело писателя только указать на зло, изобразить его сильно и заразительно, дать его полное отражение, а действовать будут другие.
– Однако вы все же вошли в тайное общество с революционными целями, где изволили неоднократно выступать в качестве деятельного сочлена оного. (Глубочайшая укоризна начинала звучать отдаленной угрозой.) Вас, кажется, особенно занимал так называемый крестьянский вопрос, эмансипация рабов, которые, кстати сказать, нисколько не жалуются на отеческую опеку просвещенного дворянского сословия, возглавляемого священной особою его императорского величества.
– Я ни перед кем и никогда не скрывал, что являюсь сторонником скорейшего освобождения крестьян от помещичьей власти. Мне слишком знакомы наши крепостные нравы – все эти засеченные, изнасилованные, заморенные голодом, жестокой барщиной, дикими помещичьими порками. Я сам видел, как разоряют крестьян страшными поборами, как торгуют на Руси невольниками, отдают дворовых в залог ростовщикам, секут и мучают людей без всякого повода, из одного зверского желания причинять страдания. Я видел страшные, страшные вещи. Я знал одного помещика, который веревчатой плетью заставлял своих рабов плясать и кружиться до упаду, до полусмерти, наслаждаясь их обмороками и бессильем. Недавно только один почтенный барин хвастал предо мною, что он пользуется «невинностями» своих крестьянок, как в феодальную эпоху… А эти несчастные крестьянские дети, которых считают просто приплодом домашнего скота! А все эти забритые в рекруты, искалеченные на конюшнях, прикованные к стенке, проигранные в карты, проданные с молотка без семьи… О, почему они так безгласны, бесправны и беспомощны? Ведь вся земля русская пропитана насквозь слезами, потом и кровью этих беззащитных… Почему ж они так тихи, покорны, безмолвны, почему не стонут, не ропщут? Неужели же считают, что вправе с ними так поступать?
Генерал внимательно слушал говорящего и пристально смотрел в его лицо своими непроницаемыми зелеными зрачками.
– Вы, стало быть, полагаете, что наш народ уже вполне созрел для самостоятельной жизни и свободной деятельности без указующего и направляющего надзора наиболее цивилизованного сословия страны?
Он медлительно свел свои сухие и длинные пальцы и почти приложился к ним губами, пытливо глядя исподлобья на допрашиваемого.
– Я в этом совершенно уверен, генерал.
Дубельт встрепенулся.
– Не сообщите ли мне в таком случае, отчего скончался ваш почтеннейший батюшка?
Достоевский побледнел. Призрак старца с обнаженными чреслами, казалось, повис между ним и генералом. У него захватило дыханье…
– Впрочем, не трудитесь, отца вашего, сколько известно, убили его собственные крепостные. Странно, не скрою, видеть вас в числе сторонников этого темного простонародья, из недр коего вышли убийцы вашего достойнейшего родителя, слуги царя, коллежского советника и кавалера трех орденов.
– Но… может быть… все эти убийства крестьянами своих помещиков сильнее всего свидетельствуют о вреде самого института.
– Допустим. В вашем лице мы, стало быть, имеем убежденного защитника прав закрепощенного народа. Вы полагаете, что обуздание этой многомиллионной черни крепкою поместного властью лишено основания? Это, может быть, и благородно, но…
Перед ним лежала стопка бумаг, и он легко, небрежно и быстро, с поразительной безошибочностью извлекал из кипы нужный листок, бросал на него беглый взгляд и, роняя документ, задавал вопрос.
– Если не ошибаюсь, у покойных родителей ваших состояло имение, кажется, в Тульской губернии, с угодьями, отхожими пустошами, пахотной землей, что-то свыше трехсот десятин, не так ли? Ведь оно осталось в семье, и вы от своей части в общем владении нисколько не отказывались?
Он смотрел на Достоевского задорными, веселыми и наглыми глазами, словно втайне подсмеиваясь над ним.
– Сколько мне известно, – продолжал он, мерцая игривыми взглядами, – вы, вступив в совершеннолетье, не принимали каких-либо мер к освобождению ревизских душ, ни к облегчению барщины, ну хотя бы в виде воздействия на ваших почтенных родственников?
Он обворожительно улыбался. Длинные зубы его плотоядной челюсти весело поблескивали сквозь горделивые усы Меровингов.
– Понимаю, вы личным примером не желали колебать существующий порядок вещей, не правда ли? Весьма похвально: кесарево – кесарю…
Волк оцарапал своим клыком. Это был известный прием следственной беседы с Дубельтом – скрытая язвительность и еле замаскированное издевательство над допрашиваемым. Но тут же, с некоторой иронической театральностью он как бы спохватился:
– Впрочем, кажется, господин Прудон, враг собственности и непримиримейший противник капитала, начал с того, что основал народный банк и пытался ворочать миллионами. Ведь, кажется, так? Вам это должно быть лучше известно…
Сарказм чуть-чуть затянулся. Дубельт, впрочем, уже изменял выражение лица, тему и тон речи.
– Нам известно, – продолжал он снова вполне серьезно, – что вы решительно разошлись с покойным литератором Белинским, которого мы считаем таким же государственным преступником, как и этого Буташевича-Петрашевского. Мы знаем, что вы довольно резко подвергали критике все эти фаланстерии и коммуны, отстаивая исконные русские начала общежития. Мы извещены также, что в компании этих гнусных безбожников вы сохранили верность церкви и не поддались на диаволово искушение… Последнее особенно важно для вас…
Он снова слегка встал и почти подбежал к большому образу с пунцовой лампадой в углу кабинета. Склонив голову и сведя руки на груди над самой гроздью сверкающих крестов и медалей, он беззвучно зашевелил губами под своими свисающими галльскими усами. Потомок католических принцев Медина-Челли широко осенял себя истовым православным знамением.
– Друг мой, – обратился он наконец священническим тоном к Достоевскому, – друг мой, я помолился за вас. Да обратит вас Всевышний, в которого вы веруете, на путь сознания своих ошибок и чистосердечной исповеди. «Сотворите же достойный плод покаяния», как говорится в писании. Стучите и отверзется вам. Дерзай, чадо! Простятся тебе грехи твои… Ведь сам я был молод и грешен, мне ли не понять вас?
(Достоевский вспомнил ходившие о Дубельте слухи, будто в молодости он был известным либералистом, пропагатором восстания, одним из застрельщиков движения в Южной армии и масоном запретных лож.)
Шеф жандармского корпуса отечески смотрел на него погасшими зрачками.
– Если же дальнейший ход следствия и суда обнаружит, – чего, впрочем, я не хотел бы допустить, – с вашей стороны некоторую настойчивость, упорство, неуступчивость, гордость, самолюбие («моей мол убежденья!», «Служу истине и добродетели!» и прочие свойственные молодости, но, в настоящих условиях совершенно недопустимые возражения), то я вынужден предупредить вас, что производство по делу, к которому вы, по несчастью, причастны, поручено его императорским величеством особой следственной и военно-судной комиссии, облеченной высшими полномочиями. О, русский царь достаточно силен, чтоб растоптать в крови измену!
Все это было сказано внушительно, даже с гневной вспышкой в зеленых зрачках, но как-то в виде вставки, отчасти даже между прочим, словно в нарушение главного предмета собеседования. И словно в подтверждение тому Дубельт быстро изменил этот на мгновенье зазвучавший угрозою тон.
– Порядок дальнейшего никто не может изменить кроме государя, – прибавил он не без елейности. – Не забывайте: «Уже секира при корне ствола лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Так, кажется, сказано в третьей главе от Матфея? Примите же смиренно свою участь: вам придется некоторое время пробыть в крепости. О, пусть это вас не путает: генерал Набоков – отец родной всем заключенным. Со своей же стороны я отдам распоряженье, чтобы вам были предоставлены книги, бумага, возможность работать и переписываться с родными.
Он позвонил. В кабинете мгновенно появился щегольской поручик в сопровождении двух жандармов.
– Арестованного отправить немедленно к генералу Набокову под личную расписку, – сухо произнес Дубельт, вручая офицеру запечатанный пакет.
Он встал. Достоевский под конвоем направился к выходу. Дубельт быстро приблизился к дверям.
– А знаете ли, что я вам скажу на прощанье? – Он пронизывал уходящего своими пристальными и горящими глазами: – Я никогда не ошибаюсь в лицах: рано или поздно вы будете наш. Чем скорее это случится, тем лучше для вас. Но помните – это совершенно неизбежно: вы – наш, наш, наш!
Достоевскому стало как-то не по себе от этого неожиданного и настойчивого прорицания.
Караульные уже распахнули двери кабинета. Генерал Дубельт позволил себе последнюю жандармскую любезность к уводимому писателю. Он изящно как-то взмахнул своей сухой и длиннопалой рукой, не то прощаясь, не то благословляя, не то грозя.
– Обдумайте же все! До скорого свидания в следственной комиссии.
Санкт-Питер-Бурх
И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал со своими годами? Куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет?.. Смотри, как на свете становится холодно…
«Белые ночи»
– Сабли вон!
Франт-поручик любезным жестом приглашает следовать за ним между двух обнаженных лезвий. Снова узкая пещера коридора с глухой стеной. Галерея. Аванзал.
Снова торс и улыбка богини с обнаженными чреслами, прекраснозадой («каллипигос»!..) Венус.
Снова карета. Щелкая, хлопает дверца. Рядом бравый поручик, напротив жандармы. Броско тронули лошади, бодро несутся вдоль Марсова поля, словно спешат доставить министра в приемную Зимнего дворца. Но нет, промелькнула Миллионная (здесь жил недавно Бальзак), пронеслась набережная. Карета стучит по дощатым настилам Дворцового моста.
«Кажется, Ладожский лед не прошел, а мосты уже снова наведены?»
Было холодно, как всегда в ледоход. Над рекою пустынно, черно, ветрено, гулко и звонко. Где-то немотствуют сфинксы. Тонут стогны в первозданном сумраке. По весеннему уставу фонари не зажигались. Сквозь синь пролетают кварталы. Прогрохотал под копытами Тучков мост. Проносятся бесконечные улицы Петербургской стороны. И по понтонному мосту карета подкатывает к высокой и гладкой ограде.
Санкт-Питер-Бурх.
Крепость святого Петра принимает его в свои стены.
Здесь карета замедляет аллюр. Сквозь окна видны земляные валы и каменные куртины. – «Система Вобана, столь ценимая Шарнгорстом…»
Широкий пустой равелин замкнут тяжелыми глыбами остроконечных раскатов. Гулко проезжают под вторыми воротами темным туннелем. Дорога вдоль низких домов с решетчатыми окнами выносит к внутренней площади. Справа устремляется в небо тонкой иглой и ниспадает волютами своей колокольни царский собор. Так стремительный взлет водомета низвергается в бассейн, ширясь по концентрическим дискам тарелок и тяжело роняя свои разбитые струи.
Карета останавливается. Офицер деловито и спешно выскакивает и скрывается в невзрачном грязно-белом доме. Через минуту он снова в карете с бумагою-пропуском. Экипаж несется вдоль желтого здания, где тяжко пыхтят и грохочут машины («монетный двор»…), подкатывает к глухому забору и сквозь раскрывшиеся бесшумно и быстро ворота въезжает в тесный и замкнутый двор.
Безнадежно высокие стены бастионов.
Кордегардия. Деревянные, длинные скамьи глаголем вдоль стен. В углу козлы с ружьями.
– Переодеться!
Клетчатые брюки, фрак, пальто и цилиндр Циммермана – последние атрибуты свободной жизни – сняты, отобраны, унесены в занумерованном казенном мешке. Нужно надолго расстаться с нарядными изделиями Рено-Куртеса. Рединготы на шелку, кашемировые жилеты, лондонские плащи дымчатого цвета – прощайте! Вместо них – бурый халат арестанта, суконные портянки, шапка из грубой сермяги, коты на гвоздях.
Равнодушно он слышит приказ:
– В секретный дом, камера номер девять.
Ночью, узким простенком, под сильным караулом, через подъемный мостик над внутренним узким каналом его вводят в низкий старинный приземистый домик, со всех сторон сдавленный каменными глыбами крепости.
В середине коридора направо каземат номер девять.
Тяжелая дубовая дверь с огромным средневековым замком, засовами, петлями, скрепами, вся истыканная крупными выпуклыми шляпками старинных железных гвоздей прошлого века, со скрипом разевает пасть каземата и снова смыкается. Грохот засова по скобкам и скрежет замка.
Он в Алексеевском равелине.
Стены крепостной толщины. Тройные решетки. Окна забелены. Там, за ними, высокие стены бастионов. Только прильнувши к стеклу, увидишь серый клочок петербургского неба. Иногда проплывает робкое облачко.
В одиночке всегда полусумрак. Тают в сырой полумгле табурет, железная койка, стол, умывальник и судно. Стены покрыты на сажень от пола черно-зеленой мохнатой завесою плесени. Еле заметна узкая длинная темная щель, пропиленная в массиве тяжеловесной двери. Это – глазок. Не поймешь – занавешен ли плотным заслоном или глядят на тебя неслышно и зорко два глаза – коменданта, смотрителя, караульного? Сыро, холодно, голо. Повсюду – тесаный камень. Молчанье. Безлюдье.
Только недавно мечтал об Италии. Аполлон Майков увлек рассказами о своем путешествии. В Рим, где, как Гоголь, он будет писать поэму. Верона, Ромео и Юлия… Венеция, дворцы, каналы и солнце. И вот – каземат, бряцанье ружья, чадящая сальная свечка, тяжелый засов, железное ложе, параша.
Вот тебе Катарины, Лучии и Бьянки, догарессы и читадины! Впервые его поразила неожиданность и непредвиденность жизненных страданий. Они не входят в наш расчет, план будущего строится без включения в него возможных трагедий, неисчислимые несчастья и горести благоразумно исключаются. И вот, в процессе жизни, беспрерывное нарушение этого ясного плана, построенного, казалось бы, четко и безошибочно, как сметы инженерного департамента: болезни, женщины, друзья, даже любимый труд – отовсюду ползут на тебя эти непоправимые обиды, разбивающие волю и обессмысливающие дальнейшее существование.
Пустота одиночной камеры полна звучаний. Шаги часового, бряцанье ружья, звон ключей, щелканье замочной пружины, скрип тяжелых петель. Есть и шум: воркованье голубей в амбразуре окна, шуршанье тараканов у нагретой стены, подпольное царапанье и легкий писк мышей. Есть и человеческие звуки: из соседней камеры доносятся унылое шарканье шагов, судорожный плач или истерический хохот, монотонный говор одиночки, болезненная зевота или безнадежный мотив отчаянной песни, иногда ужасающий вопль кошмара или бреда наяву. Сводчатый потолок пустынной комнаты гулко отдает каждый звук…
Что привело его от редакций, трактиров, бильярдных, салонов в этот темный подвал санкт-петербургской Бастилии?
Апрельские бунтари
Господин Голядкин у Петрашевского… Мечтал сделаться Наполеоном, Периклом, предводителем русского восстания.
Из записных книжек Достоевского
– От нищеты и унижений, от грозных и остервенелых сил, втоптавших человечество в скорбь и муки современных городов, великие прорицатели лучшего будущего зовут вас к ликованию и всеобщей радости на всем земном шаре от полюса до полюса. Из душных чердаков и промозглых подвалов они приведут к цветущим садам и солнечным побережьям, омываемым лазурными волнами, выносящими на золотой песок все драгоценности своих подводных жемчужниц. В преображенной вселенной новые люди будут упоены высшим счастьем – безболезненного и полного господства над своей планетой во всех источниках ее великих наслаждений. Кровавые и пасмурные пути истории завершатся радостным пришествием к земному раю, когда установится наконец для всего растоптанного и замученного человечества пора неомрачаемого блаженства среди цветущих материков, покрытых дворцами, парками, золотыми колосьями тучных нив и лучезарными чертогами сияющих фаланстер…
Нагоревшая сальная свечка чадила, трещала и бросала прерывистый свет на убогую комнату с оборванной и ветхой мебелью, шаткими половицами и мутными, запотелыми оконцами. Там, за их стеклами, глухая осенняя ночь, завывая и плача, роняла свои дожди и туманы на казармы, дворцы и доходные дома огромного, тяжеловесного, взъерошенного стальными кольями города. Там где-то в прелой слякоти петербургской ночи горбились на паперти сенного Спаса промокшие лохмотники, прятались в полосатые будки квартальные, неутомимо скакали во всех направленьях курьеры и монументально стыли на своих козлах и запятках гайдуки и форейторы. А меж мигающих фонарей Невского проспекта, с визгом и скрипом сотрясаемых порывами ветра, бродили с последней отчаянной надеждой опрятные, принаряженные, худощавые женщины с растерянными, жалкими улыбками и тревожными несытыми взглядами.
В полутемной лачуге Петрашевского развертывались видения золотого века. Через долгие, томительные и жестокие годы Достоевский неожиданно вспомнил этот ликующий миф петрашевцев среди своих заграничных скитаний, в пустынных музейных залах, перед полотнами Лувра и Цвингера. По картинным галереям Европы он следил за своим любимым художником, сумевшим запечатлеть в светящихся и воздушных красках величайшие легенды философов и поэтов о грядущем всеобщем счастьи. Знакомство с этим старинным мастером было одним из счастливейших событий его жизни. С давних пор любил он бродить по Эрмитажу и копить в своей библиотеке каталоги картинной галереи. Он имел здесь своих любимцев и недругов. Быстро и словно опасаясь преследования, проходил он мимо дымных полотен Рембрандта: слишком много общего с его собственным творчеством – угрюмо, мучительно, безнадежно. Старческие морщины, насупленные брови, тревожно и подозрительно блещущие глаза. Вот кто написал бы портрет Прохарчина! От всего этого темного и грешного, переполняющего душу черной меланхолией, его влекло в какой-то солнечный просвет, раздирающий тяжелые и плотные завесы истории. Он уверенно шел к этому мудрому и радостному изобразителю безгрешных снов человечества. Это был Клавдий Желле, прозванный по своей родине Лотарингцем и вошедший в списки картинных галерей под несложным и мелодическим именем Клода Лоррена. Бытописатель петербургской бедноты полюбил эти видения блаженного племени, солнечную память о младенчестве человечества и материнском лоне Европы. Он мог часами вглядываться в эти древние долины с разостланным шелком недвижного потока, где мох оврага, кружево рощ, руно овец и волнистое оперенье облаков создавали ощущенье глубокого и сладостного мира. Его восхищали эти просторные, праздничные гавани, схватывающие море мраморными колоннадами и фигурными перилами широких дворцовых лестниц. В черных туманах финского болота его чаровали эти перламутровые переливы волн и золотые отсветы полуденного неба в легкой перистой зыби сверкающих водных громад Средиземья.
В музеях Европы он с тревогой искал очертания этих дворцовых архитектур, приосененных тончайшею листвою и словно пронизанных насквозь косыми лучами тяжеловесного солнца, медлительно ниспадающего к горизонту. И когда он всматривался в эти высокие широкогрудые корабли с вычурными грифонами и позлащенными парусами, подплывающие к хижинам безмятежных обитателей какого-то неведомого острова или к башням сказочного города, он ощущал врачующее спокойствие, сменяющее беспрестанную тоску и раздражение. Старинный художник, казалось, наполнял до краев легенду о человеческом счастьи своими видениями достигнутого и окончательного блаженства. Особая раса людей, приобщенная к любви, но не ожесточившаяся в сладострастии, сквозь прозрачный воздух утренних зорь или ранних сумерек, казалось, заполняла весь мир своей неистощимой лаской. Какой-то фантастический архипелаг, полный юности и словно овеянный вечной весной, разбрасывал свои холмы и рощи над ясной гладью серебрящихся вод. Даже руины античного портика с надтреснутыми карнизами казались только премудрым знаком истекающего времени, словно повышающим своим безмолвным напоминанием блаженство быстротечного мгновенья. Эти сады, с их сложными архитектурными пейзажами, как бы являли цветение самих вещей, преображенных незримым и безболезненным трудом, уже ставшим сплошною радостью для возрожденного и мудрого человечества…
– Тяжелая, безобразная, грязная, отталкивающая работа нашей эпохи, – звучало в низкой и полутемной комнате Петрашевского, – уступит место радостному труду с песнями и плясками, когда изнуренные рабочие артели современной индустрии превратятся в крылатые хороводы безмятежных и радостных художников.
Он думал о видениях старинного Лотарингца.
– В будущем обществе труд станет таким же привлекательным, как наши пиршества и наши зрелища. Все, даже юные женщины, будут с жаром предаваться с раннего утра уходу за садами и работе на фабриках, один вид которых внушает в наши дни такое глубокое отвращение…
То, что должно было наступить, казалось, уже происходило когда-то. Об этом запомнил и поведал нам Клод Лоррен. Эти безмятежные люди, среди тонкоруных стад и зарослей бархатистого пастбища, на узорном ковре крупной, упругой и влажной листвы, в тени полуразрушенного капища, воздушно возносящего в золотое небо свои колонны и карнизы, – да разве эта древняя идиллия не возвещала будущего разумного человеческого строя среди икарийских садов и солнечных дворцов фаланстеры? И разве не весенним празднеством жизни веяло от этих стройных заводей, где Улисс, овеянный ветрами всех морей, возвращал отцу юную Хризеиду или легендарная девственница Клеопарта сходила в червонных отсветах заката с кораблей, горящих и блещущих, как александрийские чертоги?
Сменялись ораторы. Бледные мечтатели уступали место косматому ученому. Петрашевский говорил о будущем перерождении земного шара.
– Новые виды домашних животных – антильвы и антикиты будут служить хозяйственным целям человечества, как слоны и жирафы африканцам. У людей появятся новые органы, вроде глаз на затылке. Изменится течение светил и преобразится карта вселенной. Морское побережье Сибири, ныне необитаемое, будет смягчено климатом Прованса или Ниццы!
– Смотри, как бы тебя не отправили смягчать сибирский климат на месте, – с добродушным хохотом прервал его высокорослый слушатель с резко выраженным польским акцентом.
Но это не смутило оратора. Он улыбнулся и продолжал свою речь:
– …Соленые воды морей превратятся в потоки прохладительных напитков, горькие воды океанов – в играющую влагу целебных источников…
Достоевский переставал следить за нитью изложения. Он вспоминал морские ландшафты великого живописца. Он уже тогда знал эти мерцающие марины, словно предвещавшие ему великое полотно Дрезденской галереи, недавно лишь поразившее его. Огромное светлое море широко захватывало легкокрылою игрою своих порхающих переплесков почти всю картину и бескрайно расстилалось в закатных сверканиях своей свежей золотящейся тяжелой воды до самых облаков догорающего небосвода. Скалы поднимались отвесными громадами, окружая своим прочным оплотом узкую полосу побережья, где две обнявшиеся человеческие фигуры, казалось, растворялись в текучем золоте заката, в этом мягком воздухе южного моря, в легких, тающих, бестелесных облаках. И хотелось этим видением прорвать мрачную духоту современной истории, этими лучами прорезать непроницаемую мглу скопляющихся преступлений и, может быть, на мгновенье озарить отталкивающую исповедь великого грешника этим миражем первобытного блаженства.
Так через всю жизнь сопровождал его своим видением счастливого человечества смиренномудрый и солнечный Клод Доррен. Но и тогда, у Покрова в Коломне, в этом «политическом клубе», как его называли впоследствии, с президентом, ораторами, оппозицией и прениями, он с радостью питал свои думы такими же мерцающими утопиями. Они заражали и возносили его.
«Искупить свое греховное и темное прошлое приобщением к подвигу, высоким и жертвенным служением человечеству. Всеми силами способствовать наступлению золотого века, вступить в героическую фалангу его строителей, принести и свой кирпичик на постройку великого здания мирового согласья. Да, принять революцию и служить ей, со всеми ее опасностями, опьяняясь бесстрашностью собственного подвига перед лицом грозящей гибели…»
И он жадно вникал в пестрые прения об агрикультуре и промышленности, о химическом удобрении полей и удешевлении паровозоведения, о гончарных заводах, бумажных фабриках и овечьей шерсти.
Обо всем этом спорили на «пятницах». Петрашевский знал чрезвычайно много и мог вести оживленнейшую беседу на любые темы. Он считал, что преобразователь общества должен быть энциклопедистом и, как Пико делла Мирандола, принимать вызов на споры de omni re scibili. И он действительно умел высказываться по всем вопросам истории и экономики, технологии и врачебного дела. Ему приходилось говорить на своих вечерах о соединении освещения с отоплением, о переоборудовании типографий, о переустройстве фарфоровых и фаянсовых заводов, о прядении льна машинами, об обучении дьяконов и священников медицине, об интригах биржи и безденежных спектаклях, о сельском хозяйстве и крестьянских песнях, о европейских модах и хозяйственных потребностях азиатских народностей. Лучше всего он излагал закон механики страстей, призванный разоблачить все нелепости цивилизации и создать через «промышленное влечение» новый индустриальный мир.
Как-то поздно ночью, когда все расходились, Петрашевский удержал за рукав Достоевского:
– Мне нужно поговорить с вами.
Они остались вдвоем в полутемной низенькой комнате при тусклой мигающей светильне…
– Вы жалеете бедных людей и хотели бы помочь им. Но что такое бедность? Но какая помощь возможна в наших условиях? Думали ли вы об этом?
– Но в этом именно цель моего творчества…
– И все же вы еще недостаточно обнаружили ее.
– Между тем, я обошел все нищие кварталы Петербурга. Я видел всех отверженцев большого города – униженных чиновников, голодающих студентов, обитателей углов, промышляющих девиц…
– Это еще не самая страшная беднота. Департаментский писец, у которого осыпаются пуговицы, старик, продающей книги для погребения сына, – это еще не настоящая нищета…
– Где же искать ее?
– А вот недавно в Лондоне министр коммерции в камере общин сообщил, что шелковые фабрики королевства держат на работе десятки тысяч детей – и это с трех часов утра до десяти вечера! Им платят шиллинг в неделю, то есть около гривенника в день за девятнадцатичасовую работу под наблюдением надсмотрщиков, вооруженных кнутами, которыми они ударяют каждого ребенка за малейшую остановку в работе… Впрочем, английские шелка превосходны.
Петрашевский вгляделся в собеседника своими огромными, глубокими и темными глазами, напоминавшими временами своей грустью и горечью взгляд древнего израильтянина.
– И знайте: так везде. Население самых цивилизованных стран так же несчастно, как дикие племена Индостана и Китая. Французские рабочие так бедны, что в провинциях высокой индустрии, примерно в Пикардии, крестьяне в своих землянках не имеют даже постели. Они устраивают себе подстилку из сухих листьев, которые превращаются за зиму в навоз, переполненный червями. Просыпаясь, родители и дети срывают с обнаженных тел огромных сырых червяков. Такая бедность вам незнакома?
Достоевский молчал. Перед ним, в странной беседе, раскрывался уголок нового мира, о котором он только смутно догадывался. Это был мир особых отношений, тесно сплетающих в один смертоносный узел современную политику и экономику. Об этом иногда мелькали цифры в научном отделе журналов, но он не вникал в них. Ему нужно было исчерпать тему петербургской бедноты, еще только затронутую в первых повестях. Он не решался обращаться к мировым вопросам голода и нищеты, к миллионным цифрам, к печальнейшим трудностям современной цивилизации. Его писательский голод еще насыщали Варенька Доброселова и господин Прохарчин…
И словно следя за его мыслями, оратор продолжал:
– Европа задыхается от нужды… В одном Лондоне триста тысяч нищих. Англия и Ирландия с их колоссальной промышленностью – только огромные нагромождения нищеты.
Петрашевского охватывал дух пропаганды. Он быстро двигался по комнате, воздевая руки и встряхивая гривою. Казалось, мысль его, стремительно нарастая, колыхала его приземистую фигуру. Под напором его размышлений не переставали ускоряться его жесты, шаги, самый темп его речи. Все в нем было охвачено вихревым движеньем. Буйно и энергично шевелились пальцы, мускулы лица, брови, корпус. Нарастала речь, походка ускорялась, мысли набегали сокрушительным прибоем, сыпались каскадом слов, он почти бегал вдоль стен, словно одержимый манией красноречия.
– Знаете ли вы, что вся современная цивилизация держится на принципе: чтобы обеспечить благосостояние богатых, необходимо организовать нужду бедняков? Вникните в эти слова, поймите, что нищету устраивают намеренно, вызывают искусственно, создают как одно из условий аристократической роскоши. Эти плачевные условья жизни имеют следствием моральный упадок – мрачную покорность, с которой начинается отупение и духовная смерть. Вот задачи для современного писателя.
– Но разве роман может вместить все эти темы?
– Прежний роман не мог. Создайте же новую форму. Будьте нововодителем, дерзайте! Нечего кадить предрассудками! Разве путешественники, доставившие нам из Америки хину, табак, картофель, какао, ваниль, индиго, не послужили нам лучше, чем если бы они вывезли давно известные товары?
– Вы словно забываете, Петрашевский, что я первый написал в России роман о бедных…
– Инстинкт подсказал вам верную тему. Но вы не указываете ни одного способа к исцелению этой болезни.
– Кто знает их? Кто может указать исход из этих бедствий?
– Был один человек, действительно понявший эту ужасающую нищету наших городов. Полстолетья назад по старому Лиону, раздираемому волнениями, болезнями, восстаниями, спорами мартинистов и иллюминатов, бреднями Калиостро, а главное, потрясающей нищетой рабочих кварталов, бродил один молчаливый и сочувствующий наблюдатель с острой мыслью и непоколебимой волей социального хирурга.
Достоевский жадно вслушивался.
– Он все изучил, все понял, все продумал и создал свою систему. Великое сердце подсказало ему метод лечения. Он нашел способ учетверить сразу продукцию мировой индустрии, убедить всех человековладельцев в необходимости освободить негров и рабов, безотлагательно цивилизовать всех диких, мгновенно установить единство в языке, мерах, монетах и типографии. Он создал учение, которое спасет и обновит человечество и откроет новую эру всемирной истории – эру всеобщей радости, безграничного счастья, высоких наслаждений в самом труде. Он сумеет создать на земле уже не мифический, а подлинный золотой век.
И резко обернувшись, он поднял руку к большой парижской гравюре. Из черного квадрата рамы, спокойно сложив руки на трости и проницая зрителя огненным взглядом, прямо смотрел перед собой мыслитель-фанатик с крепко сжатами губами и ярко светящимся лбом. Человек-сила, человек-воля, человек-мысль, казалось, все испепелял своими светлыми глазами магнетизера, весь напряженье, энергия и решимость. Но при этом, сквозь пристальный огонь зрачков, сквозь властное напряжение лицевых мускулов, чувствовалось в исхудалых щеках, в складках у рта, в глубоко впалых висках страданье непризнанного искателя, непоколебимого в своем учении, в своих открытиях, в своей вере. Великое спокойствие высшего знания, казалось, господствовало над выражением глубокой боли от драматизма личной судьбы, безотрадность которой преодолевала торжествующая надо всем и все озаряющая мысль великого новатора.
– Будущая судьба человеческого рода – либо беспредельное счастье в социетарном строе, предуказанном великим Шарлем Фурье, либо безграничные страдания в состоянии разобщенного и ложного производства. Оно уже привело к тому, что семь восьмых современного человечества захвачены небольшою горстью тунеядцев, которая живет на его счет и его трудами…
– Вы указываете мне целый путь. И все же я не вижу конечной цели. В чем она? Скажите мне, и я, может быть, пойду за вами…
– Извольте: в ассоциации.
– Но что понимать под этим термином?
– Искусство применять к индустрии все страсти, все характеры, все инстинкты и вкусы…
– Но к чему же это приведет нас?
– К новому, социальному миру, который не станет звать к нищете, как это делало две тысячи лет христианство, а навсегда отменит страдание и бедность во всем человечестве.
Суд
Гладко выбеленный зал. На возвышении узкий стол под красным казенным покрывалом с тяжелой золотой бахромою. Из кровавой глади сукна вырастает трехгранное зерцало с указами Петра под крыльями двуглавого орла. Рядом огромный бронзовый крест с распластанной по его брусьям точеной фигуркой из слоновой кости. У самого подножия этого резного изображения древней казни увесистые томы военно-полевых постановлений с их неумолимыми санкциями расстреляния и повешения. А длинные слоновьи клыки, превращенные токарем в пригвожденные бескровные руки, распростерты на темном полотне парадного портрета, с высоты которого леденит зрителя своим мертвенным взглядом, естественно, высокий конногвардеец с ногами Аполлона, мнущий небрежно перчатку и крепко сжимающий фетр с белоснежным султаном.
Под самыми звездами высочайших шпор хмурятся пять старческих лиц в бакенбардах, усах и тупеях.
Волчья морда Дубельта. Тяжелый череп коменданта Набокова. Лунный лик седовласого старца с бритой губою и птичьими глазами, во фраке с белой звездою – сенатор Гагарин. И еще морщины, зачесы и жирные складки холеных щек и двойных подбородков: тучный Ростовцев с широким бабьим лицом, сухой Долгоруков с металлически-жестким взглядом. Повсюду лазурь и зелень мундиров, серебро шнуров и золото орденских знаков. Секретная следственная комиссия в полном составе.
Они сидели молча, лейтенанты, адъютанты и тайные советники его величества, спокойные, замкнутые, неприступные, упоенные пожалованными им свыше полномочиями, гордые своими раболепными доблестями, даровавшими им под старость право проливать потоками молодую кровь и строить свое блистательное благополучие на бестрепетности смертных приговоров, скрепленных их узорными, нарядными и по-царски размашистыми подписями.
Из-под красного покрывала судейского стола, с высоты у своей плахи, любопытно и жадно устремлялись пронзительные взгляды на щуплого, хилого, нервного молодого литератора, застывшего перед ними с тревожно бьющимся сердцем и широко раскрытыми глазами.
Перед верховными сыщиками, взъерошенными золотом и закованными в суконные латы гвардейских мундиров, сутулый и бледный, стоял величайший мечтатель о золотом веке и всеобщем счастьи.
С высоты эстрады к нему слетают чужие, холодные, внятные слова. Говорит председатель комиссии, старый Набоков. Руина в почетной отставке. Участник Бородина, Лейпцига и штурма Варшавы, он недавно лишь оставил командование гренадерским корпусом и получил обидно-почетные звания директора Чесменской богадельни и коменданта Санкт-Петербургской крепости. Начальник над ветеранами и замурованными в казематы. Но он еще грозно хмурит брови и ревностно стремится выказать себя достойным выразителем высочайшего гнева.
– Отставной инженер-поручик Достоевский первый! Вы обвиняетесь в преступной принадлежности к тайному обществу, приступившему к осуществлению своих злонамеренных планов, направленных против православной церкви и верховной власти. Извольте доложить секретной следственной комиссии все, что вам известно об этом деле. Подойдите ближе к столу.
Достоевский делает робкий шаг. Он говорит взволнованно и долго. Робкая и сбивчивая вначале речь его понемногу выравнивается, крепнет и разгорается. Снова вспыхивает перед ним мучительный вопрос – почему не все счастливы? Живо возникают в памяти ослепительные реплики диспутов и вдохновенные страницы утопических книг. Ему кажется, что великие мятежники и прорицатели осеняют его своей светоносной мудростью. Он говорит о великой драме, разыгрывающейся на Западе, от которой ноет и ломится надвое несчастная Франция, об учении Шарля Фурье, неприложимом к русским условиям, но чарующим душу изящностью, стройностью, любовью к человечеству, о социализме, «который принес уже людям много научной пользы критической разработкой и статистическим отделом своим», о великих утопиях, перерождающихся через поколение в исторические факты, о грядущем всемирном братстве, призванном возвратить на нашу несчастную планету блаженные времена золотого века.
– И тогда все, что нас окружает сегодня, все эти растоптанные жизнью, все эти тощие женщины с изголодавшимися детьми, запойные пьяницы, вымирающие селения, ужасающая нищета и болезни городов, – все это потонет в едином ликующем гимне неведомого всемирного, необъятного счастья!
Его слушают внимательно и не перебивают. Но лишь только он кончил, верховные следователи приходят в движение, перебрасываются полуфразами, уславливаются о дальнейшем порядке заседания.
Слово предоставляют генералу Долгорукову. Это – товарищ военного министра, знаменитый усмиритель бунта в новгородских военных поселениях, оказавший беспримерное мужество в делах против польских мятежников. Он вытягивает вперед свое сухое лицо с холодными бесцветными глазами. Тонкий сгорбленный нос над щеткой коротких усов словно чует добычу. Блики света играют на впалых висках у жидких зачесов. Широкие лапчатые эполеты слегка приподымаются. В осанке, взгляде и жестах – командирская властность.
Он задает вопросы отрывисто и кратко.
– В каком чине состояли на службе?
– Полевым инженер-подпоручиком.
– Как уволены в отставку?
– По домашним обстоятельствам.
Быстро сыплются беглые вопросы: «Состояли во фронте?» «Участвовали в высочайших смотрах и парадах?» «Бывали в походах?» «Как несли службу в военно-инженерном корпусе?»
Затем он раскрывает тонкую тетрадь и почти с брезгливостью листает ее.
– Известно ли вам подобное рассуждение? (Он читает с гримасой отвращения.) «Обидно, ребятушки! Видно, мы нужны, пока есть силы, а там, как браковку, в овраг, собакам на съеденье. Служил я честно, а вот теперь руку протягиваешь под углом. А сколько нас таких? За все солдатство обидно. Царь строит себе дворцы да золотит блядей, да немцев… Известно, солдатам-то ведь и щей хороших не дадут, а сами – смотри на каких рысаках разъезжают! Ах, они мерзавцы! Ну, да погоди еще! Первые будут последними, а последние первыми. Вот французы, небось, у себя так и устроили, да и другие тоже. Только у нас да у поганых австрияк иначе». (Он брезгливо отбрасывает рукопись.) Вам эта мерзость знакома?
– Сам я этой рукописи никогда не читал.
– Но на обеде у подсудимого Спешнева, в апреле сего года, где поручик Григорьев читал возмутительное свое сочинение под нелепым заглавием «Солдатская беседа», вы присутствовали и ничем своего возмущения не выказали.
– Но статья не обсуждалась, и высказаться поэтому было затруднительно.
– Это вы, воспитанник военной школы, бывший офицер его величества, изволите так судить! Стыдитесь!
В речи Долгорукова зазвучал окрик свирепеющего фронтовика. Но, сообразив, что он не в строю, а перед судейским столом, он сдержался и даже произнес, впрочем, не без начальнической надменности, маленькую речь:
– Вам известно, что железный порядок и строгая дисциплина в российской армии основаны на продуманной системе строгих взысканий. Кнут, шпицрутены, кошки установлены еще великим преобразователем России и удержаны до сих пор в карательной практике наших войск. Допустимо ли с возмущением и подстрекательством рассказывать в обществе, где имеются также и военные, о том, как понес наказание за жестокое преступление нижний чин, осужденный к шести тысячам ударов шпицрутенами? Или об этом, может быть, не было речи на ваших собраниях, господин отставной подпоручик?
Последнее обращение прозвучало ядовито и злобно.
Достоевский встрепенулся:
– Речь была. Я говорил о возмущении в Финляндском полку. О зверском обращении одного из ротных командиров с солдатами. О мужественном поступке фельдфебеля, который с тесаком накинулся на капитана, чтоб отомстить ему за замученных товарищей. О том, как его приговорили шесть раз прогнать сквозь тысячу человек, пока его труп не выволокли за гласис экзекуционного плаца. Да, ваши сведения точны. Я все это говорил на собрании.
– А когда вы закончили речь, один из слушателей ваших не заметил ли, что вам следует выйти на площадь с красным знаменем?
– Я говорю о своих выступлениях, о других же, полагаю, показывать не обязан…
– Вы заблуждаетесь. Вам, очевидно, незнаком порядок судопроизводства…
Он обратился к Гагарину.
Старец с бритой губой и во фраке с белой звездой протянул свою черную руку к подножию распятия и извлек из груды кодексов тяжеловесный том.
– «Согласно первому пункту 137-й статьи Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, – читал вкрадчивым голосом тайный советник, – буде преступник учинит полное чистосердечное признание и сверх того доставлением верных в свое время сведений предупредит исполнение другого злого умысла, то наказание за преступление может не только быть уменьшено в мере, но даже смягчено в степени и в самом роде оного».
– У меня нет никаких сведений для предупреждения злоумышленных действий, о себе же лично мне нечего скрывать.
– Я вынужден все же поставить вас в известность, – продолжал так же приветливо Гагарин, – что следственная комиссия, в случае особого упорства опрашиваемого, для доведения его к сознанию, получает возможность с высочайшего разрешения налагать на него оковы.
Гагарин пронизывал его взглядом пытливых и хитрых глаз, умильно сжимая при этом свои тонкие бритые губы. Голова слегка склонилась набок, как это бывает во время исповеди у католических патеров, смиренно внемлющих голосу кающегося грешника. Старый сенатор, по традициям рода Гагариных, был выучеником иезуитов. В отправление высшей юстиции вносил он заветы славного братства Игнатия Лойолы.
– Вы забыли, что государство – это своего рода общество Иисусово, где младшие беспрекословно подчиняются старшим, как в армии, – произнес он тоном проповеди. – Подданный есть посох в руках начальствующего. Не избегайте же чистосердечного признания, предусмотренного законом. Исповедуйтесь, кайтесь – велико таинство покаяния!
И сановный юрист смиренно воздел свои птичьи глаза к точеной фигуре, привинченной к бронзе креста. Он словно застыл в умиленном своем созерцании.
В это время слово взял тучный генерал с узенькими раскосыми глазками.
– Мне жаль вас, Достоевский, – внезапно воскликнул он тоном трагика Каратыгина, – мне жаль вас!
Он словно собирался произнести торжественный и страстный монолог, но тут же отчаянно скривил рот, дико прищурил левый глаз и запнулся от сильнейшего приступа заикания. Судьи терпеливо и участливо ждали окончания длительной речевой судороги тучного генерала. Это был любимец Николая, главноначальствующий над военно-учебными заведениями, генерал-адъютант Иаков Ростовцев, вынужденный в свое время оставить строй из-за недостатка речи и вступить на поприще военного просвещения.
Он медленно отирал фуляром чрезмерное истечение слюны. Широкое лоснящееся лицо расплывалось и, кажется, готово было пролиться густо и медленно, как опара, если бы не прямые и жесткие линии прически и воинского облачения, словно сдерживающие в своих строгих контурах эту тяжелую и дряблую человеческую маску. Жирный оплыв под подбородком упирался в узорный золотящийся воротник, плотно облегавший короткую апоплексическую шею этого лощеного Фальстафа в свитском мундире. Узенькие глазки по-рысьи мелькали и вспыхивали под жидкими бровями, а напомаженный хохол был залихватски взбит петушиным гребнем, как у знаменитых полководцев восемьсот двенадцатого года. Тяжелые щеки, обвисая, создавали впечатление несменяемой хитрой усмешки под холеными шелковистыми усами, искусно переходящими в короткие бакенбарды, по-царски подбритые в ниточку. Горделиво приподымались плечи крылышками витых эполет с коронованными вензелями, а пухлая белая рука, написавшая четверть века назад знаменитый донос на декабристов, горела из-под червонного обшлага крупными алмазами высочайше пожалованных перстней.
– Мне жаль вас, э-э, Достоевский, – произнес он, страшно заикаясь, но придавая при этом своему голосу дрожание слез и выражение умиленного сочувствия, – ведь вы поэт, писатель. Как дошли вы до такого падения? Ведь я друг писателей, ведь Булгарин и Кукольник – мои лучшие друзья!
Внезапная спазма снова прервала оратора. Но, не смущаясь и терпеливо выдержав паузу, он продолжал свой монолог:
– И вот, друг поэтов и трагиков, я должен допрашивать вас, известного литератора, об ужаснейшем преступлении: вы осмелились позабыть, что власть царя – орудие самого провидения!
Лицо его сжалось в слезливой гримасе. Он словно готов был здесь же, на месте оплакать своего погибающего друга.
(Гораздо позже, в своих скитаниях по заграничным читальням и библиотекам в поисках запретных страниц Герцена о царской России, Достоевский узнал всю правду об этом сановном заике. «Полярная звезда» и «Колокол» поведали ему, что этот доносчик-энтузиаст был близок в 1825 году к Рылееву, Глинке, Оболенскому, принимал участие в их политических спорах, читал им свою трагедию (об «идеале чистой любви к отечеству»), а когда сам был привлечен к участию в тайном обществе, предупредив заговорщиков, спешно явился двенадцатого декабря в Зимний дворец и, не называя имен, сообщил Николаю: «Противу вас таится возмущение, оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России». При этом доносчик обливался слезами, и на груди его плакал сам претендент на российский престол. Четырнадцатого декабря предатель деятельно участвовал в подавлении восстания. Во время следствия метался, каялся и клялся в непоколебимой верности престолу. Вскоре выпросил себе адъютантство при великом князе. Ему не мешали всходить на высшие ступени царской службы – но при случае напоминали о грехах молодости. Его участие в следствии по делу Петрашевского было одним из таких отдаленных напоминаний: а ну-ка, искупи лишний раз свою близость к Рылееву, – ты ведь не без личного опыта в делах о государственных заговорах?..)
Между тем, Ростовцев, продолжая заикаться, раздирать рот и подергивать глазом, вел свой чувствительный допрос.
– Знавали ли вы литератора Белинского?
– Знал, но в последние годы я мало общался с ним.
– Извольте изложить комиссии о причинах вашего расхождения.
– Оно было вызвано различием наших воззрений на задачи искусства. Белинского необыкновенно волновали мои утверждения, что художник, преследуя цели стройности и завершенности своих созданий, служит по-своему человечеству, улучшая и возвышая его и тем выполняя свое призвание перед современниками и будущими поколениями. Он с большой страстностью возражал мне, что отвлеченная, в себе самой замкнутая красота не нужна голодному, нищему, трудящемуся человечеству. Помнится, я возражал ему, что искусство, как воздух и солнце, нужно всем и всегда, именно потому, что оно вернее всех прочих средств способно объединить людей высшею творческою радостью. Я рассчитывал, что этим шиллеровским аргументом смогу воздействовать на художественную сторону его натуры, задеть ту поэтическую струну, которая никогда не переставала звучать в его сердце. Но в этом я ошибся. Он только горько упрекнул меня в недостойном писателя равнодушии к самым жгучим болям современного человечества, я же в ответ обвинил его в желчности мышления, и мы разошлись навсегда.
– Но если вы разошлись навсегда, то чем объяснить, что совсем недавно (он заглянул в бумагу) – пятнадцатого апреля текущего 1849 года – вы изволили читать перед многолюдным собранием у титулярного советника Буташевича-Петрашевского обстоятельнейшее послание литератора Белинского к известному сочинителю Гоголю?
– Я считал, что письмо это – замечательный литературный памятник, не лишенный даже художественных достоинств.
– Так что единственно из соображений словесных красот вы прочли, а затем передали некоторым лицам для списывания документ (он продолжал просматривать бумагу), в котором говорится о «гнусном русском духовенстве», о наличии на Руси огромной корпорации разных служебных воров и грабителей, о российской церкви как поборнице неравенства, льстеце власти, враге и гонительнице братства между людьми? В читанном вами рекомендуется даже созерцать самодержавие из прекрасного далека, ибо вблизи оно якобы вовсе не так прекрасно и не так безопасно. Все это было прочитано вами из соображения литературных достоинств?






