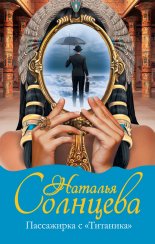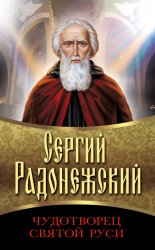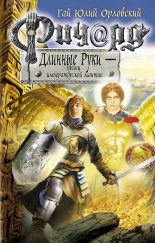Сочинения Алейхем Шолом

Новый кивок.
– Какие пустяки вы там болтаете? – воскликнула г-жа Воке.
– Оставьте нас в покое, у нас свои дела, – ответил ей Эжен.
– В таком случае не воспоследует ли обмен брачными обетами между кавалером Эженом де Растиньяком и мадмуазель Викториной Тайфер? – спросил Вотрен, показываясь в дверях столовой.
– Ах, как вы меня напугали! – воскликнули в один голос г-жа Кутюр и г-жа Воке.
– Пожалуй, лучше мне не выбрать, – ответил Растиньяк смеясь, хотя голос Вотрена вызвал в нем жестокое волнение, какого он никогда еще не испытывал.
– Без неуместных шуток! – сказала им г-жа Кутюр. – Викторина, пойдемте к себе наверх.
Госпожа Воке отправилась вслед за жилицами, чтобы провести вечер у них и не жечь у себя свечи и дров. Эжен остался лицом к лицу с Вотреном.
– Я знал, что вы придете к этому, – сказал Вотрен с невозмутимым хладнокровием. – Но слушайте, я тоже щепетилен не меньше всякого другого. Сейчас не решайте ничего, вы не в своей тарелке. У вас долги. Я хочу, чтобы не страсть и не отчаяние вас привели ко мне, а рассудок. Может быть, вам нужно несколько тысчонок? Пожалуйста. Хотите?
Демон-искуситель вынул из кармана бумажник, достал оттуда три кредитных билета по тысяче франков и повертел ими перед Растиньяком. Эжен находился в ужасном положении. Он проиграл на честное слово маркизу д'Ажуда и графу де Трай две тысячи франков; их у него не было, и он не смел пойти на вечер к графине де Ресто, где его ждали. У нее был вечер запросто, то есть такой, когда кушают печенье, пьют чай, но можно проиграть шесть тысяч в вист.
– Господин Вотрен, – обратился к нему Растиньяк, с трудом скрывая судорожную дрожь, – после того, что вы мне предлагали, вы должны понять, что от вас никаких одолжений я принять не могу.
– Хорошо! Вы очень огорчили бы меня, ответив иначе, – сказал искуситель. – Вы молодой человек, красивый, щепетильный, гордый, как лев, и нежный, как юная девица. Для черта прекрасная добыча! Люблю в молодом человеке такие свойства. Кстати, еще две-три мысли из области высшей политики, и вы увидите мир таким, каков он есть. В нем надо разыгрывать маленькие добродетельные сценки, и тогда человек высокого полета может удовлетворять все свои капризы под громкие аплодисменты дураков в партере. Пройдет немного дней – и вы наш. Ах, если бы вы согласились стать моим учеником, то вы достигли бы всего. Вы не успели бы выразить желанье, как в ту же минуту оно осуществилось бы с избытком, – чего бы вы ни захотели: почета, денег, женщин. Изо всех плодов цивилизации мы приготовили бы вам райский напиток. Вы стали бы нашим баловнем, нашим Вениамином,[61] ради вас мы с наслажденьем лезли бы из кожи. Было бы сметено все, что стало бы вам поперек дороги. Если вам совестно брать у меня, значит вы считаете меня злодеем? А вот человек такой же честности, какую вы склонны еще приписывать себе, господин дю Тюренн,[62] входил в небольшие сделочки с разбойниками, но не считал, что это может замарать его. Вы не хотите быть мне обязанным, да? Так за чем же дело стало! – с усмешкой продолжал Вотрен. – Возьмите этот клочок бумаги, – сказал он, вытаскивая гербовый бланк, – и надпишите наискось: «Принят в сумме трех тысяч пятисот франков, подлежащих уплате через год». Поставьте число! Процент настолько высок, что освобождает вас от всяких угрызений совести, вы имеете право называть меня ростовщиком и считать себя свободным от какой-либо признательности. Я разрешаю вам презирать меня уже с нынешнего дня, будучи уверен, что потом вы станете меня любить. Вы можете найти во мне те темные бездны, те сильные, сосредоточенные чувства, которые глупцы зовут пороками, но никогда не встретите неблагодарности и подлости. Словом, мой мальчик, я не пешка, не слон, а ладья.
– Что вы за человек? – воскликнул Эжен. – Вы созданы для того, чтобы терзать меня.
– Нисколько, я просто добрый человек, готовый замарать себя вместо вас, лишь бы вы до конца дней своих избавились от грязи. Вы задаете себе вопрос, что за причина такой преданности? Хорошо, когда-нибудь я вам отвечу, но тихо, на ушко. Сначала я вас напугал, показав вам механизм общественного строя и двигатель этой машины; но первый ваш испуг пройдет, подобно страху новобранца на поле битвы, и вы привыкнете к мысли, что люди не что иное, как солдаты, обреченные умирать для блага тех, кто сам себя провозглашает королем. Времена сильно изменились. Бывало, говорили какому-нибудь смельчаку: «Вот сто золотых, убей такого-то» – и преспокойно ужинали, ни за что ни про что спровадив человека на тот свет. Теперь я предлагаю вам большое состояние за кивок головой, что не роняет вас нисколько, а вы еще колеблетесь. Дряблый век!
Эжен подписал вексель и получил в обмен кредитные билеты.
– Отлично! Теперь поговорим серьезно, – продолжал Вотрен. – Я собираюсь через несколько месяцев отправиться в Америку, разводить табак. По дружбе буду вам присылать сигары. Коли разбогатею, помогу вам. В случае отсутствия у меня детей (случай вероятный: мне неинтересно насаждать свои отводки) я завещаю вам сове богатство. Это ли не дружба? Но я люблю вас. У меня страсть жертвовать собой другому человеку. Так я и поступал. Дело в том, мой мальчик, что я живу в более высокой сфере, чем остальные люди. Действие я считаю средством и смотрю только на цель. Что мне человек? Вот что! – сказал он, щелкнув ногтем большого пальца себе о зуб. – Человек – или все, или ничто. Если его зовут Пуаре, так это меньше, чем ничто, – он плоский, вонючий, его можно прихлопнуть, как клопа. Но если человек похож на вас, он – бог; это уже не механизм, покрытый кожей, но театр, где действуют лучшие чувства, а я живу только чувствами. Чувство – разве это не целый мир в едином помысле? Взгляните на того же папашу Горио, для него две его дочери вселенная, путеводная нить в мире бытия. Я глубоко заглянул в жизнь и признаю только одно подлинное чувство: взаимную дружбу двух мужчин. Моя страсть – Пьер и Джафьер.[63] Я знаю наизусть «Спасенную Венецию». Много ли найдете вы людей такой закалки, чтобы они, когда товарищ скажет: «Идем, зароем труп!» – пошли, не проронив ни звука, без надоедливой морали? Я делал это. Такие разговоры я веду не с каждым, но вы – человек высшего разряда, вам можно сказать все, вы все сумеете понять. Вы недолго будете барахтаться в болоте, где живут окружающие нас головастики. Мы, кажется, договорились? Вы женитесь. Шпаги наголо – и напролом! Моя – стальная и не погнется никогда, так-то!
Вотрен сейчас же вышел, чтобы не получить отрицательного ответа и дать Эжену прийти в себя. Видимо, для него было не тайной, что все эти слабые противодействия, все эти споры – только рисовка человека перед самим собой для оправдания своих предосудительных поступков.
«Пусть делает, что хочет, но я, конечно, не женюсь на мадмуазель Тайфер!» – сказал себе Эжен.
Выдержав приступ душевной лихорадки от одной мысли о сделке с человеком, который вызывал в нем ужас, но рос в его глазах именно благодаря цинизму своих взглядов и смелому проникновению в сущность общества, Растиньяк оделся, послал за каретой и поехал к г-же де Ресто. За последние дни она стала вдвойне внимательна к молодому человеку, который с каждым шагом все дальше продвигался в высшем обществе и мог со временем приобрести там опасное для нее влияние. Он расплатился с д'Ажуда и с графом де Трай, все ночь провел за вистом и отыграл свой проигрыш. Значительная часть людей, одиноко пробивающих себе дорогу, бывают в большей или меньшей степени фаталистами, поэтому и Растиньяк был суеверен: в этом выигрыше он увидал небесную награду за свое твердое решенье не сходить с пути добродетели. На следующее утро он первым делом спросил Вотрена, куда тот девал его вексель. Услыхав в ответ, что вексель при Вотрене, Эжен вернул ему три тысячи франков, не скрывая своего вполне понятного удовольствия.
– Все обстоит, как надо, – сказал ему Вотрен.
– Но я вам не сообщник, – ответил Растиньяк.
– Знаю, знаю, – прервал его Вотрен. – Вы все еще ребячитесь и останавливаетесь на пороге из-за всякой ерунды.
Спустя два дня в уединенной аллее Ботанического сада Пуаре и мадмуазель Мишоно сидели на скамейке, освещенной солнцем, и вели беседу с каким-то господином, который недаром казался Бьяншону подозрительным.
– Мадмуазель, я не вижу, что может смущать вашу совесть, – говорил Гондюро. – Его превосходительство министр государственной полиции…
– А! Его превосходительство министр государственной полиции… повторил Пуаре.
– Да, его превосходительство заинтересовался этим делом, – подтвердил Гондюро.
Но кто поверит, что Пуаре, сам отставной чиновник, правда неспособный мыслить, но несомненно исполненный мещанских добродетелей, продолжал слушать мнимого рантье с улицы Бюффона после того, как этот человек сослался на полицию и сразу же обнаружил под своей маской порядочного человека лицо агента с Иерусалимской улицы.[64] А между тем нет ничего естественнее. Особый вид, к которому принадлежал Пуаре в обширном семействе простаков, станет понятнее благодаря известному, пока еще не опубликованному, наблюдению некоторых исследователей: существует пероносное племя, загнанное в государственном бюджете между первым градусом широты (своего рода административная Гренландия), где действуют оклады в тысячу двести франков, и третьим градусом (областью умеренного климата), где начинаются местечки потеплее, от трех тысяч до шести, где наградные прививаются с успехом, даже дают цветы, несмотря на трудности их взращивания. Одной из черт, характерных для беспросветной узости этого подначального народца, является какое-то механическое, инстинктивное, непроизвольное почтенье к далай-ламе любого министерства, который знаком чиновникам лишь по неразборчивой подписи и под названьем «его превосходительство министр», – три слова, равносильные Il Bondo Cabi из «Багдадского халифа»[65] и знаменующие для этого приниженного люди священную, непререкаемую власть; как папа для католиков, так и министр в качестве администратора непогрешим в глазах чиновника; блеск его особы передается его действиям, его словам, даже тому, что говорится от его имени: своим мундиром с золотым шитьем он покрывает и узаконивает все, что делается по его приказу; его превосходительное звание, свидетельствуя о чистоте его намерений и святости его предуказаний, служит проводником для самых неприемлемых идей. Эти жалкие людишки даже ради собственной выгоды не сделают того, что усердно выполнят под действием слов: «Его превосходительство». Как в армии существует дисциплина, так и в канцеляриях господствует свое пассивное повиновение; эта система заглушает совесть, опустошает человека и постепенно делает его какой-то гайкой или шурупчиком в машине государственного управления. Гондюро, видимо знавший людей, сейчас же усмотрел в Пуаре бюрократического дурачка и выпустил свое Deus ex machina[66] – магическое выраженье «его превосходительство», – когда настал момент обнаружить батареи и ошеломить Пуаре, занимавшего, по мнению агента, положение любовника Мишоно, как Мишоно занимала положение любовницы Пуаре.
– Раз уж его превосходительство, да еще самолично, его превосходительство господин ми… О, это совсем другое дело! – сказал Пуаре.
– Вы слышите, что говорит этот господин, а его мнению вы как будто доверяете, – продолжал мнимый рантье, обращаясь к мадмуазель Мишоно. – Так вот, теперь его превосходительство вполне уверен, что так называемый Вотрен, проживающий в «Доме Воке», – не кто иной, как беглый каторжник с тулонской каторги, где он известен под прозвищем «Обмани-смерть».
– А! Обмани-смерть! – повторил Пуаре. – Значит, ему здорово везет, если он заслужил такую кличку.
– Разумеется, – ответил агент. – Этой кличкой он обязан своему счастью: он оставался цел и невредим во всех своих крайне дерзких предприятиях. Как видите, он человек опасный! По некоторым своим способностям это личность необыкновенная. Осуждение его на каторгу стало целым событием и создало ему огромный почет в его среде…
– Значит, он человек почтенный? – спросил Пуаре.
– В своем роде. Он добровольно принял на себя чужое преступление подлог, совершенный одним очень красивым юношей, его любимцем; это был молодой итальянец, заядлый игрок; позже он поступил на военную службу, где, впрочем, вел себя отлично.
– Но если его превосходительство министр полиции убежден, что Вотрен это Обмани-смерть, зачем ему нужна я? – спросила мадмуазель Мишоно.
– Ах да, в самом деле, – сказал Пуаре, – если министр, как вы изволили нам сообщить, имеет некоторую уверенность…
– Уверенность – это не совсем точно: есть только подозрение. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Жак Коллен, по прозвищу Обмани-смерть, пользуется непререкаемым доверием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом и банкиром. Он много зарабатывает на делах такого рода – для них ведь требуется человек особой пробы.
– Ха-ха! Поняли, мадмуазель, этот каламбур? – спросил Пуаре. – Господин Гондюро назвал его человеком особой пробы, потому что он с клеймом.
– Мнимый Вотрен, – продолжал агент, – принимает от господ каторжников их капиталы, помещает в дела и хранит для передачи или самим каторжникам, если им удастся бежать с каторги, или их семьям, если каторжник оставил на этот случай завещание, или же их любовницам, по передаточному векселю на имя мнимого Вотрена.
– Их любовницам? Вы хотите сказать – женам, – заметил Пуаре.
– Нет, каторжники обычно имеют незаконных жен, у нас их называют сожительницами.
– Значит, они все находятся в сожительстве?
– Значит, так.
– Господину министру не подобало бы терпеть такие мерзости. Поскольку вы имеете честь бывать у его превосходительства и, как мне кажется, обладаете человеколюбивыми понятиями, вам следовало бы осведомить его относительно безнравственности этих людей; ведь это очень дурной пример для общества.
– Но правительство сажает их в тюрьму не для того, чтобы показывать как образец всех добродетелей.
– Это справедливо. Однако разрешите…
– Дайте же, дружочек, сказать господину Гондюро, – вмешалась мадмуазель Мишоно.
– Понимаете, мадмуазель, – продолжал Гондюро, – правительство может выиграть очень много, наложив руку на беззаконную кассу, – по слухам, она содержит весьма крупную сумму. Обмани-смерть сосредоточил у себя значительные ценности, укрывая деньги не только некоторых своих товарищей, но и сообщества «Десяти тысяч»…
– Десяти тысяч воров! – испуганно воскликнул Пуаре.
– Нет, сообщество «Десяти тысяч» – это организация воров высокой марки, людей широкого размаха, они не путаются в дела, где добыча дает меньше десяти тысяч франков. В это сообщество входит народ самый отборный – из тех молодчиков, которых мы отправляем прямо в Высший уголовный суд. Они изучили Уложение о наказаниях и, даже если пойманы с поличным, никогда не дадут повода подвести их под статью о смертной казни. Коллен – их доверенное лицо, их советчик. Благодаря огромным средствам этот человек создал свою собственную полицию, обширные связи, скрыв их под покровом непроницаемой тайны. Вот уже год, как мы окружили его шпионами, и все еще не можем разгадать его игру. Таким образом, и эта касса и его таланты помогают оплачивать порок, способствуют злодейству и держат под ружьем армию мошенников, которые все время воюют с обществом. Арестовать Обмани-смерть и захватить всю его шайку – значит подрубить зло под самый корень. Вот почему это неотложное мероприятие стало делом государственным, делом политики, которое принесет честь тем, кто будет способствовать его успеху. Вы сами могли бы снова поступить на службу по административной части, сделаться секретарем полицейского комиссара, что нисколько не помешает вам получать и вашу пенсию.
– А почему Обмани-смерть не сбежал с кассой? – спросила мадмуазель Мишоно.
– О, куда бы он ни поехал, за ним следом отправят человека с наказом убить его, если он обокрадет каторгу. Кроме того, похитить кассу не так легко, как похитить барышню из хорошей семьи. Впрочем, Коллен – молодчина, он неспособен на такую штуку, он сам себя считал бы опозоренным.
– Вы правы, – подтвердил Пуаре, – он был бы совершенно опозорен.
– Все это не объясняет нам, отчего вы просто-напросто не арестуете его, – заметила мадмуазель Мишоно.
– Хорошо, я вам отвечу… (Только одно, – шепнул он ей на ухо, – не давайте вашему кавалеру прерывать меня, а то мы никогда не кончим. Этому старику надо стать очень богатым, чтобы его слушали.) Когда Обмани-смерть прибыл сюда, он надел на себя личину порядочного человека, превратился в почтенного парижского горожанина и устроился в незаметном пансионе. Это тонкая бестия, его никогда не застать врасплох. Словом, Вотрен человек крупный и дела ведет крупные.
– Вполне естественно, – сказал Пуаре самому себе.
– Ну, а вдруг выйдет ошибка и арестуют настоящего Вотрена? Министру не хочется, чтобы на него обрушились коммерческий мир Парижа и общественное мнение. У префекта полиции есть враги, и он сидит, как на тычке. В случае провала все, кто метит на его место, воспользуются тявканьем и рычанием либералов, чтобы спихнуть его. Тут надо действовать, как в деле Коньяра, самозванного графа де Сент-Элен, – ведь окажись он настоящим графом де Сент-Элен, нам бы непоздоровилось. Вот почему нужна проверка!
– Так, значит, вам нужна хорошенькая женщина! – подхватила мадмуазель Мишоно.
– Нет, он женщину к себе и не подпустит. Скажу вам по секрету: Обмани-смерть не любит женщин.
– Тогда я себе не представляю, что пользы от меня для такой проверки, если, предположим, я соглашусь на это за две тысячи.
– Проще простого, – ответил незнакомец. – Я вас снабжу флакончиком с жидкостью: она имеет свойство вызывать прилив крови к голове, похожий на удар, но совершенно безопасный. Это снадобье можно примешать к кофе или к вину, как хотите. Лишь только оно окажет действие, вы сейчас же перенесете молодчика на кровать, разденете, будто бы для того, не грозит ли ему смерть. А как только вы останетесь при нем одна, шлепните его ладонью по плечу раз! и вы увидите, проступит на нем клеймо иль нет.
– Сущий пустяк, – откликнулся Пуаре.
– Ну как, согласны? – обратился Гондюро к старой деве.
– А если букв не окажется, я все же получу две тысячи?
– Нет.
– Какое же тогда вознаграждение?
– Пятьсот.
– Стоит итти на это дело ради такой малости! Укор для совести не меньше, а мне не так легко ее успокаивать.
– Заверяю вас, – вмешался Пуаре, – что у мадмуазель чуткая совесть, не говоря уже, что женщина она любезная и весьма сообразительная.
– Ладно, – решила мадмуазель Мишоно, – если это Обмани-смерть, вы даете мне три тысячи, а если это обыкновенный человек, то ничего.
– Идет, – ответил Гондюро, – но при условии, что дело будет сделано завтра же.
– Не так скоро, дорогой мой, мне еще надо посоветоваться с моим духовником.
– Хитра! – сказал агент, вставая с места. – Так до завтра. Если понадобится спешно переговорить со мной, приходите в переулочек Сен-Анн, в конец церковного двора за Сент-Шапель. Там только одна дверь, под аркой. Спросите Гондюро.
В эту минуту мимо проходил Бьяншон, возвращаясь с лекции Кювье, и своеобразное прозвище «Обмани-смерть» привлекло внимание студента, благодаря чему он также услыхал ответное «идет» знаменитого начальника сыскной полиции.
– Отчего вы не покончили с ним дело сразу? Ведь это триста франков пожизненной ренты! – сказал Пуаре, обращаясь к мадмуазель Мишоно.
– Отчего? Это дело надо еще обдумать. Если Вотрен в самом деле Обмани-смерть, то, может быть, выгоднее сговориться с ним. Впрочем, требовать от него денег – это значит предупредить его, и, чего доброго, он улизнет не заплатив. Получится только мерзкий пшик.
– Если бы он и был предупрежден, – возразил Пуаре, – разве за ним не станут наблюдать, как сказал вам этот господин? Правда, что вы-то потеряли бы все.
«А к тому же не люблю я этого человека, – подумала мадмуазель Мишоно. Мне он говорит только неприятности».
– Но вы можете поступить лучше, – продолжал Пуаре. – Ведь тот господин, по-моему, человек вполне порядочный, да и одет очень прилично, и вот он сказал, что повиновение законам обязывает избавить общество от преступника, какими бы достоинствами он ни отличался. Пьяница не перестанет пить. А вдруг ему взбредет в голову убить нас всех? Ведь, черт возьми, мы можем оказаться виновниками этих убийств, не говоря о том, что первыми их жертвами будем мы сами.
Размышления мадмуазель Мишоно мешали ей прислушиваться к словам Пуаре, падавшим из его уст, как водяные капли из плохо привернутого крана. Если этот старичок начинал цедить фразы и его не останавливала Мишоно, он говорил безумолку, как заведенный автомат. Заговорив об одном предмете и не сделав никакого вывода, он переходил путем различных вводных предложений к совершенно противоположной теме. Приближаясь к «Дому Воке», Пуаре совсем заплутался среди всяких отклонений и ссылок на разные случаи жизни, так что, наконец, добрался до рассказа о своих показаниях в деле г-на Рагуло и г-жи Морен, где он выступал свидетелем защиты. Входя в том, его подруга успела разглядеть Эжена и мадмуазель Тайфер, увлеченных задушевным разговором на столь животрепещущую тему, что ни тот, ни другой не обратили ни малейшего внимания на двух пожилых жильцов, проследовавших через столовую.
– Так оно и должно было кончиться, – заметила мадмуазель Мишоно, обращаясь к Пуаре. – Всю последнюю неделю они посматривали друг на друга томным взглядом.
– Да, да, – ответил Пуаре. – Потому-то ее и осудили.
– Кого?
– Госпожу Морен.
– Я говорю вам про мадмуазель Тайфер, – сказала мадмуазель Мишоно, войдя по рассеянности в комнату Пуаре, – а вы толкуете мне про госпожу Морен. Что это за женщина?
– А в чем же виновата мадмуазель Викторина? – спросил Пуаре.
– В том, что любит Эжена де Растиньяка и лезет, наивная бедняжка, сама не зная куда.
Утром г-жа де Нусинген довела Эжена до отчаяния. В глубине души он уже отдался полностью на волю Вотрена, сознательно не вдумываясь ни в причины приязни к нему этого необыкновенного человека, ни в будущее их союза. Необходимо было чудо, чтобы спасти его от падения в пропасть, над которой он занес ногу час тому назад, обменявшись с мадмуазель Викториной самыми нежными обетами. Викторине чудился голос ангела, ей открывались небеса, а «Дом Воке» весь расцветился для нее фантастическими красками, как театральные дворцы под кистью декоратора: она любила и была любима, по крайней мере в это верила она! Да и какая женщина на ее месте не верила бы в это, глядя на Растиньяка и слушая его целый час, тайком от пансионских аргусов?
Отлично сознавая, что поступает гадко, а вместе с тем не отказываясь от своих намерений, Эжен старался убедить себя, что, осчастливив женщину, он тем искупит простительный свой грех, и в таких бореньях с совестью он даже похорошел от решимости итти напропалую и светился всеми огнями ада, пылавшего в его душе. К счастью для него, чудо свершилось: весело вошел Вотрен, прочел все, что таилось в сердцах обоих молодых людей, соединенных изобретательностью его дьявольского ума, и сразу оборвал их радостное настроение, насмешливо запев своим сильным голосом:
- Мила моя Фаншета
- Душевной простотой…
Викторина скрылась, унося с собой столько счастья, сколько натерпелась горя в жизни до сих пор. Бедняжка! Пожатье рук, прикосновение волос Эжена к ее щеке, словечко, сказанное на ухо так близко, что чувствовалась теплота милых губ, трепет руки, сжимавшей ее талию, поцелуй в шею – все претворялось в священные обеты любви, а грозное соседство толстухи Сильвии, готовой каждую минуту ворваться в эту лучезарную столовую, делало их пламеннее, острее и заманчивее самых разительных примеров беззаветного чувства в самых знаменитых повествованиях о любви.
Робкие залоги любви, по образному выражению наших предков, казались преступлением юной, благочестивой девушке, ходившей к исповеди каждые две недели! Расточая сокровища своей души, она сейчас их подарила больше, чем впоследствии, став женщиной богатой и счастливой, могла подарить, отдавая себя всю.
– Дело сделано, – заявил Вотрен Эжену. – Наши денди повздорили. Все имело приличный вид. Ссора на почве убеждений. Наш голубок оскорбил моего сокола. Встреча – завтра, в Клиньянкурском редуте. В половине девятого, когда мадмуазель Тайфер будет спокойно макать греночки в кофе, к ней перейдет по наследству любовь отца и богатство. Шутка сказать! Молодой Тайфер отлично владеет шпагой и самонадеян, как козырный туз, но ему пустят кровь ударом моего изобретения: только приподнять шпагу и колоть в лоб. Я покажу вам этот прием, – чертовски полезная штука.
Растиньяк тупо слушал и ничего не мог ответить. В эту минуту вошли папаша Горио, Бьяншон и еще несколько нахлебников.
– Таким я и хотел вас видеть, – сказал Вотрен. – Вы знаете, что делаете. Отлично, мой орленок! Вам суждено управлять людьми, вы сильный, крепкий, вы молодец, – я уважаю вас.
Вотрен хотел пожать ему руку, но Растиньяк резко ее отдернул и, побледнев, упал на стул: ему так и чудилось, что у ног его – лужа крови.
– Ах, на вас еще остались кое-какие пеленочки, испачканные добродетелью, – тихо заметил ему Вотрен. – У папаши Долибана три миллиона, его состояние мне известно. Благодаря приданому вы станете белее подвенечного платья даже в своих собственных глазах.
Растиньяк больше не колебался. Он решил вечером пойти и предупредить Тайферов – отца и сына. Вотрен отошел от него, и тогда папаша Горио шепнул ему на ухо:
– Сынок, вам грустно! Сейчас я вас развеселю. Идемте!
Старый вермишельщик зажег от лампы свою витую свечечку. Эжен, сгорая любопытством, последовал за ним.
– Зайдемте к вам, – предложил старичок, заранее взяв у Сильвии ключ от комнаты студента. – Сегодня утром вы вообразили, что она не любит вас? Она вас выпроводила от себя поневоле, а вы уж рассердились и ушли в отчаянии. Чудачок! Она ждала меня. Понятно? Нам нужно было пойти одним, чтобы устроить чудесную квартирку, – через три дня в ней будете жить вы. Не выдавайте меня. Она хочет сделать вам сюрприз, но я не считаю больше нужным скрывать от вас наш секрет. Это на улице д'Артуа, в двух шагах от улицы Сен-Лазар. Вы будете там жить по-княжески. Мы достали обстановку, как для новобрачной. За последний месяц мы понаделали немало дел, только не говорили вам. Мой поверенный начал военные действия, у моей дочери будет тридцать шесть тысяч франков годового дохода – проценты с ее приданого; я потребую, чтобы ее восемьсот тысяч франков были помещены в доходное недвижимое имущество.
Эжен молчал и, скрестив руки на груди, шагал взад и вперед по своей жалкой неприбранной комнате. Улучив мгновенье, когда Эжен повернулся к нему спиной, папаша Горио положил на камин футляр из красного сафьяна с тисненным золотым гербом рода Растиньяков.
– Я, сынок, ушел с головой в эти дела. Но, надо сказать, я и для себя старался. Я сам очень заинтересован в том, чтобы вы переехали. Если я попрошу вас кой о чем, вы не откажете мне, а?
– Что вы хотите?
– Над вашей новой квартирой, на шестом этаже, есть комната с ходом от вас, – так в ней поселюсь я, хорошо? Я старею и живу слишком далеко от моих дочек. Я не стесню вас. Я просто буду жить там, каждый вечер вы будете рассказывать мне про дочку. Вам это не будет помехой, а я услышу, когда вы будете приходить домой, и скажу себе: «Он только что виделся с Фифиной. Он ездил с ней на бал, она счастлива благодаря ему». Если я заболею, лучшим лекарством для моего сердца будет слышать, что вы вернулись, двигаете стулья, ходите. Ведь у вас в душе останется так много от Дельфины! Оттуда мне два шага до Елисейских Полей, где мои дочки проезжают каждый день: я буду видеть их постоянно, а то иной раз я прихожу слишком поздно. А может быть, она и сама зайдет к вам! Я буду слышать ее голос, увижу, как она в утреннем капоте бегает туда-сюда или грациозно ходит, словно кошечка. За последний месяц она опять стала такой, какой была в девушках, – веселой и франтихой. Душа ее исцеляется, и этим счастьем она обязана вам. О, для вас я готов сделать невозможное! На обратном пути она мне только что сказала: «Папа, я очень счастлива!» Когда они говорят мне чинно: «Отец», на меня веет холодом, но когда они зовут меня папой, они мне представляются маленькими девочками, они будят во мне лучшие воспоминания. Тогда я больше чувствую себя их отцом. Мне кажется, что они еще не принадлежат никому другому.
Старик вытер глаза, он плакал.
– Давненько не слыхал я таких слов, давненько не брала она меня под руку. Да, да, вот уже десять лет, как я не гулял рядом ни с одной из дочерей. А как приятно касаться ее платья, подлаживаться к ее шагу, чувствовать теплоту ее тела! Сегодня утром я водил Дельфину всюду. Ходил с ней по лавкам. Проводил ее до дому. О, дайте мне пожить близ вас! Иной раз вам понадобится какая-нибудь услуга, я буду под рукой. Ах, если бы этот толстый эльзасский чурбан умер, если бы его подагра догадалась перекинуться ему в живот, как счастлива была бы моя дочка! Вы сделались бы моим зятем, вы стали бы открыто ее мужем. Она до сих пор еще не знает, что такое наслаждения жизни, и так несчастна, что я прощаю ей все. Бог должен быть на стороне любящих отцов. – Он умолк, а затем, покачав головой, добавил: – Она вас любит очень, очень! По дороге она болтала все про вас: «Не правда ли, папа, он хороший, у него доброе сердце! А говорит ли он обо мне?» От улицы д'Артуа до пассажа Панорамы она мне насказала о вас всякой всячины. Наконец-то Фифина говорила со мной по душам. В это счастливое утро я позабыл о старости и чувствовал себя легким, как перышко. Я ей сказал, что вы отдали мне тысячу франков. Ах, милочка моя! Она была тронута до слез. А что у вас на камине? – не вытерпел, наконец, папаша Горио, видя, что Растиньяк не двигается с места.
Эжен, совершенно удрученный, тупо смотрел на своего соседа. Эта дуэль, назначенная, по словам Вотрена, на завтра утром, так резко расходилась с осуществленьем самых дорогих его надежд, что он переживал все как в кошмаре. Он обернулся в сторону камина, заметил квадратный футляр, открыл его и увидел внутри листок бумаги, а под ними часы Брегета. На листке были написаны следующие слова:
«Хочу, чтобы каждый час вы думали обо мне, потому что…
Дельфина».
Последние слова, очевидно, намекали на какой-то эпизод в их отношениях. Эжен умилился. Внутри золотого корпуса часов был изображен эмалью его герб. Эта дорогая и давно желанная вещица, цепочка, ключик, форма и орнамент – все отвечало его вкусам. Папаша Горио сиял. Конечно, он обещал дочери подробно описать радостное изумление Эжена от ее подарка, тем более что в этих юных волнениях души он принимал участие, хотя и в роли третьего лица, но, видимо, не менее счастливого. Он уже успел полюбить Эжена и за его душевные качества и за счастье дочери.
– Пойдите к ней сегодня вечером, она вас ждет. Эльзасский чурбан ужинает у своей танцовщицы. Каким дураком смотрел он, когда мой поверенный выложил ему все начистоту. А кто, как не он, уверяет, что любит мою дочь до обожания? Пусть только прикоснется к ней, я убью его. Одна мысль, что моя Дельфина в его… (он глубоко вздохнул), может толкнуть меня на преступленье, но это не было бы человекоубийством, ведь он – свиная туша с телячьей головой. Так вы возьмете меня к себе, а?
– Конечно, дорогой папа Горио, вы хорошо знаете, что я люблю вас.
– Я это вижу, вы-то мной не гнушаетесь! Позвольте вас поцеловать. – И он сжал студента в объятиях. – Обещайте мне дать ей счастье! Так вы пойдете к ней сегодня вечером?
– О да! Мне только надо сходить по одному неотложному делу.
– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
– А правда! Пока я буду у госпожи де Нусинген, сходите к господину Тайферу-отцу и попросите его назначить мне время сегодня вечером, чтобы переговорить с ним об одном крайне важном деле.
– Молодой человек, так это верно? – воскликнул папаша Горио, изменившись в лице. – Вы, чего доброго, и впрямь волочитесь за его дочкой, как утверждают наши дураки внизу? Гром небесный! Вы еще не знаете, какого сорта тумак можно получить от Горио. Ну, ежели вы нас обманывали, то своим кулаком я… О, это же немыслимо!
– Клянусь вам, на всем свете я люблю только одну женщину, хоть до сих пор я и сам этого не сознавал, – ответил Растиньяк.
– Какое счастье! – воскликнул папаша Горио.
– Но дело в том, – продолжал студент, – что сын Тайфера завтра дерется на дуэли, и, как я слышал, его убьют.
– А вам какое дело? – спросил Горио.
– Нужно сказать отцу, чтобы он не пускал сына, – ответил Эжен.
На этом слове его прервал голос Вотрена, пропевшего за дверью:
- – О Ричард, мой король,
- Тебя все покидают…
- Брум! брум! брум! брум! брум!
- Объехал я весь белый свет,
- И счастлив был… траля-ля-ля-ля…
– Господа, – объявил Кристоф, – суп подан, все уже за столом.
– Слушай, – сказал ему Вотрен, – поди возьми у меня бутылку бордо.
– Вам нравятся часы? – спросил папаша Горио. – У нее хороший вкус.
Вотрен, папаша Горио и Растиньяк сошли вниз вместе и, опоздав к началу обеда, очутились за столом рядом. Эжен выказывал чрезвычайную холодность к Вотрену, несмотря на то, что этот человек – и вообще-то приятный, по мнению г-жи Воке, – разошелся сегодня, как никогда. Он искрился остроумием и сумел расшевелить всех нахлебников. Такая уверенность в себе, такое хладнокровие страшили Растиньяка.
– Что это на вас нашло сегодня? – спросила г-жа Воке. – Уж очень вы развеселились.
– Я всегда весел после хорошей сделки.
– Сделки? – спросил Эжен.
– Ну да! Я поставил партию товара и потому имею все права на получение комиссионных. – Заметив, что мадмуазель Мишоно приглядывается к нему, Вотрен сказал: – Мадмуазель Мишоно, вы все посматриваете на меня сверлящим взглядом: возможно, вам что-нибудь не нравится в моем лице? Скажите прямо! Чтобы сделать вам приятное, я переменю… Как, Пуаре, мы с вами не поссоримся из-за этого? – спросил он, подмигнув старому чиновнику.
– Черт возьми, вам следовало бы позировать для ярмарочного Геркулеса! – воскликнул художник.
– Идет! Если мадмуазель Мишоно будет позировать в виде Венеры Кладбищенской, – ответил Вотрен.
– А Пуаре? – спросил Бьяншон.
– О, Пуаре пускай позирует как Пуаре, – крикнул Вотрен. – И получится бог садов и огородов. Ведь у него и имя-то, если верить произношению Сильвии, происходит от порея.
– От гнилой луковицы! – подхватил Бьяншон. – Вот какой это фрукт!
– Все это глупости, – прервала его г-жа Воке. – Лучше бы вы угостили всех нас вашим бордо из той бутылочки, что кажет свое горлышко. Это поддержит наше веселое расположение духа. Да и полезно для жулутка.
– Милостивые государи, – обратился ко всем Вотрен, – председательница призывает вас к порядку. Госпожа Кутюр и мадмуазель Викторина не станут обижаться на ваши легкомысленные разговоры, но пощадите невинность папаши Горио. Я предлагаю вам распить бутылорамочку бордо, вдвойне славного именем Лафита,[67] – просьба не принимать за политический намек. Ну же, чудачина! – крикнул он, глядя на Кристофа, стоявшего на месте. – Сюда, Кристоф! Что это значит? Ты не знаешь своего имени? Давай, чудачина, выпивку!
– Пожалуйте, – ответил Кристоф, подавая ему бутылку.
Наполнив стаканы Эжену и папаше Горио, Вотрен медленно налил себе несколько капель и, пока его соседи пили, пробовал вино на язык; вдруг он сделал гримасу.
– Ах, черт, отдает пробкой! Бери его себе, Кристоф, и достань нам другого; знаешь, там, справа? Нас шестнадцать, тащи восемь бутылок.
– Коли вы так расщедрились, ставлю сотню каштанов, – заявил художник.
– Хо! Хо!
– Эге!
– Брр!
Выкрики нахлебников раздались со всех сторон, вылетая, как ракеты из бурака.
– Ну-ка, мамаша Воке, ставьте две бутылочки шампанского! – крикнул Вотрен.
– Еще что! Уж не отдать ли весь мой дом? Две бутылки шампанского! Двадцать-то франков! Так совсем разоришься! Нет! Но ежели господин Эжен за них заплатит, я уж от себя выставлю черносмородинной.
– От ее черносмородинной слабит, как от крушины, – заменил Бьяншон тихо.
– Молчи, Бьяншон, – ответил Растиньяк, – я не могу слышать слово «крушина», сейчас же меня начинает… Хорошо, согласен, плачу за шампанское! – крикнул студент.
– Сильвия, подайте бисквиты и вафли.
– Ваши вафли перестарки – уже не вафли, а кафли. А бисквиты тащите на стол, – заявил Вотрен.
Вино пошло вкруговую, сотрапезники оживились, и веселья стало еще больше. Слышался неистовый хохот, раздавались крики, подражание голосам различных животных. Музейному чиновнику пришло в голову воспроизвести обычный в Париже крик, сходный с мяуканьем влюбленного кота, и сейчас же восемь голосов поочередно прогорланили:
– Точить ножи, ножницы!
– Канареечное семя певчим птичкам!
– Вот сладкие трубочки, трубочки!
– Чиню фаянс!
– Устрицы, свежие устрицы!
– Старого платья, старых шляп, старых галунов продавать нет ли?
– Вишенья, сладкого вишенья!
– Зонтики, кому зонтики!
Пальма первенства осталась за Бьяншоном, когда гнусавым голосом он крикнул:
– Колотилки – выколачивать жен и платья!
Несколько минут стоял такой шум, что того и гляди голова треснет, какая-то словесная неразбериха, настоящая опера, где дирижировал Вотрен, не спуская глаз с Эжена и папаши Горио, видимо успевших опьянеть. Оба, откинувшись на спинки стула, строго смотрели на это необычное бесчинство и пили мало: их заботило то, что надо было сделать в этот вечер, но нехватало сил подняться с места. А Вотрен искоса глядел на них, следя за тем, как изменялось выражение их лиц, и, улучив момент, когда глаза их замигали, вот-вот готовые закрыться совсем, наклонился к Эжену и сказал ему на ухо:
– Так-то, молодчик, вы еще недостаточно хитры, чтобы бороться с дядюшкой Вотреном, а он вас слишком любит и не позволит вам наделать глупостей. Если я что решил, один бог в силах преградить мне путь. Да! Да! Вы собирались предупредить папеньку Тайфера и сделать промах, достойный школьника! Печь накалилась, тесто замешано, и хлеб на лопате; завтра мы будем уплетать его за обе щеки, так неужели мы не дадим посадить его в печь? Нет, нет, он будет испечен! Если у нас и явятся какие-нибудь угрызения совести, они исчезнут в процессе пищеварения. Теперь мы чуточку поспим, покамест полковник граф Франкессини острием шпаги освободить для нас наследство Мишеля Тайфера, наследуя своему брату, Викторина будет иметь тысяч пятнадцать в год. Я уже навел справки и знаю, что наследство со стороны матери больше трехсот тысяч.
Эжен слышал его слова, но не в силах был отвечать: язык его прилип к гортани, им овладело непреодолимое желание уснуть, и стол и лица сотрапезников ему виднелись в каком-то светящемся тумане. Мало-помалу шум затих, нахлебники начали расходиться один за другим. Когда остались только вдова Воке, г-жа Кутюр, мадмуазель Викторина, Вотрен и папаша Горио, Эжен сквозь сон увидел, как Воке берет бутылки со стола и сливает остатки вина в одну бутылку.
– Ах, какие же они глупые, какие юные! – говорила она.
Это была последняя фраза, которую мог разобрать Эжен.
– Никто, как господин Вотрен, мастер на эдакие проделки, – заметила Сильвия. – Слышите, Кристоф-то урчит, что твой волчок.
– Прощайте, мамаша, – сказал Вотрен. – Иду на бульвар полюбоваться на Марти в «Дикой горе», большой пьесе, переделке из «Отшельника».[68] Если желаете, я сведу туда вас и наших дам.
– Благодарю вас, мы не пойдем, – ответила г-жа Кутюр.
– Как, соседка?! – воскликнула г-жа Воке. – Неужели вы отказываетесь посмотреть переделку из «Отшельника», произведения на манер «Атала» Шатобриана?[69] А прошлым летом как мы любили его читать под липпами и плакали, точно Магдалина Элодийская, – такая это прелесть; произведение нравственное и может быть поучительно для вашей барышни.
– Нам не до театров, – ответила Викторина.
– Вот они и готовы, – заметил Вотрен, комично поворачивая головы Эжена и папаши Горио.
Прислонив голову студента к спинке стула, чтобы ему было удобнее спать, он с чувством поцеловал его в лоб и пропел:
- Забудься сном, любимец мой!
- Хранить я буду твой покой.
– Боюсь, как бы он не заболел, – сказала Викторина.
– Тогда останьтесь ухаживать за ним, – ответил ей Вотрен. – Это ваша обязанность, как преданной жены, – шепнул он ей на ухо. – Он обожает вас, и вы станете его женушкой, предсказываю вам. Итак, – произнес он громко, – они заслужили всеобщее уважение, жили счастливо и народили много деток. Так кончаются все любовные романы. Ну, мамаша, – добавил он, обернувшись и обнимая вдову Воке, – надевайте шляпку, парадное платье с цветочками и шарф графини. Я самолично иду за извозчиком для вас. – И он вышел, напевая:
- О солнце, солнце, божество!
- Твоим раченьем спеют тыквы…
– Ей-богу, госпожа Кутюр, с таким человеком я была бы счастлива хоть на голубятне. Папаша Горио, и тот напился, – продолжала она, оборачиваясь в сторону вермишельщика. – Этот старый скряга ни разу и не подумал свести меня куда-нибудь. Господи! да он сейчас упадет на пол! Пожилому человеку непристойно пить до потери рассудка. Да и то сказать, чего нет, того не потеряешь. Сильвия, отведите апашу к нему в комнату.
Сильвия, поддерживая старика подмышки, повела его и бросила, как куль, прямо в одежде поперек кровати.
– Милый юноша, – говорила г-жа Кутюр, поправляя Эжену волосы, падавшие ему на глаза, – совсем как девушка: он не привык к излишествам.
– О, я тридцать один год держу пансион, и немало молодых людей прошло, как говорится, через мои руки, – сказала вдова Воке, – но никогда не попадался мне такой милый, такой воспитанный, как господин Эжен. Как он красив во сне! Госпожа Кутюр, положите его голову себе на плечо. Э, да она клонится на плечо к мадмуазель Викторине! Детей хранит сам бог: еще немножко, и он разбил бы себе лоб о шишку на стуле. Какая бы из них вышла парочка!
– Замолчите, голубушка, – воскликнула г-жа Кутюр, – вы говорите такие вещи…
– Да он не слышит, – ответила вдова Воке. – Сильвия, идем одеваться. Я надену высокий корсет.
– Вот тебе раз! Высокий корсет, это пообедавши-то? – возразила Сильвия. – Нет, поищите кого другого вас затягивать; мне не пристало быть вашей убийцей. От этакого неразумия и помереть недолго.
– Все равно, надо уважить господина Вотрена.
– Стало быть, вы очень любите своих наследников?
– Ну, Сильвия, довольно рассуждать, – ответила вдова, уходя к себе.
– В ее-то годы! – сказала Сильвия, указывая Викторине на свою хозяйку.
В столовой остались только г-жа Кутюр и ее воспитанница с Эженом, спавшим на ее плече. Храп Кристофа разносился в затихшем доме, оттеняя безмятежный, прелестный, как у ребенка, сон Эжена. Викторина была счастлива: она могла отдаться делу милосердия, в котором изливаются все лучшие чувства женщины, могла, не совершая тяжкого греха, ощущать у своего сердца биение сердца юноши, и что-то матерински покровительственное запечатлелось на ее лице, какая-то гордость этим чувством. Сквозь сонм всяких мыслей, роившихся в ее душе, пробивались бурные порывы страсти, разбуженной теплым и чистым дыханием молодого человека.
– Бедная моя девочка! – сказала г-жа Кутюр, пожимая ей руку.
Старая женщина, любуясь, смотрела на ее страдальческое, непорочное лицо, озаренное в эту минуту сиянием счастья. Викторина походила на старинную икону, где живописец, не заботясь о подробностях, все волшебство спокойной, величавой кисти приберег для лика – желтоватого по тону, но в желтизне своей как будто отражающего золотистые оттенки неба.
– Маменька, а ведь он выпил не больше двух стаканов, – сказала Викторина, проводя рукой по волосам Эжена.
– Если бы он был кутила, дочка, он переносил бы вино так же легко, как и другие, – ответила г-жа Кутюр. – Его опьянение служит ему к чести.
На улице раздался стук экипажа.
– Маменька, это господин Вотрен. Поддержите господина Эжена. Мне не хочется, чтобы этот человек застал меня в таком виде: он употребляет выражения, которые грязнят душу, да и в его взгляде есть что-то тягостное для женщины, точно он раздевает ее глазами.
– Нет, ты ошибаешься, – возразила г-жа Кутюр. – Господин Вотрен хороший человек, отчасти в том же духе, что и мой покойный муж: грубоватый, но добрый, благодушный медведь.
В этот момент очень тихо вошел Вотрен и посмотрел на эту картину – на двух детей, точно ласкаемых светом лампы.
– Вот такие сцены, – сказал он, скрестив руки на груди, – вдохновили бы милого Бернардена де Сен-Пьера, автора «Павла и Виргинии»,[70] и он написал бы великолепные страницы. Как прекрасна юность, госпожа Кутюр! Спи, милый мальчик, – произнес он, глядя на Эжена, – хорошее приходит иногда во время сна. Сударыня, – обратился он к вдове, – в этом юноше меня влечет и трогает гармония между его душевной красотой и красотой его лица. Взгляните: да ведь это херувим, склонивший голову на плечо ангелу! Он достоин любви! Будь я женщина, я бы с наслаждением умер… (нет, я не так глуп!) жил бы для него. Любуясь ими, – шопотом продолжал он, наклонившись к уху вдовы, – я не могу отрешиться от мысли, что бог создал их друг для друга. У провидения свои тайные пути, оно испытует сердца и чресла, – сказал он уже громко. – Глядя на вас, детей, столь близких друг другу чистотой души и всеми человеческими чувствами, я говорю себе: для вас и в будущем разлука невозможна. Бог справедлив. Да-а! – обратился он к девушке. – Мне помнится, как-то я заметил у вас линии счастливой жизни. Мадмуазель Викторина, дайте-ка мне вашу руку. Я смыслю в хиромантии, мне приходилось гадать не один раз. Ну же, не бойтесь! О, что я вижу? Честное слово, вы очень скоро будете одной из самых богатых наследниц во всем Париже. Вы осчастливите своего милого превыше головы… Отец возвращает вас к себе. Вы выходите замуж за молодого человека, титулованного, красивого, который обожает вас.
Тяжелые шаги кокетливой вдовы, спускавшейся по лестнице, прервали пророчества Вотрена.
– А вот и маменька Вокке, прекррасна, как звеззда, и стянута в рюмочку. Мы чуточку себя не душим? – спросил он ее, пощупав планшетку корсета. – Под ложечкой-то, маменька, здорово перетянуто. Не дай бог, расплачемся, произойдет взрыв; конечно, я подберу осколки со всей заботливостью антиквара.
– Вот он знает французский любезный разговор! – сказала вдова на ухо г-же Кутюр.