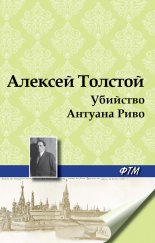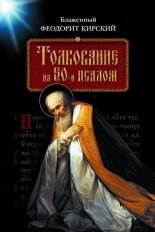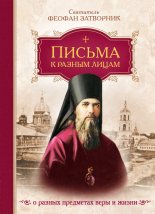Звездный билет (сборник) Аксенов Василий
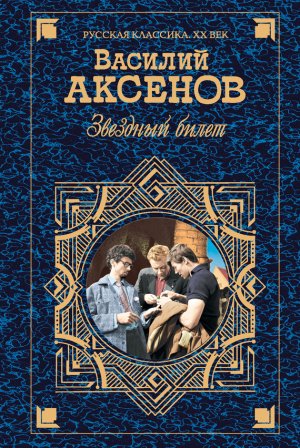
— Вот эта, — показал я, — вторая слева.
Базаревич долго смотрел на снимок и вздыхал.
— Дурак ты, Витька, — наконец сказал он, — все у нее в порядке. Никаких недостатков. Полный порядок.
Он лег спать, и я выключил свой фонарик и тоже лег. В окошке был виден кусочек неба и мерцающий склон сопки. Не знаю, может, мне в детстве снились такие подернутые хрустящим и сверкающим настом сопки, во всяком случае, гора показалась мне в этот момент мешком Деда Мороза. Я понял, что не усну, снова зажег фонарик и взял журнал. Я всегда беру с собой в экспедицию какой-нибудь журнал и изучаю его от корки до корки. Прошлый раз это был журнал «Народная Румыния», а сейчас «Спортивные игры». В сотый раз, наверное, я читал статьи, разглядывал фотографии и разбирал схемы атак на ворота противника.
«Поспешность… Ошибка… Гол!»
«Как самому сделать клюшку».
«Скоро в путь и вновь в США, в Колорадо-Спрингс…»
«Как использовать численный перевес».
«Кухня Рэя Мейера».
«Японская подача».
Я, центральный нападающий Виктор Колтыга, разносторонний спортсмен и тренер не хуже Рэя Мейера из университета Де-Поль, я отправляюсь в путь и вновь в Колорадо-Спрингс, с клюшкой, сделанной своими руками… Хм… «Можно ли играть в очках?» Ага, оказывается, можно — я в специальных, сделанных своими руками очках прорываюсь вперед; короткая тактическая схема Колтыга — Понедельник — Месхи — Колтыга, вратарь проявляет поспешность, потом совершает ошибку, и я забиваю гол при помощи замечательной японской подачи. И Люся Кравченко в национальном финском костюме подъезжает ко мне на коньках с букетом кубанских тюльпанов.
Разбудили нас Чудаков и Евдощук. Они, как были, в шапках и тулупах, грохотали сапогами по настилу, вытаскивали свои чемоданы и орали:
— Подъем!
— Подъем, хлопцы!
— Царствие небесное проспите, ребята!
Не понимая, что происходит, но понимая, что какое-то ЧП, мы сели на койку и уставились на этих двух безобразно орущих людей.
— Зарплату, что ли, привез, орел? — спросил Евдощука Володя.
— Фигушки, — ответил Евдощук, — зарплату строителям выдали.
В Фосфатогорске всегда так: сначала выплачивают строителям, а когда те все проедят и пропьют и деньги снова поступят в казну, тогда уж нам. Перпетуум-мобиле. Чего ж они тогда шум такой подняли, Чудаков с Евдощуком?
— Ленту, что ли, привезли? — спросил я. — Опять «Девушку с гитарой»?
— Как же, ленту, дожидайся! — ответил Чудаков.
— Компот, что ли? — спросил Базаревич.
— Мальчики! — сказал Чудаков и поднял руку.
Мы все уставились на него.
— Быстренько, мальчики, подымайтесь и вынимайте из загашников гроши. В Талый пришел «Кильдин» и привез апельсины.
— На-ка, разогни, — сказал я и протянул Чудакову согнутый палец.
— Может, ананасы? — засмеялся Володя.
— Может, бананы? — ухмыльнулся Миша.
— Может, кокосовые орехи? — грохотал Юра.
— Может, бабушкины пироги привез «Кильдин», — спросил Леня, — тепленькие еще, да? Подарочки с материка?
И тогда Евдощук снял тулуп, потом расстегнул ватник, и мы заметили, что у него под рубашкой с правой стороны вроде бы женская грудь. Мы раскрыли рты, а он запустил руку за пазуху и вынул апельсин. Это был большой, огромный апельсин, величиной с приличную детскую голову. Он был бугрист, оранжев и словно светился. Евдощук поднял его над головой и поддерживал снизу кончиками пальцев, и он висел прямо под горбылем нашей палатки, как солнце, и Евдощук, у которого, прямо скажем, матерщина не сходит с губ, улыбался, глядя на него снизу, и казался нам в эту минуту магом-волшебником, честно. Это была немая сцена, как в пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».
Потом мы опомнились и стали любоваться апельсином. Я уверен, что никто из ребят, принадлежи ему этот апельсин, не сожрал бы его. Он ведь долго рос, и наливался солнцем где-то на юге, и сейчас был такой, как бы это сказать, законченный, что ли, и он был один, а ведь сожрать его можно за несколько секунд.
Евдощук все объяснил. Оказалось, что он добыл этот апельсин в Фосфатогорске, ему уступил его в обмен на перочинный нож вернувшийся с Талой экспедитор Парамошкин. Ну, Евдощук с Чудаковым и помчались сюда, чтобы поднять аврал.
Мы повскакали с коек и завозились, вытаскивая свои чемоданы и рюкзаки. Юра толкнул меня в спину:
— Вить, я на тебя надеюсь в смысле деньжат.
— Ты что, печку, что ли, топишь деньгами? — удивился я.
— Кончай, — сказал он, — за мной не заржавеет.
Мы вылезли из палатки и побежали в гору сообщить Кичекьяну насчет экскурсии в Талый. Бежали мы быстро, то и дело сваливаясь с протоптанной тропинки в снег.
— Значит, я на тебя надеюсь, Вить! — крикнул сзади Юра.
На площадке возле костра стоял Кичекьян и хлопал рукавицами.
— Бросьте заливать, ребята, — сказал он, — какие там апельсины! Выпить, что ли, захотелось?
Тогда мы все обернулись и посмотрели на Евдощука. Евдощук, небрежно глядя на луну и как бы томясь, расстегивал свой тулуп. Кичекьян даже заулыбался, увидев апельсин. Евдощук бросил апельсин Айрапету, и тот поймал его одной рукой.
— Марокканский, — сказал он, хлопнув по апельсину рукавицей, и бросил его Евдощуку, а тот метнул обратно. Такая у них произошла перепасовочка.
— Это вам, — сказал Евдощук, — как южному человеку.
Кичекьян поднял апельсин вверх и воскликнул:
— Да будет этот роскошный плод знамением того, что мы сегодня откроем нефть! Езжайте, ребята. Может быть, и мы туда на радостях заявимся.
Мы ничего ему на это не сказали и побежали вниз. Внизу Чудаков уже разогревал мотор. Когда едешь от нашего лагеря до Фосфатогорска и видишь сопки, сопки без конца и края, и снег, и небо, и луну, и больше ничего не видишь, невольно думаешь: куда это ты попал, Витек, думал ли ты, гадал ли в детстве, что попадешь в такие края? Сколько я уже плутаю по Дальнему Востоку, а все не могу привыкнуть к пустоте, к огромным пустым пространствам. Я люблю набитые ребятами кузова машин, бараки и палатки, хоть там топор можно повесить. Потому что, когда один храпит, а другой кушает мясную тушенку, а третий рассказывает про какую-нибудь там деревню на Тамбовщине, про яблоки и пироги, а четвертый пишет письмо какой-нибудь невесте, а приемник трещит и мигает индикатор, — кажется, что вот он здесь, весь мир, и никакие нам беды не страшны, разные там атомные ужасы и стронций-90.
Чудаков гнал машину на хорошей скорости, встряхивал нас на славу. Мы стукались друг о друга и думали об апельсинах. В своей жизни я ел апельсины не один раз. В последний раз это было в Москве года три назад, в отпуске. Ничего, прилично я тогда навитаминился.
Наконец мы проехали Кривой Камень, и открылся лежащий внизу Фосфатогорск — крупнопанельные дома, веревочки уличных фонарей, узкоколейка. В центре города, голубой от лунного света, блестел каток.
Скатились мы, значит, в этот «крупный промышленный и культурный центр», в котором жителей как-никак пять тысяч человек, и Чудаков на полной скорости начал крутить по совершенно одинаковым улицам среди совершенно одинаковых четырехэтажных домов. Может, и мне придется жить в одном из этих домов, если товарищ Кравченко найдет время оторваться от своей общественной деятельности и ответить на мои серьезные намерения. Не знаю уж, как я свой дом отыщу, если малость выпью с получки. Придется мету какую-нибудь ставить или надпись: «Жилплощадь занята. Глава семьи — Виктор Колтыга»
Вырвались мы на шоссе и жмем по нему. Здесь гладко: грейдеры поработали. Юра мечтает:
— Разрежу его, посыплю песком и съем…
— Чудак, — говорит Базаревич, — посыпать апельсины сахаром — это дурной тон.
— Витька, — обратился ко мне Миша, — а правда, что в апельсинах солнечная энергия?
— Точно, — говорю, — в каждом по три киловатта.
— Вить, так я на тебя надеюсь, — говорит Юра.
— Кончай, — говорю, — резину тянуть. Надеешься, так и молчи… Надеяться надо молча.
В это время нагоняет нас самосвал «ЯЗик», а в нем вместо грунта или там щебенки полным-полно ребят. Веселые, смеются. Самосвал идет наравне с нами, на обгон норовит.
— Эй! — кричим. — Куда, ребята, катаетесь?
— В Талый, за апельсинами!
Мы заколотили по крышке кабины: обидно было, что обогнал нас дряхлый «ЯЗик».
— Чудаков! — кричим. — Покажи класс!
Чудаков сообразил, в чем дело, и стал было показывать, но самосвал в это время вильнул, и мы увидели грейдер, весь облепленный ребятами в черных городских пальто. Через секунду и мы стали обходить грейдер, но Чудаков сбросил скорость. Ребята на грейдере сидят, как галки, синие носы трут.
— Куда, — спрашиваем, — торопитесь?
— В Талый, — говорят, — за апельсинами.
Ну, взяли мы этих парней к себе в кузов, а то ведь они на своем грейдере поспеют в Талый к одним только разговорам о том, кто больше съел. Да и ребята к тому же были знакомые, из авторемонтных мастерских.
Тогда Чудаков стал показывать класс. Мы скорчились на дне кузова и только слушали, как гудит, ревет воздух вокруг нашей машины. Смотрим, самосвал уже сзади нас. Ребята там встали, стучат по кабине.
— Приветик! — кричим мы им.
— Эй! — кричат они. — Нам-то оставьте малость!
— Все сожрем! — кричим мы.
Дорога начала уходить в гору, потом пошла по склону сопки, а мы увидели внизу, в густой синеве распадка, длинную вереницу красных огоньков, стоп-сигналов машин, идущих впереди нас на Талый.
— Похоже на то, что в Талом сегодня будет карнавал, — сказал Леня Базаревич.
На развилке главного шоссе и дороги, ведущей в зверосовхоз, стояла под фонарем плотная группа людей. Они «голосовали». Видно было, что это моряки. Чудаков притормозил, и они попрыгали в кузов. Теперь наша машина была набита битком.
— Куда, — спрашиваем, — путь держите, моряки?
— В Талый, — говорят, — за апельсинами.
Они, оказывается, мчались из Петровского порта на попутных. Это был экипаж сейнера «Зюйд» в полном составе, за исключением вахтенного. Смотрю, а среди них сидит тот самый парнишка, который на танцах приударял за Люсей. Сидит, мичманку на уши надвинул, воротник поднял, печальный такой паренек.
— О, — говорю, — Гера! Привет!
— А, — говорит, — здорово, Витя!
— Ну, как, — спрашиваю, — рыбка ловится?
— В порядке, — отвечает.
Так, значит, перекинулись, вроде мы с ним добрые знакомые, не то, что дружки, а так.
Едем мы, мчимся, Чудаков класс показывает, обгоняем разную самодвигающуюся технику: машины, бортовые и «ГАЗ-69», тракторы с прицепами, грейдеры, бульдозеры, мотоциклы. Черт, видно, вся техника в радиусе ста километров поставлена на ноги! Господи ты Боже, смотрим: собачья упряжка шпарит по обочине! Одна, другая… Нанайцы, значит, тоже решили повитаминиться.
Сидим мы, покуриваем. Я ребятам рассказываю все, что знаю про цитрусовые культуры, и иногда на Геру посматриваю. И он тоже на меня нет-нет да взглянет.
Тут я увидел, что нас нагоняет мотоцикл с коляской, а за рулем Сергей Орлов, весь в коже, и в очках, и в мотоциклетном шлеме. Сидит прямо, руки в крагах расставил, как какой-нибудь гвардейский эскорт. Сзади, вижу, сидит бородатый парень — ага, Николай Калчанов. А в коляске у них девушка, тоже в мотоциклетных очках. Это парни из Фосфатогорска, интеллектуалы, а вот девчонка что-то незнакомая.
Взяли они на обгон, идут с нами вровень.
— Привет, Сережа! — крикнул я им. — Ник, здорово!
— А, Витя, — сказали они, — ты тоже за марокканской картошкой спешишь?
— Точно, — говорю. — Угадали.
— Закурить есть? — спрашивает Калчанов.
Я бросил ему пачку, а он сразу сунул ее девчонке в коляску. Смотрю, девчонка спрятала голову за щиток и закуривает за щитком. Тут я ее узнал — это была Катя, жена нашего Айрапета Кичекьяна, учительница из Фосфатки. Катя закурила, помахала мне рукавицей и улыбнулась, показала все-таки свои зубки. Когда они с мужем приехали к нам с материка, самого Айрапета никто не замечал — так была красива его жена. Такая блондинка, прямо Барбара Квятковская из журнала «Экран». Тоже паника у нас тогда началась, вроде как сейчас, с апельсинами. Все норовили съездить в Фосфатогорск посмотреть на нее. Ну, потом привыкли.
Зверь, а не машина у Орлова! Он легко обогнал нас и стал уходить. Чудаков пытался его достать, но дудки. Мы их догнали на семьдесят третьем километре, они вытаскивали машину из кювета. Коля Калчанов хромал, а Катя, смеясь, рассказывала, как она вылетела из коляски, пролетела в воздухе метров десять — нет, двадцать, ну, не двадцать, а пятнадцать, в общем, метров пять она летела, ну ладно, пять — и зарылась головой в снег. Орлов в своем шлеме и по пояс в снегу выглядел прямо молодцом. Мы помогли им вытащить машину, и они поехали теперь уже потише, держась за нами.
В общем, дорога была веселая, все шоссе грохотало десятками двигателей, а перед самыми Шлакоблоками мы встретили рейсовый автобус Талый — Фосфатогорск, из которого какой-то типчик бросил нам в кузов горсть оранжевой апельсиновой кожуры.
На большой скорости мы ворвались в Шлакоблоки, домики замелькали в глазах, я растерялся и даже не мог определить, в какой стороне Люсин барак, и понял, что через несколько секунд он уже останется сзади, этот поселочек, моя столица, как вдруг Чудаков затормозил. Я увидел Люсин барак, чуть ли не по крышу спрятанный в снег, и белый дым из трубы. Чудаков вышел из кабины и спросил меня:
— Зайдешь?
Я посмотрел на Геру. Он смотрел на меня. Я выпрыгнул из машины и зашагал к бараку.
— Только по-быстрому! — крикнул мне вслед Чудаков.
Я услышал за спиной, как ребята попрыгали из машины. Вовремя, значит, произошла остановка.
Небрежно, как бы мимоходом, я зашел в комнату и увидел, что она пуста. Все десять коек были аккуратно застелены, как это всегда бывает у девчат, а в углу на веревке сушилась разная там голубая и розовая мелочишка, которую я предпочел не разглядывать. Вот записки на столе я просмотрел.
«Шура, мы уехали в Талый. Роза», — прочел я.
«Игорь, мы уехали за апельсинами. Нина», — прочел я.
«Слава, продай билеты и приезжай в Талый. И.Р.», — прочел я.
«Эдик, я уехала в Талый за апельсинами. Извини. Люся», — прочел я.
«Какой же это Эдик? — подумал я. — Уж не Танака ли? Тогда мне хана».
Да, попробуй потягаться с таким орлом, как Эдуард Танака, чемпион Дальневосточной зоны по лыжному двоеборью — трамплин и равнина.
Я вынул свое письмо, положил его на стол и вышел. В дверях столкнулся с Герой.
— Ну, как там девчата? — промямлил он.
— Уехали в Талый, — сказал я. — Небось уже рубают апельсинчики.
Мы вместе пошли к машине.
— Ты, случаем, не знаком с Танакой? — спросил я.
— Это чемпион, что ли?
— Ага.
— Нет, не знаком. Видел только, как он прыгает. В кино.
— Он и не в кино здорово прыгает.
— Ага, хорошо прыгает.
Снег возле машины был весь разукрашен желтыми затейливыми узорами. Мы влезли в кузов и поехали дальше.
2. Николай Калчанов
На комсомольском собрании мне предложили сбрить бороду. Собрание было людное, несмотря на то что сегодня в тресте выдавали зарплату. Все знали, что речь будет идти о моей бороде, и каждый хотел принять участие в обсуждении этой жгучей проблемы или хотя бы посмеяться.
Ну, для порядка поговорили сначала о культурно-массовой и спортивной работе, а потом перешли к кардинальному вопросу повестки дня, который значился в протоколе под рубрикой «О внешнем виде комсомольца».
Ерофейцев сделал сообщение. Он говорил, что большинство комсомольцев в свободное от работы время имеет чистый, опрятный и подтянутый вид, однако (но… наряду с этим… к сожалению, следует заметить…) имеются еще комсомольцы, пренебрегающие… и к ним следует отнести молодого специалиста инженера Калчанова.
— Я понимаю, — сказал Ерофейцев, — если бы Коля — ты меня, Коля, прости (я покивал), — если бы он был геологом и зарос, так сказать, естественным порядком (смех), но ты, Коля, прости, ты даже не художник какой-нибудь, и, извини, это пижонство, а у нас здесь не Москва и не Ленинград.
В зале начался шум. Ребята с моего участка кричали, что борода — это личное дело мастера и уж не будет ли Ерофейцев контролировать, кто как разными такими личными делами занимается, что это, дескать, зажим и все такое. Другие кричали другое. Особенно старались девушки из Шлакоблоков. Одна из них была определенно недурна. Она заявила, что внешний облик человека свидетельствует как-никак о его внутреннем мире. Такая, грубо говоря, смугляночка. Тип Сильваны Пампанини. Я подмигнул ей, и она встала и добавила мысль о том, что дурные примеры заразительны.
Проголосовали. Большинство было против бороды.
— Хорошо, сбрею, — сказал я.
— Может, хочешь что-нибудь сказать, Коля? — спросил Ерофейцев.
— Да нет уж, чего уж, — сказал я. — Решено, значит, так. Чего уж там…
Такую я произнес речь. Публика была разочарована.
— Мы ведь тебя не принуждаем, — сказал Ерофейцев. — Мы не приказываем, тут некоторые неправильно поняли, не осмыслили. Мы тебя знаем, ты хороший специалист и в быту, в общем, устойчив. Мы тебе ведь просто рекомендуем…
Он разговаривал со мной, как с больным.
Я встал и сказал:
— Да ладно уж, чего там. Сказано — сделано. Сбрею. Считайте, что ее уже нет. Была и сплыла.
На том и закончилось собрание.
В коридоре я встретил Сергея. Он шел с рулоном чертежей под мышкой. Я прислонился к стене и смотрел, как он идет, высокий, чуть-чуть отяжелевший за эти три года после института, элегантный, как какой-нибудь гид с французской выставки.
— Ну что, барбудос, плохи твои дела? — спросил он.
Вот это в нем сохранилось — дружеское, но немного снисходительное отношение старшекурсника к салаге.
Я подтянулся.
— Не то чтобы так, начальник, — сказал я. — Не то чтобы очень.
— Это тебе не кафе «Аэлита», — тепло усмехнулся он.
— Точно, начальник. Верно подмечено.
— А жалко? Сознайся, — подмигнул он и дернул меня за бородку.
— Да нет уж, чего уж, — засмущался я. — Ладно уж, чего там…
— Хватит-хватит, — засмеялся он. — Завелся. Вечером придешь?
— Очень даже охотно, — сказал я, — с нашим удовольствием.
— У нас сейчас совещание. — Он показал глазами на чертежи. — Говорильня минут на сорок — на час…
— Понятно, начальник, мы это дело понимаем, со всем уважением…
Он улыбнулся, хлопнул меня чертежами по голове и пошел дальше.
— Спроси его насчет цемента, мастер, — сказал мне мой тезка Коля Марков, бригадир.
Сергей обернулся уже в дверях директорского кабинета.
— А что с цементом? — невинно спросил он.
— Без ножа ведь режете, гады! — крикнул я с маленькой ноткой истерии.
За спиной Сергея мелькнуло испуганное лицо директорской секретарши.
— Завтра подбросим, — сказал Сергей и открыл дверь.
Я вышел из треста и посмотрел на огромные сопки, нависшие над нашим городом. Из-за одной сопки выглядывал краешек луны, и редкие деревья на вершине были отчетливо видны, каждое деревце в отдельности. Я зашел за угол здания, где не было никого, и стал смотреть, как луна поднимается над сопкой, довольно быстро, надо сказать, и как на сопки и на распадки ложатся резкие темно-синие тени и серебристо-голубые полосы света, и как получается Рокуэлл Кент. Я подумал о том, на сколько сотен километров к северу идет этот потрясающий рельеф и как там мало людей, да и зверей немного, и как на какой-нибудь метеостанции сидят двое и топят печь, два человека, которые никогда не надоедают друг другу.
За углом здания был топот и шум. Кто-то сговаривался насчет «выпить-закусить», кто-то заводил мотоцикл, смеялись девушки.
Из-за угла вышла группа девиц, казавшихся очень неуклюжими и бесформенными в тулупах и валенках, и направилась к автобусной остановке. Это были девицы из Шлакоблоков. Они прошли мимо, стрекоча, но одна обернулась и заметила меня.
Она вздрогнула и остановилась. Представляю, как я выглядел один на фоне белой, освещенной луной стены.
Она подошла и остановилась в нескольких шагах от меня. Это была та самая Сильвана Пампанини. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.
— Ну, чего это вы так стоите? — дрогнувшим голосом спросила она.
— Значит, из Шлакоблоков? — спросил я, не двигаясь.
— Переживаете, да? — уже другим тоном, насмешливо спросила она.
— А звать-то как? — спросил я.
— Ну, Люся, — сказала она, — но ведь критика была по существу.
— Законно, — сказал я. — Пошли в кино?
Она облегченно засмеялась:
— Сначала побрейтесь, а потом приглашайте. Ой, автобус!
И побежала прочь, неуклюже переваливаясь в своих больших валенках. Даже нельзя было представить, глядя на нее в этот момент, что у нее фигура Дианы. Высунулась еще раз из-за киоска и посмотрела на Николая Калчанова, от которого на стену падала огромная и уродливая тень.
Я вышел из-за угла и пошел в сторону фосфатогорского «Бродвея», где светились четыре наши знаменитые неоновые вывески: «Гастроном», «Кино», «Ресторан», «Книги» — предметы нашей всеобщей гордости. Городишко у нас гонористый, из кожи вон лезет, чтобы все было, как у больших. Даже есть такси — семь машин.
Я прошел мимо кино. Шла картина «Мать Иоанна от ангелов», которую я уже смотрел два раза, позавчера и вчера. Прошел мимо ресторана, в котором было битком. Из-за шторы виднелась картина Айвазовского «Девятый вал» в богатой раме, а под ней голова барабанщика, сахалинского корейца Пак Дон Хи. Я остановился посмотреть на него. Он сиял. Я понял, что оркестр играет что-то громкое. Когда они играют что-нибудь громкое и быстрое, например, «Вишневый сад», Пак сияет, а когда что-нибудь тихое, вроде «Степь да степь кругом», он сникает — не любит он играть тихое. В этот раз Пак сиял, как луна. Я понял, что ему дали соло. И он сейчас руками и ногами выколачивает свой чудовищный брек, а ребята из нашего треста смотрят на него, раскрыв рты, толкают друг друга локтями и показывают большие пальцы. Нельзя сказать, что джаз в нашем ресторане старомодный, как нельзя сказать, что он моден, как нельзя подвести его ни под какую классификацию. Это совершенно самобытный коллектив. Лихие ребята. Просто диву даешься, когда они с неслыханным нахальством встают один за другим и солируют, а потом как грянут все вместе — хоть стой, хоть падай.
Насмотревшись на Пака и порадовавшись за него, я пошел дальше. У меня немного болело горло, видно, простудился сегодня на участке, когда лаялся с подсобниками.
В «Гастрономе» было полно народу. Наш трест штурмовал прилавки, а шахтеры, авторемонтники и геологи стреляли у наших трешки и пятерки. Дело в том, что нам сегодня выдали зарплату, а до других еще очередь не дошла.
У меня тоже стрельнул пятерку один знакомый парень. Шофер из партии Айрапета.
— За мной не заржавеет, — сказал он.
— Как там ваши? — спросил я.
— Все возятся, да толку мало.
— Привет Айрапету, — сказал я.
— Ага.
Он врезался в толпу, и я полез за ним.
«Подольше бы вы там чикались!» — подумал я.
Я люблю Айрапета и желаю ему удачи, но у меня просто нет сил смотреть на него и на Катю, когда они вместе.
Я взял две бутылки «Чечено-ингушского» и килограмм конфет под аппетитным названием «Зоологические». Засунул все это в карманы куртки и вышел на улицу.
«Бродвей» наш упирается в сопку, в заросли кустарника, над которыми круто поднимается прозрачный лес — черные стволы, синие тени, серебристо-голубые пятна света. Ветви деревьев переплелись. Все резко, страшновато. Я понимаю, почему графики любят рисовать деревья без листьев. Деревья без листьев — это вернее, чем с листьями.
А за спиной у меня была обыкновенная добропорядочная улица с четырьмя неоновыми вывесками, похожая на обыкновенную улицу в пригороде Москвы или Ленинграда, и трудно было поверить, что там, за сопкой, город не продолжается, что там уже на тысячи километров к северу нет крупноблочных домов и неоновых вывесок, что там необозримое, предельно выверенное и точное царство, где уж если нечего есть, так нечего есть, где уж если ты один, так один, где уж если тебе конец, так конец. Плохо там быть одному.
Я постоял немного на грани этих двух царств, повернул налево и подошел к своему дому. Наш дом последний в ряду и всегда будет последним, потому что дальше — сопка. Или первым, если считать отсюда.
Стаськи дома не было. Я поставил коньяк на стол, поел баклажанной икры и включил радио.
— В Турции непрерывно растет стоимость жизни, — сказало радио.
Это я слышал еще утром. Это была первая фраза, которую я услышал сегодня утром, а потом Стаська сказал:
— Куда эта бородатая сволочь спрятала мои гантели?
Он почти всегда так «нежно» меня величает, только когда не в духе, говорит «Коля», а если уж разозлится, то — «Николай».
Не люблю приходить домой, когда Стасика нет. Да, он очень шумный и рубашки носит на две стороны, удлиняет, так сказать, срок годности, а по ночам он жует пряники, запивая водопроводной водой, и чавкает, чавкает так, что я закрываюсь одеялом с головой и тихо, неслышно пою: «Га-а-дина, свинья-я, подавись ты своим пря-я-ником…» Но зато, если бы он сейчас был дома, он отбросил бы книжку и спросил: «Откуда заявилась эта бородатая сволочь?» А я ответил бы: «С комсомольского собрания».
А когда мы выпьем, я говорю с ним о Кате.
Я встал и плотно прикрыл скрипучие дверцы шкафа, придвинул еще стул, чтобы не открывались. Не люблю, когда дверцы шкафа открыты, и прямо весь содрогаюсь, когда они вдруг открываются сами по себе с тихим, щемящим сердце скрипом. Появляется странное ощущение: как будто из шкафа может вдруг выглянуть какая-нибудь рожа или просто случится что-нибудь нехорошее.
Я взял свой проект и расстелил на столе, приколол кнопками. Закурил в отошел немного от стола. Он лежал передо мной, будущий центр Фосфатогорска, стеклянный и стальной, гармоничный и неожиданный. Простите, но когда-то наступает пора, когда ты сам можешь судить о своей работе. Тебе могут говорить разное, умное, и глупое, и середка-наполовинку, но ты уже сам стоишь как столб и молчишь — сам знаешь.
Конечно, это не мое дело. Я мастер. В конце концов, я кончил всего только строительный институт. Мое дело — наряды, цемент, бетономешалка. Мое дело — сизый нос и щеки стекольного цвета, мое дело — «мастер, скинемся на полбанки», и, значит, туда, внутрь — «давай-давай, не обижу, ребята, фирма платит».
Мое дело — находить общий язык. Привет, мое дело — это мое дело. Мое дело — стоять как столб у стола, курить, и хвалить себя, и знать, что действительно добился успеха.
Я размазня, я никогда не показываю своей работы, даже Сергею. Все это потому, что я не хочу лезть вверх. Вот если бы мой проект приняли, а меня бы за это понизили в должности и начались бы всякие мытарства, тогда мне было бы спокойно. Я не могу, органически не могу лезть вверх. Ведь каждый будет смотреть на твою рожу и думать: «Ну, пошел парень, в гору идет!» Только Стаська и знает про эту штуку, больше никто, даже Катя.
Со мной дело плохо обстоит, уважаемый товарищ. Я влюблен. Чего там темнить — я влюблен в жену моего друга Айрапета Кичекьяна. Глупо, правда?
Я взял бутылку, двумя ударами по донышку выбил пробку и пару раз глотнул. Наверху завели радиолу.
«Купите фиалки, — пел женский голос, — вот фиалки лесные».
Вот фиалки лесные, и ты вся в лесных фиалках, лицо твое в лесных фиалках, а ножками ты мнешь ягоды. Босыми. Землянику.
Я выпил еще и повалился на кровать. Открыл тумбочку и достал письма, наспех просмотренные утром.
Мать у меня снова вышла замуж, на этот раз за режиссера. Инка все еще меня любит. Олег напечатался в альманахе, сообщает Пенкин. Сигареты с фильтром он мне вышлет на днях. «Старая шляпа, ты еще не сдох?» — спрашивает сам Олег, и дальше набор совершенно незаслуженных оскорблений.