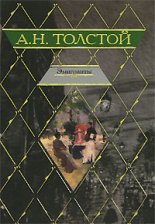Петр Первый Толстой Алексей
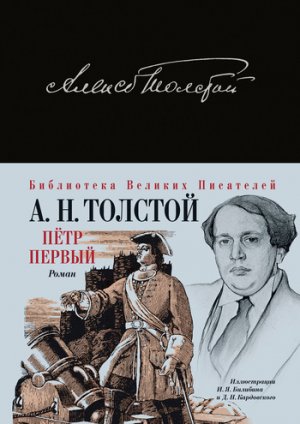
— А все же ты — счастливая. — Наталья подперла щеку и опять стала глядеть в окошко, как птица, из клетки. По нежному горлу покатился клубочек. — Нам, царевнам-девкам, сколько ни веселись — одна дорожка — в монастырь… Нас замуж не выдают, в жены не берут. Либо уж беситься без стыда, как Машка с Катькой… Недаром сестра Софья за власть боролась лютой тигрицей…
Катерина только было нагнулась, — поцеловать ее руку с голубыми жилками, сложенную от огорчения в кулачок, — на лугу показался высокий всадник на поджаром коне с мокрой гривой, у него плащ был мокрый, и со шляпы висели мокрые перья. Увидев Наталью Алексеевну, он соскочил с коня, бросив его — шагнул к окошку, снял шляпу, преклонил колено в траву и шляпу приложил к груди…
Наталья Алексеевна стремительно поднялась, толстая коса ее упала на шею, лицо вспыхнуло, все задрожало, засияли глаза, раскрылись губы…
— Гаврила! — сказала тихо. — Это ты? Здравствуй, батюшка мой… Так иди же в дом, чего на дожде-то стоишь…
Вслед за Гаврилой подъехала одноколка, рядом с кучером сидел востроносый испуганный человек, накрывшись от дождя мешком. Он тотчас снял шляпу, но не вылезал. Гаврила, не отрывая темных глаз от Натальи Алексеевны, приблизился к самой сирени.
— Здравствуй на множество лет, — сказал, будто задыхаясь. — Прибыл с поручением от государя… Привез тебе искусного живописца с наказом написать парсуну с некоторой любезной особы… Которого опосля надобно отослать за границу — учиться… Вон сидит в тележке… Дозволь с ним зайти…
Одного челядинца — верхом — Анисья Толстая послала в Кремль на сытный двор за всякими припасами к ужину и сладостями, — «да — свечей, свечей побольше!..» Другой поскакал в Немецкую слободу за музыкантами. Из трубы поварни повалил густой дым, — стриженые поварята застучали ножами. Подоткнутые девчонки бегали за цыплятами в мокром бурьяне. Дворцовые рыбаки, разленившиеся от безделья, пошли с вершами и сетями на пруды — ловить не менее ленивых карпов, полеживавших на боку в тине.
С заросших прудов после дождя закурился туман, заволок большой сгнивший мост, по которому никто уже больше не ходил, пополз между деревьями на луг перед дворцом, и старый дворец понемногу стал погружаться в него по самые кровли.
Старые люди, дворовые еще царя Алексея Михайловича, сидя у дверей поварни, у людской избы, глядели, как в затуманенном дворце в окошечках — то там, то там — появится и пропадет расплывающееся сияние свечи, слышится топот ног и хохот… Не дают старому дому покойно ветшать и догнивать, подставляя бревенчатые стены непогоде, худые крыши проливным дождям… И сюда ворвалась шалая молодость с новыми порядками… Бегают по лестницам от чердаков до подклетей… Ничего там не найдешь, — одни пауки в углах да мыши носы из нор повысунули…
В Наталью Алексеевну точно вселился бес, — с утра печалилась, — с приездом Гаврилы — раскраснелась, развеселилась, начала придумывать всякие забавы, чтобы никому ни минуты не посидеть покойно. Анисья Толстая не знала, как и поворачиваться. Царевна сказала ей:
«Сегодня быть Валтасарову пиру, ужинать будем ряженые».
«Свет мой, да ведь до святок еще далеко… Да и не знаю я, не видела, как царь Валтасар пировал…»
«Обыщем дворец, что найдем почуднее — все несите в столовую палату… Сегодня не серди меня, не упрямься…»
Заскрипели старые лестницы, застонали ржавые петли давно не отворявшихся дверей… Началась беготня по всему дворцу, — впереди — Наталья Алексеевна, подбирая подол, за ней со свечой — Гаврила, — от испуга у него остановились глаза. Испуг начался еще давеча, когда он с верха увидел в окошке Наталью Алексеевну, подперевшую, пригорюнясь, щечку. Было это, как из сказки, что в детстве рассказывала на печи Санька — про царевну Несравненную Красоту… Иван-то царевич скакнул тогда на коне выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, под самое косящатое окошко и сорвал у Несравненной Красоты перстень с белой руки…
Верчение головы было и у Андрея Голикова (ему велели также идти со всеми). Со вчерашнего вечера, когда он увидел портрет Гавриловой сестры, на дельфине, все казалось ему и не явь и не сон… До задыхания смущали его светло-русые, круглощекие девы Меньшиковы, столь прекрасные и пышные, что никакими складками платья невозможно было прикрыть соблазна их телосложения. И пахло от них яблоками, и не глядеть на них было невозможно.
В кладовых нашли немало всякой мягкой рухляди, платьев и уборов, какие и не помнили теперь, широченных шуб византийской парчи, епанчей, терликов, кафтанов, жемчужных венцов, по пуду весом, — все это охапками дворовые девки тащили в столовую палату. Высоко под самым потолком в одной подклети увидели небольшую дверцу. Наталья взяла свечу, приподнялась на цыпочки, закинула голову:
— А что, если он там?
Анна и Марфа — враз — с ужасом:
— Кто?
— Домовой, — проговорила Наталья. Девы схватились за щеки, но не побледнели, только раскрыли глаза — шире чего нельзя. Всем стало страшно. Старик истопник принес лестницу, приставил к стене. Тотчас Гаврила кинулся на лестницу, — он бы и не туда сейчас кинулся… Открыл дверцу и скрылся там в темноте. Ждали, кажется, очень долго, — он не отвечал оттуда и не шевелился. Наталья страшным шепотом приказала: «Гаврила! Слезай!» Тогда показались подошвы его ботфортов, растопыренные полы кафтана, он слез, весь был в паутине.
— Чего ты там видел?
— Да так, — сереется там чего-то, будто мохнатое, будто мягким меня чем-то по лицу погладило…
Все ахнули… На цыпочках заторопились из-под клети и — уже бегом — по лестнице, и только наверху Марфа и Анна начали визжать. Наталья Алексеевна придумала играть в домового. Искали потайных дверец, осторожно открывали чуланы под лестницами, заглядывали во все подпечья — от страха не дышали… И добились, — в одном темном месте, затянутом паутиной, увидели два зеленых глаза, горевших адским огнем… Без памяти кинулись бежать… Наталья споткнулась и попала на руки Гавриле, — тот ее подхватил крепко, и она даже услышала, как у него стучит сердце, редко, глухо, по-мужски… Она двинула плечом, сказала тихо: «Пусти».
Тогда пошли устраивать Валтасаров пир. Старик истопник, — с желтой бородой, как у домового, с медным крестом поверх рубахи, в новых валенках, — опять принес лестницу. На бревенчатые, давно ободранные стены в столовой палате повесили траченные молью ковры. Стол унесли, ужин накрыли прямо на полу, на ковре, — всем велено ужинать, сидя по-вавилонски, царем Валтасаром быть Гавриле. На него надели парчовый кафтан, хоть ветхий, да красивый, алый с золотыми грифонами, на плечи — шубу, какие носили сто лет назад, на голову — жемчужный венец, кажется, — еще царицы-бабушки. Наталью Алексеевну стали одевать Семирамидой в золотые ризы, поверх тяжелых кос навертели пестрых платков, послали дворовых девчонок — надергать у петухов из хвоста перьев покрасивее, и эти перья воткнули ей в тюрбан…
Думали — кем быть Марфе и Анне? Наталья велела им пойти за дверь, распустить косы, снять платья, юбки, остаться в сорочках, — благо сорочки тонкого полотна, длинные и свежие. Опять дворовые девчонки слетали на пруд, принесли водяных кувшинок, ими обмотали девам Меньшиковым шею, руки, волосы, длинными стеблями они подпоясались, — стали русалками с Тигра и Евфрата. Катерину одеть было легко, — богиней овощей и фруктов, имя ей — по-вавилонски — Астарта, по-гречески — Флора. Девчонки сбегали — надергали моркови, петрушки, нарвали зеленого луку, гороху, принесли незрелых тыкв, яблок. Катерина, разгоревшаяся, влажным ртом, круглыми от счастья глазами и более не робевшая, — как всегда, смеялась звонко всякому пустяку, — стала истинной Флорой, обмотанная горохом, укропом, в венке из овощей, держала в руке корзину с крыжовником и красной смородиной…
— А живописцу кем быть? — спохватилась Наталья. — У нас эфиопа нет, быть ему эфиопским царем.
Новое чудо началось для Андрюшки Голикова, женские руки, не то в яви, не то во сне, начали его тормошить, поворачивать, напутывать на него шелк и парчу, лицо ему измазали сажей, ущемили ноздрю медным кольцом, чтобы непременно сидел с кольцом в носу. Кажется — дай ему господь ангельские крылья — не был бы он столь блажен… Вошли, низко кланяясь, три музыканта из Немецкой слободы — скрипач, губной гармонист и флейтист. Их тоже кое-как одели.
— Теперь — ужинать! Сидеть на подушках, поджав ноги, пить мед и вино из раковин…
Как надо было играть в Валтасаров пир — точно никто не знал. Сели перед блюдами, перед свечами, переглядывались, улыбались, есть никому не хотелось… Тогда Наталья Алексеевна тряхнула петушиными перьями и, выпячивая губы, начала наизусть читать те самые вирши, которые Гаврила уже слышал от нее в зимнюю ночь, в жарко натопленном тереме, под золотым сводом:
- На горе превеликой живут боги блаженны,
- Стрелами Купидо паки они сраженны…
- Сам Юпитер стонет, — увы мне, страдаю,
- Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю,
- Огонь чрево гложет, жажду, ничем не напьюся,
- Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся…
- Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты,
- У кого же людям искать от сего защиты?
- Не лучше ли веселиться! Печаль оставим,
- Стрелы отравлёны сладким вином восславим…
Когда Наталья читала, лицо ее побледнело под огромным тюрбаном. Она отпила глоток вина и подошла плясать польку с Анисьей Толстой. Музыканты играли не громко, но так, что дрожала и пела каждая жилочка в теле.
— Иди с Катериной! — крикнула Наталья, сверкнула глазами на Гаврилу. Он вскочил, сбросил с плеч Валтасарову шубу, — плясать мог хоть круглые сутки. Спина у Катерины была горячая, податливая под рукой, ноги легкие, от кружения с ее головы и плеч летели стручки гороха, вишневые ягоды. Гаврила наддавал, и музыканты наддавали. Анна и Марфа также завертелись, взявшись за руки. На ковре перед свечами остался сидеть один Голиков, пить и есть он не мог из-за кольца в носу, но и это обстоятельство не мешало его блаженству, в ушах, под свист флейты, все еще звучали царевнины вирши про олимпийских богов… И плыла, плыла перед глазами нагая богиня на дельфине с чашей, полной соблазна…
Гаврила был прост, сказано — танцевать польку с Катериной, он и плясал, не жалея каблуков. И хотя несколько раз показалось ему, будто у Натальи Алексеевны лицо улыбается по-иному, невесело, без прежнего сияния в глазах, он не понял, что давно ему пора посадить Катерину на место около тыкв и моркови… Еще раз мелькнуло царевнино лицо со сжатыми, как от боли, зубами… Вдруг она покачнулась, остановилась, схватилась за Анисью Толстую, с головы ее повалился тюрбан с петушиными перьями… Анисья испуганно вскрикнула:
— У государыни головка закружилась! — и замахала на музыкантов, чтоб перестали играть…
Наталья Алексеевна вырвалась от нее, волоча мантию, вышла из палаты. На этом и окончился Валтасаров пир. Анне и Марфе сразу стало стыдно в одних рубашках, — перешепнулись и убежали за дверь. Катерина испуганно села на место, начала обирать с себя овощи. Гаврила помрачнел, раздвинув ноги, стоял над ковром с блюдами, насупясь, — моргал на огоньки свечей. Анисья вылетела вслед за царевной и скоро вернулась, схватила ногтями Гаврилу за руку:
— Иди к ней, — шепнула, — бейся лбом в пол, дурень…
Наталья Алексеевна стояла тут же, только выйти из палаты, — в переходе, глядела в раскрытое окошко на туман, светившийся от невидимой луны. Гаврила приблизился. Было слышно, как с крыши на листья падают капли.
— Ты надолго приехал в Москву? — спросила она не поворачиваясь. Он не собрался ответить, только задохнулся. — В Москве тебе делать нечего. Завтра уезжай, откуда приехал…
Выговорила, и плечи у нее поднялись, Гаврила ответил:
— Чем я тебя прогневал? Да господи, знала бы ты… Знала бы ты!
Тогда она повернулась и лицо с начерченными сажей бровями придвинула вплоть:
— Не надо мне тебя, слышишь, иди, иди!..
Повторяя: «Иди, иди», — подняла руки оттолкнуть его, но то ли поняла, что эдакого верзилу не оттолкнешь, положила руки, звякнувшие Семирамидиными запястьями, ему на плечи и низко — все ниже стала клонить голову. Гаврила, также не понимая, что делает, принялся, чуть прикасаясь, целовать ее в теплый пробор. Она повторяла:
— Нет, нет, иди, иди…
Глава шестая
Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, — подарок из Измайловского, — повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява «Катерина» скользила, будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина «Ульрика», и на краю воды и неба — в дымке — поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер».
Корабли эти недавно были взяты у шведов, — виктория случилась нежданная и весьма славная: русским досталось двенадцать бригантин и фрегатов — вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который два года не пропускал в Чудское озеро ни малого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью, в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каролус». Когда же на рассвете продрал глаза — сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям… «Огонь с обоих бортов по русской пехоте!» — закричал командор. Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты — русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж… Срам получился немалый, — пехота взяла в плен эскадру! Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту, — пламя вырвалось изо всех щелей и люков, — мачты, реи, бочки, люди и сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи…
Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо, за бортом пологая волна слепила зайчиками, Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попевало в снастях, хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы.
Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой, вез шведские знамена, сваленные под грот-мачтой, — третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что-де «божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину — городок Юрьев, поставленный семьсот лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны украин русской земли…».
Петру Алексеевичу хотя и в голову никогда не шло, — как, например, любезному брату королю Карлу, — равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной страдой кровавой, нуждой государственной, но под Юрьевом на этот раз он поверил в свой воинский талант, остался весьма собой доволен и горд: за десять дней (прибыв туда из-под Нарвы) сделал то, что фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вобана, казалось никак невозможным.
И еще было удовольствие: поглядывая на далекий лесной берег — знать, что берег — недавно шведский — теперь наш и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек — много взял, хочется больше; уж, кажется, приятнее быть ничего не может: таким ясным утром плыть на красавице шняве, неся за высокой кормой, назло Карлу, огромный Андреевский флаг. Так нет! Именно сегодня, — жарко до дрожи, — раздумалось ему об его зазнобе… По-другому не назовешь ее — ни мадамка, ни девка, — зазноба, свет-Катерина… Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри влажный воздух… От воды и корабельного дерева пахло купальней, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день… То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским, — ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы… Знала, чего делала, ведьмачка ливонская, кудрявая, веселая… В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливы… а ведь ни одной не равняться с Катериной, ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка… Ни одной не захотелось ему взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.
Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компании кто-то — должно быть, спросонок — сорвался, хлопнул дверью, — Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу:
— Я здесь, милостивый государь…
Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его, неуместное здесь, на борту, тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы:
— Чем писать…
Макаров заторопился, уходя споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей, за ухом торчали гусиные перья. Петр Алексеевич взял одно:
— Стань у штурвала, вцепись крепче, сухопутный, держи так. Заполощешь паруса — линьками попотчую…
Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик — яблоко на верхушке грот-мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать.
На одной стороне листа пометил: «Госпожам Анисье Толстой и Екатерине Васильефской…» На обороте, — брызгая чернилами и пропуская буквы: «Тетка и матка, здравствуйте на множество лет… О здравии вашем слышать желаю… А мы живем в трудах и в нужде… Обмыть, обшить некому, а паче всего — без вас скушно… Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет… Ей-ей, что как я стал служить — такой славной игры не видел… Короче сказать: с божьей помощью взяли на шпагу Юрьев… Что же о здравии вашем, то боже, боже сохрани вам отписывать о сем, а извольте сами ко мне быть поскорея. Чтобы мне веселее было… Доедете до Пскова — там ждите указа — куда следовать далее, здесь неприятель близко… Питер…»
— Сложи, запечатай, не читая, — сказал он Макарову и взял у него штурвал. — С первой оказией пошлешь.
Стало немножко будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка, затрепетали паруса, приятно потянуло пороховым дымом. На мостик взбежал командир шнявы, капитан Неплюев, с молодым, костлявым, дерзким лицом, придерживая короткую саблю — кинул два пальца к треуху:
— Господин бомбардир, адмиральский час, изволите принять чарку…
За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький Фельтен в зеленом вязаном жилете. На борту, вместо поварского колпака, он повязывал голову также по-пиратски — белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком.
Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву:
— На ночь станем на якорь у Наровы, ночевать буду на берегу… Дно промерял?
— У приток-Наровы с правого берега песчаная банка, с левого — одиннадцать фут…
— Ну, добро… Ступай…
Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводнешнее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досады…
Фельдмаршал Шереметьев вел осаду Юрьева с прохладцей, — особенно не утруждал ни себя, ни войско, надеясь одолеть шведов измором. Его многоречивые письма Петр Алексеевич комкал и швырял под стол. Черт подменил фельдмаршала, — два года воевал смело и жестоко, нынче, как старая баба, причитывает у шведских стен. Когда в нарвский лагерь прибыл наконец фельдмаршал Огильви, взятый настоянием Паткуля из Вены на московскую службу за немалое жалованье, мимо кормления и всякого винного и иного довольствия — в год три тысячи золотых ефимок, — Петр Алексеевич передал ему командование и в нетерпении кинулся под Юрьев.
Фельдмаршал его не ждал, — в полуденный зной после обеда похрапывал у себя в шатре, в обозе, за высоким валом, и проснулся, когда царь сорвал у него с лица платок от мух.
— На покое за рогатками спишь, — крикнул и завращал сумасшедшими глазами. — Иди, показывай мне осадные работы!
От такого страха у фельдмаршала отнялся язык, не помнил, как попал ногами в штаны, поблизости не случилось ни парика, ни шпаги, так — простоволосый — и полез на лошадь. Подбежал военный инженер Коберт, спросонок также не на те пуговицы застегивая французский кафтан; за эту осаду он только и сделал доброго, что разъел щеки — поперек шире — на русских щах. Петр злобно кивнул ему сверха. Втроем поехали на позиции.
Здесь все не понравилось Петру Алексеевичу… С восточной стороны, откуда вело осаду войско Шереметьева, стены были высоки, приземистые башни укреплены заново, равелины звездой выдавались далеко в поле, и рвы перед ними были полны воды. С запада город надежно обороняла полноводная река Эмбах, с юга — моховое болото. Шереметьев подобрался к городским стенам глубокими шанцами и апрошами — весьма осторожно и не близко, из опасения шведских пушек. Его батареи поставлены были и того глупее, — с них он бросил в город две тысячи бомб, зажег кое-где домишки, но стен и не поцарапал.
— Известно вам, господин фельдмаршал, во сколько алтын обходится мне каждая бомба? — угрюмо проговорил Петр Алексеевич. — С Урала везем их… А не хочешь ли ты за эти две тысячи напрасных бомбов заплатить из своего жалованья! — Он выхватил у него из подмышки подзорную трубу и водил ею, оглядывая стены. — Южная мура[15] ветха и низка. Я так и думал… — И быстро оглянулся на инженера Коберта. — Сюда надо кидать бомбы, здесь ломать стены и ворота. Отсюда надо брать город. Не с востока. Не удобства искать для-ради того, что там место сухо… Победы искать, хоть по шею в болоте…
Шереметьев не посмел спорить, только проворчал толстым языком: «Само собой… Вам виднее, господин бомбардир… А мы вот думали, не додумали…» Инженер Коберт почтительно, с сожалеющей усмешкой помотал щеками.
— Ваше величество, южная стена, также и башенные ворота, именуемые «Русскими воротами», — ветхи, но тем не менее неприступны, ибо к ним можно подойти только через болото… Болото непроходимо.
— Для кого болото непроходимо? — крикнул Петр Алексеевич, дернул длинной шеей, лягнул ногой, потерял стремя. — Для русского солдата все проходимо… Не в шахматы играем, в смертную игру…
Он соскочил с лошади, развернул на траве карту — план города, из кармана вытащил готовальню, из нее циркуль, линейку и карандаш. Начал мерить и отмечать. Фельдмаршал и Коберт присели на корточки около него.
— Вот где ставь все свои батареи! — Он указал на край болота перед «Русскими воротами». — Да за рекой прибавь ломовых пушек… — Он ловко стал чертить линии, как должны лететь ядра с батарей к «Русским воротам». Опять померил циркулем. Шереметьев бормотал: «Само собой… дистанция доступная». Коберт тонко усмехался. — На перемену позиций даю три дня… Седьмого начинаю огненную потеху. — Петр уложил циркуль и линейку в готовальню и стал запихивать ее в карман кафтана, но там лежал пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, — он схватил платок и с досадой сунул его за пазуху.
Трое суток он не давал людям ни отдыха, ни сна. Днем все войско на глазах у шведов продолжало прежние осадные работы, рыли шанцы под пулями и ядрами, сколачивали лестницы. Ночью тайно, не зажигая огней, впрягали быков в пушки и мортиры и везли их на новые места, — на край болота и через плавучий мост — за реку, укрывали батареи за фашинами и валами.
Едва солнце показалось над лесом, осветились худые кровли на южной стене, выступили над болотным туманом каменные зубцы на башне «Русских ворот», и в городе в утренней тишине засинели печные дымы — шестьдесят ломовых пушек и тяжелых мортир сотрясли землю и небо, двухпудовые ядра, фитильные бомбы с шипением пронеслись через болото. Загрохотали батареи за рекой. Под прикрытием порохового дыма гренадеры полка Ивана Жидка побежали со связками хвороста гатить болото.
Петр Алексеевич был на южной батарее. Кричать, учить, сердиться ему не пришлось, — едва успевал вертеть головой, глядя на пушкарей, да приговаривал: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю…» Едва только человеку скоро прочесть «Отче наш» — стволы уже прочищены банниками, вложены картузы с порохом, вбиты ядра, подсыпана затравка, наведен прицел…
— Всеми батареями! — кричал, выпучивая налитые кровью глаза, низенький полковник Нечаев, с которого первым залпом сорвало шляпу и парик. — Дистанция старая. Приложь фитиль… Оооо-гонь! — Командиры батарей раскатисто повторяли за ним: «Оооо-гонь!»
Было видно, как ударяли ядра, валились башенные зубцы, задымила, запылала кровля на стене, подожженные бомбами начали гореть городские домишки. На островерхих кирках затренькали колокола. Шведские солдаты, в куцых серых мундирах, выбежали из ворот, — шарахаясь от разрывов, начали копать куртину, тащили бревна, бочки, мешки… Все же до конца дня воротная башня и стена стояли крепко. Петр Алексеевич приказал пододвинуть батареи ближе.
Шесть дней длилась огненная потеха. Гренадеры Ивана Жидка по колена, по пояс в болоте гатили трясину, прикрываясь от неприятельских бомб и пуль переносными фашинами — в виде корзин с землей. Убитые тут же и тонули, раненых вытаскивали на плечах. Шведы поняли грозную опасность, перетащили сюда часть пушек с других башен и с каждым днем усиливали огонь. Город заволокло дымом. Сквозь летучие пороховые облака жгло красноватое солнце.
Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу — что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот, по-близости, под артиллерийской телегой. Инженера Коберта он отослал в большой обоз за то, что хотя и ученый был мужик, но зело смирный, — «а смирных нам здесь не надо»…
В сумерки, в ночь на тринадцатое июля, он вызвал Шереметьева. В эти дни фельдмаршал со всем войском шумел с восточной стороны, как мог — пугал шведов. Снова сделался боек, не слезал с коня, дрался и ругался. Петра Алексеевича он нашел на затихшей батарее. Кругом него стояли усатые бомбардиры — все старые знакомые — из тех, кто в потешные времена под городом Прешбургом угощал не в шутку из деревянных пушек репой и глиняными бомбами кавалерию князя-кесаря. У некоторых тряпками были перевязаны головы, изодраны мундиры.
Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки. «Саламандра» — медного тульского литья, — на нее для охлаждения пришлось вылить ведер двадцать уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и — торопливо проговаривая слова — разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена была наконец пробита в трех местах, этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни… — Как гвозди вбил! Не так разве? Что? — по-петушиному крикнул Петр Алексеевич. Весь угол башни завалился, и вся она — вот-вот готова рухнуть.
— Игнат, ты где, не вижу, подойди. — И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком. — Не дарю… другой при себе нет, а — покури… Хвалю… Живы будем — не забуду.
Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял треух„, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками…
— А табачку-то в ней, ваше величество, нетути…
Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем — табаку ни крошки. В это как раз время и подошел фельдмаршал. Петр Алексеевич — обрадованно:
— Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее — ни водки, ни табаку… (Бомбардиры опять засмеялись.) Сделай милость… (Шереметьев учтиво, с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет.) Ах, спасибо… да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину… Дарю его тебе, Игнат, а трубочку мне верни, не забудь…
Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним.
— Борис Петрович, ждать более нельзя, — изменившимся голосом проговорил Петр. — Люди рассердились… Гренадеры который день лежат в болоте… Трудно! Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь… Ты, не мешкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова — мужики угрюмые, отважные… Сам делай свое дело, для бога только не теряй людей напрасно… С рассветом пойду на приступ… (Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился.) Ступай, голубчик.
Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, — со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь, — сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена… По всему городу били в набат…
Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подзорную трубу из канавы за фашинами… С ним стоял молодой полковник Иван Жидок — орловец, похожий на цыгана, — черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали, от злости он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно. Но Петр Алексеевич все еще медлил. Вдруг Иван Жидок с тоской из глубины утробы выдавил: «Оооох!» — и замотал опущенной головой. Петр Алексеевич схватил его за плечо:
— Ступай!
Иван Жидок перескочил через фашины и, нагибаясь, побежал по болоту. Тотчас зашипела, взвилась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Меж красно-черных кочек болота стали подниматься люди, — утопая в тине, тяжело пошли к воротам. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставя штыки, шли роты московских стрелков… Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился: «Ох, — сказал, — ох». Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Жидка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал: «Урааа!» — Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка, поднялся крик, рев, лязг. До четырех тысяч людей сбилось у стен и ворот…
Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая во мху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли… Его догнал низенький полковник Нечаев:
— Государь, туда нельзя…
И оба стали глядеть туда…
Петр Алексеевич — ему:
— Пошли за подмогой…
— Государь, не надо…
— Говорю — пошли…
— Не надо… Наши уж отбивают у него пушки…
— Врешь…
— Вижу…
И точно — метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка… Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город…
Нечаев, плача выкаченными глазами:
— Государь, теперь — пошла потеха!..
Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно и столько их напрасно побито шведом, — кололи, рубили и гнали неприятеля по узким уличкам до городской площади. Там сгоряча убили четырех барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамад — сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившей о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище…
«Катерина» с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще, с высокими перьями на шляпе. На одни обшлага у красавца пошло, чай, не менее десяти аршин вишневого аглицкого сукна. Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее вбок, крикнул:
— Виват! Господину бомбардиру — виват — с великой викторией…
— Погоди, я сейчас к тебе слезу, — тихим баском ответил Петр Алексеевич. — А у вас какие новинки?
— И у нас не без виктории…
— Это — добро… А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и пивишка кое-какого и того не было…
— Три бочонка ренского получены вчерась! — гаркнул Меньшиков. — В нашем стане не как у Шереметьева — ни в чем ни задержки, ни отказу нет…
— Хвастай, хвастай. — Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал: «Взятые отвагой» — и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь, он покраснел, Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще: — Хорошо поплавали, командор.
Неплюев побагровел до пота, колючие глаза его от напряжения увлажнились, — царь назначал его командором — флагманом эскадры… Петр Алексеевич ничего больше не прибавил — вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоляному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меньшиковым, ткнул его локтем.
— Рад, что встретил, спасибо… Значит, и вас — с викторией: Шлиппенбаха разбили?..
— Да еще как, мин херц… Аникита Репнин налетел на телегах на него около Вендена, а полковник Рен с кавалерией, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город… Шведу — хочешь не хочешь — принимай бой в чистом поле… Разбили Шлиппенбаха так — сей иерой едва ушел с десятком кирасир в Ревель.
— Все-таки и в этот раз ушел… Ах, черти!
— Уж очень увертлив… Пустое, — он теперь без пушек, без знамен, без войска… Аникита Иванович потом с полпьяна плакался: «Не так, говорит, мне жалко — я Шлиппенбаха не взял, жалко его коня не взял: птица!» Я ему выговорил за такие слова: «Ты, говорю, Аникита Иванович, не крымский татарин — коней арканить, ты — русский генерал, должен иметь государское размышление…» Так с ним поругались, страсть… И еще — новинка: из Варшавы прискакал передовой, — король Август посылает к тебе великого посла… Хорошо бы этого посла принять уж в самой Нарве, в замке… А? Мин херц?
Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь.
— Из Москвы были вести?
— Да опять тебе докука: был посланный от князя-кесаря, — писем, грамот приволок целый короб… Был проездом в Питербург Гаврила Бровкин, привез тебе из Измайловского письмецо. — Петр Алексеевич быстро взглянул на него. — Оно при мне, мин херц. Да еще — четыре дыни парниковых, вез их — завернуты в бараний тулуп, за ужином попробуем… Рассказывает — в Измайловском тебя ох как ждут, все глаза проплакали…
— Ну, уж это ты врешь! — Лодка подошла боком к песку. Петр Алексеевич выскочил и полез на берег, где над водой стоял шатер Меньшикова.
Ужинать сели в шатре — вдвоем. Петр Алексеевич, сутулясь на седельных подушках, ел много, — проголодался на Шереметьевых харчах. Меньшиков щепотно-неохотно брал с блюд и больше пил, прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, — любезный, румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах. Осторожно, чтобы не увидеть ни малейшего неудовольствия на похудевшем и спокойном лице Петра Алексеевича, он рассказывал про нового фельдмаршала Огильви.
— Муж ученый, слов нет. Книги в телячьих корешках привез из Вены, целую телегу, свалены у него в шатре. Первым делом он нам отрезал, так-то гордо, что нашего ничего есть не станет… Нужно ему, как проснется, — вместо чарки с закуской, шеколад и кофей, и пшеничный хлеб белый, и в обед свежая рыба — и не всякая — именно налим ему нужен, и дичь, и телятина. Мы закручинились, — фельдмаршал приказал — надо доставать… Послал я в Ревель одного чухонца — лазутчика — за кофеем и шеколадом, своих дал пять червонцев… Корову привязали на прикол — только для него, девку нашли чистую, — доить, пахтать… Сколотили ему нужный чуланчик позади шатра и навесили замок… И ключа он от нужного чулана никому не дает…
Петр Алексеевич торопливо проглотил кусок, засмеялся:
— А за что же я ему плачу три тысячи ефимков, вот он вас, азиятов, и учит…
— Да, учит… На другой день вызвал полковников всех полков, не спросил имя, отчество, за руки ни с кем не поздоровался и давай важно рассказывать, как его любит император, да какие он водил войска, осаждал города, как ему маршал Вобан сказал: «Ты мой лучший ученик» — и подарил табакерку… Показал нам все ордена и эту табакерку, — на крышке — девка обнимает пушку, и нас отпустил… Шеколаду бы для приличия поднес, — нет… «Я, говорит, скоро напишу диспозицию, и вы тогда все поймете, как нужно брать Нарву…» По сей день пишет…
— Ну, ну… — Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы, — темные глаза его редко когда смеялись: — Как на Кукуе в мимопрошедшее время, восхвалим, сердешный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу неугомонную Венус… Давай-ка письмецо-то…
Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василефской (хотя и написанное рукой Анисьи Толстой, потому что Катерина писать не умела).
«Государю, свету, радости… Посылаю вам, государь, свет, радость, гостинец — дыни, что за стеклами в Измайловском созрели, так-то сладки… Кушайте, государь, свет, радость, во здравие… И еще, свет мой, видеть вас желаю…»
— Немного написала… А долго, чай, думала, брови морщила, передник перебирала, — насмешливо, тихо проговорил Петр Алексеевич. Выпил кубок. Ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра. — Данилыч, крикни Макарова, разбери с ним московскую почту, а я — разомнусь.
Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоуздками кони конвоя, прибывшего с Меньшиковым. До колен омочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился, — оттуда беспокойно тянуло прелью и медом, смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц, и явственно доносился голос, должно быть, солдата-коновода, из тех балагуров, кто не даст людям спать — только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось:
— …Чепуха это все, — ведьма, ведьма! Была она пошлая дворовая девка, чумазая, в затертой рубашонке… Такой ее и взяли. Не всякий бы мужик с ней и спать-то лег. Мишка, верно я говорю? А уж я увидел ее, когда она жила у фельдмаршала… Выскочит из шатра, помои выплеснет, вытрется передником и — в шатер, ножами — тяп, тяп… Гладкая, проворная… Тогда еще подумал: эта кукла не пропадет… Ох, проворна!
Придурковатый голос спросил:
— Дядя, так как же дальше-то с ней?
— А ты не знал? Истинно говорится — за дураками за море не ездят… Теперь она живет с нашим царем, ест пироги, пряниками заедает, полдня спит, полдня потягивается…
Придурковатый голос удивленно:
— Дядя, какая-нибудь, значит, у нее устройства особенная?
— А ты у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство.
Густой сонный голос ответил:
— А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем…
Петр Алексеевич дышал с трудом… Стыд жег лицо… Гнев приливал черной кровью… За такие речи о государевой чести князь-кесарь ковал в железо… Схватить их! Срам, срам! Смеху-то! Сам виноват, что уже все войско смеется… «Девку взял из-под Мишки…» И он — головой вниз — шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость… Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переводя дух — положил руку на опущенный мокрый лоб… «Кукла распутная, Катерина…» И она ощутимо возникла перед ним… Смуглая, сладкая, жаркая, добрая, не виноватая ни в чем… «Черт, черт — ведь знал же все про нее, когда брал… И про солдата знал…»
Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое… «Кто идет?» — крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал: «Я иду…» Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, — не успеть моргнуть, — подхватили ружья и стали без шевеления: фузея перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя — наготове в огонь и на смерть.
Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер:
— Уголька!
Средний солдат — рассказчик, балагур — кинулся на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич исподлобья покосился на крайнего солдата… «Этот…» Верзила, здоров, ладен… Лица его не мог разглядеть…
— Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?
Солдат ответил точно по уставу, но с московским развальцем, — от этого наглого развальца у Петра Алексеевича ощетинились усы…
— Блудов Мишка, драгунского Невского полка, шестой роты коновод, поверстан в шестьсот девяносто девятом, роста без трех вершков три аршина, господин бомбардир…
— Воюешь с девяносто девятого, — чина не выслужил! Ленив? Глуп?
Солдат ответил неживым голосом:
— Так точно, господин бомбардир, — ленив, глуп…
— Дурак!
Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что, не успеет он скрыться за туманом, — солдаты понимающе переглянутся, засмеяться не посмеют, но уж переглянутся… Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подалее свечу, — в горле было сухо, — жадно выпил вина. Заслоняясь трубочным дымом, сказал:
— Данилыч… В Невском полку, в шестой роте — солдат гвардейских статей… Не порядок…
У Меньшикова в синих глазах — ни удивления, ни лукавства, одно сердечное понимание…
— Мишка Блудов… А как же… Он мне давно известен… Награжден одним рублем за взятие Мариенбурга… Командир эскадрона не хочет его отпускать — коней он любит, и кони его любят, таких веселых коней, как в шестом эскадроне, у нас во всей армии нет.
— Переведешь его в Преображенский в первую роту правофланговым.
Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь — длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но увы — все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кошку вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт, чего напрасно людей моришь…» Но возмутить генерала было невозможно.
Когда на городских часах пробило девять — он подошел к своему чистенькому домику и стал вытирать подошвы о половичок, лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и, низко присев, взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна — во всю стену — слабо пропускали зеленый и желтый свет.
У стола в ожидании генерала стояла его жена, урожденная графиня Шперлинг — особа с тяжелым нравом, три сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик — любимец матери.
Генерал сел, и все сели, сложив руки, молча прочли молитву. Когда с оловянной миски сняли крышку, повалил пар, но соблазнительного в ней, кроме пара, ничего не было, — та же овсяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали, надутый мальчик, отталкивая тарелку, шептал матери: «Не буду и не буду…» На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал, не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами.
Графиня Шперлинг заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой корочку хлеба:
— Сколько я ни пыталась за четырнадцать лет моего замужества, я никогда не могла вас понять, Карл… Есть ли в вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и отца? Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печениями… На вашем месте как должен поступить отец четырех детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город… Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину… А мои дети принуждены давиться овсянкой… Я не устану повторять: у вас камень вместо сердца! Вы — изверг! А злосчастный случай с фальшивой баталией!.. Теперь мне нельзя показаться в Европе… «Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нос, как дурачка на ярмарке?» — «Увы, увы», — отвечу я. Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне… Наконец, наша единственная надежда — генерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом, — а вы, как ни в чем не бывало, сидите и невозмутимо жуете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни… Нет — довольно! Вы должны отпустить меня с детьми в Стокгольм к королевскому двору…
— Поздно, сударыня, слишком поздно, — сказал Горн, и его белесые глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла. — Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке.
Графиня Шперлинг обеими руками схватилась за кружевной чепец и низко надвинула его.
— Теперь я понимаю — чего вы добиваетесь: чтобы я с моими несчастными детьми ела траву и крыс!
Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать; девочки слезливо опустили носы в тарелки. Генерал Горн несколько удивился: это несправедливо — он не добивается, чтобы его дети ели траву и крыс! Но он столь же невозмутимо окончил завтрак…
За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрема. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек огонь, от фитиля зажег бумажку, закурил и только тогда покинул столовую.
Бистрем держал в руках его шпагу и шлем и несколько задыхался:
— Ваше превосходительство, в русском лагере внезапно началось движение, смысл которого мы не можем понять…
Генерал Горн опять пошел через площадь, полную встревоженного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно — в русском лагере происходило необыкновенное: по всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вначале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меньшиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскадрона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился… За царем и Меньшиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках восемнадцать желтых атласных знамен. На их складках извивались, в негодовании простирая лапы, восемнадцать королевских львов…
Эскадроны, царь, Меньшиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего: «Уррра! Виктория!» — во все варварские глотки…
В русском лагере веселились. С бастиона Глориа было хорошо видно, как вкруг царского шатра стреляли пушки, по их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с заносчивыми словами. Так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек сорок, размахивающих кубками и кружками, один из них вскочил на коня и поскакал в сторону бастиона Глориа и за ним, догоняя, трубач. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни; трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.
— Пароль, пароль! — закричал посланник. — Говорит Преображенского полка подполковник Карпов! — Был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил:
— Говори, я слушаю. Убить тебя успеем.
— Извещаю! — задрав веселую голову, кричал подполковник. — В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу. Снисходя на слезное прошение коменданта, ради мужественного сопротивления, офицерам оставлены шпаги, а трети солдат — ружья без зарядов… Знамен же и музыки лишены…
Громким голосом Бистрем переводил, офицеры, стоявшие позади Горна, негодующе переглядывались, один — вне себя — крикнул: «Врет, русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками:
— Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншанца и Юрьева конфузные баталии?.. В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огильви предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд… Послам для переговоров немедля прибыть в шатер. Чаши налиты, и пушки для виватов заряжены…
Генерал Горн ответил глухим голосом:
— Нет! Я буду воевать! — Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки, жиловатые руки трепетали. — Ступай! Через три минуты велю стрелять…
Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубачу: «Отъезжай!» — и сам, вместо того чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им:
— Это кто из вас, вор, невежа, облаял меня, русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи живее… А ну, выезжай-ка, если ты смел, сойдемся на поле один на один…
Офицеры закричали. Один, толстый, побагровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей… Защелкали курки ружей. Карпов, лежа на шее коня, помчался прочь от башни, — вдогонку выстрелы, посвист пуль. Шагах в двухстах он остановился и, горяча и сдерживая коня, стал ждать противника… Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост, и толстый офицер поскакал по полю к Карпову. Был он выше ростом, и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу, у Карпова из-под расстегнутого кафтана ветром раздувало кружева.
По обычаю, противники, прежде чем съехаться, начали браниться, один свирепо вылаивал угрюмые слова, другой застрочил московской матерной скороговоркой… Оба выхватили из чересседельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. Враз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу, Карпов по-татарски перед носом его коня увернулся, обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнул зубами и заворчал и опять кинулся с такой злобой, — Карпов тем только и спасся, что загородился лошадью, шпага противника глубоко вонзилась ей в шею… «Эх, погубил коня, — подумал он, — пеший не выстою…» Но швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в кобуре. Соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как швед стал все сильнее раскачиваться в седле… «Черт, здоров, умирать не хочет!» — и, прихрамывая, побежал к своим…
…Ночная тень покрыла поле, упала роса, давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов: «Уууууух-нем…» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы под самый Иван-город, и скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе.
На рассвете с башен Нарвы увидели, как по ямгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скопления войск.
Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на бастион Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он взошел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места — считавшийся неприступным Гонор, который новыми стенобитными пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки, — также кирпичный, ветхий, времен Ивана Грозного. Два месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Иван-города, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам…
«Очень хорошо, все ясно, глупые шутки кончены, будем драться, — ворчал Горн, шагая по равелину помолодевшей походкой. — С нашей стороны выставим шведское мужество… Этого не мало». Он обернулся к кучке офицеров:
— Ад будет здесь! — и топнул ботфортом. — Здесь мы подставим грудь русским ядрам! Русские спешат, нам нужно спешить. Приказываю собрать в городе всех, кто способен ворочать лопатой. Падут стены, будем драться на контр-апрошах, будем драться на улицах… Нарву русским я не отдам…
Поздно вечером генерал Горн приехал домой и, сидя за столом, жевал большими зубами жиловатое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки:
— Мальчишки говорят — русские всех нас перебьют…
Генерал Горн выпил глоток воды, о свечу закурил трубку, положил ногу на ногу и ответил сыну:
— Ну что ж, сынок, человеку важно выполнить свой долг, а в остальном положись на милосердие божие.