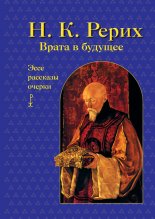Достоевский Шкловский Виктор

Наконец он все-таки занимает нужную сумму, получает от начальства разрешение на вступление в брак и 27 января 1857 года отъезжает в Кузнецк. 6 февраля оформляется «Обыск брачный Одигитриевской церкви о вступлении в брак... Возраст к супружеству имеют совершенный — и именно: жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет и оба находятся в здравом уме...»
15 февраля здесь же совершилось и венчание. Свадьба была непышная, людей собралось немного, но не это угнетало Достоевского: одним из четырех поручителей невесты стал, по ее желанию, Николай Вергунов. Что творилось с женихом — «что в эту минуту с душой человеческой делается?» — кто скажет. Возражать он не стал — не хотел огорчать невесту, но он знал, что и собравшиеся знают об отношениях Марии Дмитриевны и ее поручителя и, более того, знают, что и он знает об этих отношениях... Достоевский переживал не за себя даже — за Марию Дмитриевну: его беспокоил малодушный, но не в меру бойкий Вергунов: не сотворит ли беды, не выкинет ли с отчаяния что-нибудь эффектное, драматическое — «не позовет ли он ее к смерти?» — как определил суть своих мучений сам Достоевский в письме к Врангелю.
Ему все представлялось, что вот сейчас, через минуту, мгновение Вергунов схватит ее вдруг за руку и потащит от венца или она сама крикнет ему — «увези меня!» — и увезет, из одной только мести ему увезет, а он как идиот останется один на один с ухмыляющимися лицами: увезет и зарежет, пожалуй, чтоб не вернулась вдруг снова сюда, по малодушному себялюбию зарежет... Но все обошлось без эффектов, и ему стало стыдно за примерещившийся вдруг и пережитый в несколько мгновений мрачный роман. Но — кто знает? — может, только какой-нибудь невольный жест или взгляд один мог бы обратить пережитое воображением в переживаемое наяву...
Состояние Марии Дмитриевны и во время венчания, и по возвращении домой, на свадьбе и после, в первые «медовые дни», еще более обострило в нем сомнение: вышла ли она замуж за него или все-таки за «офицера Достоевского», поверив теперь в его будущее? Любит же она Вергунова...
Когда впервые при ней с ним случился припадок — слишком велико было нервное перевозбуждение, — ему показалось: испугалась она не за него, за себя. По дороге в Семипалатинск заехали на несколько дней в Барнаул к Петру Петровичу Семенову, ученому, путешественнику (в августе прошлого года он заезжал к Достоевскому в Семипалатинск по дороге из Барнаула в киргизские степи), теперь он собирался в экспедицию на Тянь-Шань.
В Барнауле случился и новый, второй за несколько последних дней, сильнейший припадок, напугавший Марию Дмитриевну чуть не до смерти. Врач определил неизлечимую падучую — эпилепсию, предсказал, что умрет Достоевский во время одного из таких припадков, задохнувшись от горловой спазмы. Федор Михайлович приуныл. Приуныла и его супруга. Невесело доехали до Семипалатинска.
И началась новая, семейная жизнь. Служба была много легче — теперь сам он командует взводом, да и времени свободного поболее, можно работать над давно уже начатыми повестями «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково», не только по ночам. Начинает переписку с журналами. В августе 57-го в «Отечественных записках» вышла повесть его «Маленький герой» (так Краевский переименовал его «Детскую сказку», написанную еще в 49-м, в Алексеевском равелине). Но появление наконец в печати его произведения не обрадовало Достоевского: во-первых, повесть вышла под псевдонимом «М-ий», и никто не поймет, кто ее подлинный автор, ему же нужно было, чтобы в печати появилось его имя; во-вторых, не так ему мечталось вернуться в литературу; нужно нечто большое, могучее, что сразу же вернуло бы ему имя и уверенность в себе...
Работал много; много и хворал. Хворала и Мария Дмитриевна. Счастья семейная жизнь явно не сулила. Впрочем, «На свете счастья нет, а есть покой и воля...». Воля дразнила и теперь своей возможностью. Покоя же не предвиделось. Мария Дмитриевна хандрила, капризничала, нередко поминала Николая Борисовича, прекрасного молодого человека, которого оставила ради неблагодарного, вечно хмурого и более занятого своими бумажками, нежели ею, мужа. А вместе с тем бешено ревновала его, хотя ревновать было и не к кому, разве что только к разбитной красивой Марине — дочери ссыльного поляка...
Достоевский по просьбе самой Марии Дмитриевны два года назад начал заниматься с семнадцатилетней девушкой, которая и стала приходить в «Казаков сад» учиться грамоте. Прехорошенькая, она «усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем», — вспоминал Врангель. И вдруг ее словно подменили: «мрачная, похудевшая, какая-то опустившаяся... Принялись мы допрашивать ее оба, и вот что поведала она нам.
Сын городского головы, носивший в городе кличку «Ваньки Саврасого», 18-летний юноша, давно заглядывался на красивую Марину; при помощи ключницы, прельщавшей ее богатством, Марина сдалась; негодяй, позабавившись, скоро ее бросил. Свидетелем этих похождений был кучер юного савраса, старый и грязный старик киргиз. И вот этот гнусный человек пригрозил ей, что он об ее похождениях донесет отцу и мачехе. Запуганная и бесхарактерная Марина поддалась. Этот негодяй всячески эксплуатировал ее. Она ненавидела его, боялась...
Дело было вопиющее. Пришлось мне воспользоваться моею властью — я выселил киргиза из города. Через год отец Марины выдал ее насильно замуж за старого, необразованного хорунжего. Марина его ненавидела и кокетничала со всеми по-прежнему...
Впоследствии, когда Достоевский был женат, Марина не раз служила причиной ревности и раздора между Марией Дмитриевной и Федором Михайловичем, преследуя его своим кокетством, что страшно волновало уже больную тогда его жену».
Достоевскому была неприятна эта ревность, он по-прежнему любил одну только жену свою, хотя пыл его она сразу же сумела поубавить постоянными упреками, мелким придирками, а главное — почти полным равнодушием к его литературным трудам и надеждам — вот это-то и есть истинная причина ее ревности, — все более убеждался он. Когда же однажды во время очередной перепалки она хлестнула его словно плетью: «каторжник!» — губы у него задрожали, руки опустились, и он почувствовал вдруг внутри себя страшную пустоту, которую теперь ничем уже нельзя было заполнить.
Если бы он знал тогда, что перед ним психически больной человек, что болезнь эта все прогрессирует, он не отчаялся бы, не охладел к ней, напротив, стерпел бы любые обиды, оскорбления, полюбил бы несчастную еще и жалостью сострадания; но он не знал об этом и сам ужасался, чувствуя, как с каждым ее новым мучительством, с очередным припадком язвительности, могучее, казалось ему, всепобеждающее чувство уходит, истачивается сквозь невидимые миру, но вполне осязаемые им щели и трещины словно прохудившейся от бесхозяйственного отношения к ней души.
«Мы были с ней положительно несчастны вместе», — напишет он об этом времени Врангелю через восемь лет. К сожалению, он и сам был слишком раним, слишком мнителен, склонен к преувеличениям. Каждый задевающий сердце жест, каждое ранящее слово воспринимались не просто человеком Достоевским, но и Достоевским-писателем, разделить которых было невозможно. Слова и жесты переходили из сферы человеческих отношений в область творческого воображения, не всегда подвластную воле и тем более рассудку человека, наполнялись иным, порою трагическим смыслом и не сразу и не все откладывались в тайники дожидаться своего часа, когда призовут их воплотиться на бумаге в слова, в предложения, главы, романы, чтобы зажить уже новой духовной жизнью. Достоевский порою и сам уже, возможно, не знал до конца, что принадлежит голой реальности, а что его собственному творческому воображению.
Во всяком случае, сама Мария Дмитриевна не воспринимала бывшее и происходящее столь трагически, как ее нервный супруг. «...Муж мой посылает Вам всем поклон и просит полюбить его так же братски, как когда-то любила ты искренне доброго Александра Ивановича, — пишет она своей сестре Варе. — Скажу тебе, Варя, откровенно — если б я не была так счастлива и за себя и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, но в счастье мы все прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, — даже и уважаема и его родными. Паша кланяется тебе, он очень любим и балуем Федором Михайловичем». Вряд ли можно усомниться в искренности признаний Марии Дмитриевны, но... Но в письмах ее нет и ни слова о том, что она влюблена в мужа, что он любим и балуем ею. Думается, и это умолчание столь же искренно, потому хотя бы, что, судя по всему, непредумышленно.
Федор Михайлович тоже писал Варваре Дмитриевне: «В Москву я крепко надеюсь воротиться в наступающем году... Но в Астрахань уже, конечно, я поеду вместе с женой. Но Бог располагает, и только он один. Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть... и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего и не будет, к чему можно стремиться...»
И Михаилу: «Жизнь моя тяжела и горька. Не пишу тебе о ней ни слова...»
Может быть, они слишком разное вкладывали в понятия «любовь», «счастье», «жизнь»?
В январе 58-го Достоевский подал в отставку с просьбой о дозволении ему жить в Петербурге или, в случае невозможности такого дозволения, в Москве.
В служебных занятиях, редких встречах с семипалатинскими знакомыми, семейных заботах, в литературных трудах, переписке с редакциями, друзьями, знакомыми, родственниками, в перебранках и примирениях с женой, в хлопотах об устройстве пасынка — удалось наконец определить его в Сибирскую кадетскую школу — тягуче и как-то неприметно минул 58-й.
В марте 59-го года пришел наконец высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни Сибирского линейного батальона № 7 прапорщика Достоевского, с награждением следующим чином, с разрешением ему жить в Твери и воспрещением выезда в Петербургскую и Московскую губернии...
3. Возвращение
Ну, трогай! С богом... в Россию...
И пошли копыта кромсать дорогу, полетели версты под колеса, заслоняя пылью солнце, будто пустившееся вдогонку за беглецами из Сибири в далекую, неизбывную, ничем не заменимую Россию. Как-то еще встретит она своего сына, отправленного на четверть прожитой жизни в пустыню омских снегов, семипалатинского зноя — испытать свою любовь к ней и веру?
Удивительно устроено русское сердце; столь велика в нем жажда встречи с родной душой, столь неистребима вера в возможность такой встречи, что готова она распахнуться бескорыстно перед каждым, довериться любому, веруя свято, что каждый и всякий сам способен на столь же беззаветную открытость. Готовое вместить в себя все души мира как родные, понять их, братски сострадать ближнему и дальнему — до всего-то есть ему дело, всему-то и каждому найдется в нем место. И как бы ни велики или безбрежны казались обида его или оскорбление, всегда останется в нем место и для прощения, словно есть в нем такой тайный, не доступный никакому оскорблению уголок и теплится в нем свет неугасимый.
Родина свята для русского сердца, потому что родина для него — высшая и последняя правда. И потому все можно отнять у него, все осмеять — стерпит. Но родину отнять у русского сердца, унизить, оскорбить ее так, чтобы оно застыдилось, отреклось от нее, — невозможно: нет такой силы ни на земле, ни под землей, нигде во всем белом свете. И пытаться не стоит — взбунтуется, и в этом, может быть, единственном потрясении своем не простит. Долго не простит.
И нередко не хочет даже понять оно, как же это можно еще что любить, кроме России, тосковать по чему-нибудь такой смертельной неизбывной тоской, как по родной земле. И если немец, швейцарец или тот же француз, то ли англичанин будет уверять, что он так же любит свою страну и она дорога ему, как и русскому его Россия, что по его земле можно так же страстно тосковать, как по русской, — обидится даже трогательно-простодушной обидой: нельзя-де любить родину больше, чем любит ее русское сердце. Но если тот же англичанин или швейцарец скажет, что можно жить, вовсе не любя родину, — тут же заслужит навечное презрение к себе от русского человека. Но ежели русский скажет вам, что он не любит свою Родину, — не верьте ему: он не русский.
Удивительная страна — немец или датчанин, прожив в ней лет десять-двадцатъ, становится нередко таким русским, что, уехав, случись, в свою Германию или Данию, всю жизнь будет тосковать по оставленной стране. Необъяснимая страна: в России не затоскуешь по Англии — разве что англоман какой, да и то пока в Лондоне не бывал, — а вот по России можно затосковать, затомиться даже и в самой России... Словно вдруг почудится сердцу, что та Россия, которая есть вокруг него, — еще не вся здесь, и не во всем, и не в лучшем, а та, настоящая, во всей правде, еще впереди и всегда впереди... Ибо и тот не русский, кто не желает родимой лучшей доли. Потому-то и нет того предела, где успокоилось, остановилось бы русское сердце; потому-то и всегда оно в пути, на большой дороге к правде...
И повеяло вдруг вновь старым, полузабытым, воскресавшим вновь в душе, как тогда, три года назад, от письма Аполлона Майкова... Письмо долго не шло из головы. Майков писал, что многое изменилось, пережилось сердцем, что он уже не тот, что прежде, и Россия не та, что общество как бы проснулось от спячки, что теперь растет энтузиазм, развивается общественное патриотическое сознание... Все это прекрасно, но что же в этом нового и небывалого? Разве же и прежде не было в обществе энергии, пусть скрытой, не всегда проявляемой, но разве и тогда спало оно только? Или Аполлон Николаевич недоговорил чего-то, или сам только открыл для себя то, что всегда, давно было убеждением и верой Достоевского. Нет, письма ненадежный посредник. Тут нужен сам человек, нужно говорить, чтоб душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках речи. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью, без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки писем...
Многое изменилось... И в нем самом многое изменилось, да и как не измениться в десять-то каторжных лет: не измениться — значит и вовсе умереть, но ведь как люди-то сердцем, душой не изменились мы. «Я за себя отвечаю, — писал он Майкову. — Вы говорите, что много пережили, много передумали и много выжили нового. Это и не могло быть иначе... Я тоже думал и переживал, и были такие обстоятельства, такие влияния, что приходилось переживать, передумывать и пережевывать слишком много, даже не под силу. Зная меня очень хорошо, вы, верно, отдадите мне справедливость, что я всегда следовал тому, что мне казалось лучше и прямее, и не кривил сердцем и то, чему я предавался, предавался горячо. Не думайте, что я этими словами делаю какие-нибудь намеки на то, что я попал сюда. Я говорю теперь о последовавшем за тем, о прежнем же говорить не у места, да и было-то оно не более, как случай. Идеи меняются, сердце остается одно. Читал письмо Ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? — да! Я всегда был истинно русский — говорю Вам откровенно. Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг Вас, о котором Вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь Вам, я Вас не понял...
Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это давно было ясно.
...В чем же Вы видите новость? Уверяю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, — это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его...
Несчастие мое мне дало многое узнать практически, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть против своего убеждения...»
Да, ему многое было непонятно в восторгах Майкова. Десять лет вне жизни русского общества все-таки давали о себе знать. Крымская война, жажда общественного обновления воспринимались пока еще Достоевским не как нечто новое, но как выражение его прежних убеждений, правота которых подтверждалась теперь общественным сознанием. Да, он всегда был патриотом России и потому всегда желал ей лучшего. Он всегда действовал по убеждению сердца и тогда, когда верил, что спасение России в идее фаланстера Фурье, и когда, во многом благодаря Белинскому, отказался от таких утопических иллюзий, но готов был пойти на площадь с революционным знаменем в руках, если нет другой возможности освободить народ из-под крепостного ярма.
Да, теперь бы он не пошел на площадь, и не потому, что струсил бы еще раз отправиться в Сибирь или даже на плаху, не оттого, что сломился его дух или переродился он в обывателя. Нет. Но десятилетний опыт показал ему — одним махом людей и мир не переделать. Россия ждет от лучших сынов своих не спешного подвига самопожертвования, но более трудного — терпеливой работы духа и мысли. Подвижничества — от каждого патриота на том поприще, которое он избрал себе. Бог дал ему — он свято поверил в это — дар писателя, дар слова: вот его поприще, вот его дело, вот его истинный путь подвижничества. И если это так, если и это не утопия, если сердце его не ошиблось в выборе пути — он найдет это слово, и это будет уже не только его, но слово народа, слово всей России...
Солнце давно нагнало путников и повисло неподвижно над мчащимся уже по Омскому тракту тарантасом, будто пословица, воочию явившаяся в дороге: велика земля русская, а везде солнышко...
В Омске пробыли трое суток. Повидались с Ивановыми, Валихановым. Навестили де Граве — бывшего острожного начальника Достоевского — благородного и в неблагородной службе своей человека. Бывший узник был благодарен ему во всю жизнь уже и за то одно, что только заступничество коменданта спасло однажды Достоевского от приказания «фатального существа» — как ввел его сам Федор Михайлович, — майора Кривцова — выпороть его розгами, теперь уж и не припомнить за что
Забрали Пашу из кадетского корпуса, в который недавно определили, не оставлять же его в Сибири. И снова в путь. Омск навеял тяжкие воспоминания о пережитом, а тут еще и дорога пошла прескверная, и погода испортилась, и он чуть не до Тюмени молчал, хмурился, так что Мария Дмитриевна решила даже, будто муж ее недоволен тем, что взяли с собой Пашу, хотя именно он-то и настоял на этом. А Федор Михайлович думал о будущем. Большинство товарищей по несчастью уже вернулись в Россию: Дуров и Ястржембский — в прошлом году. Первый уехал в Одессу к Пальму, второй — к родным в Минскую губернию; Момбелли еще в 56-м перевели на Кавказ прапорщиком, а вот другой бывший офицер, Львов, — в Иркутске, сотрудничает в «Иркутских губернских ведомостях», которые с 56-го года редактирует Спешнев. В Иркутске и Петрашевский — служит адвокатом. Бедняга Григорьев так и не оправился от потрясения на Семеновском плацу, его, как психически нездорового, отправили на попечение родных в Нижний Новгород. Плещеев уже в России; с ним, как только Достоевский вышел из острога, возобновилась переписка. Женился на шестнадцатилетней девушке: поэт!..
Так что не один только Достоевский обязан новому государю освобождением от бессрочной солдатчины — все политические освобождены манифестом от 6 августа 56-го года в честь вступления его на престол; иные и от пожизненной каторги, как Петрашевский. И дворянство всем вернул. Государь, говорят, — добрая душа. Может, и недаром был при нем воспитателем с детских его лет Василий Андреевич Жуковский? Глядишь, и крепостное право отменит, — размечтался дорогой Достоевский, то ли настраивая себя на обожание своего «освободителя», как он называл Александра II в письмах, то ли действительно томила его жажда веры в возможность доброй, человечной власти в России.
Теперь все надежды его — на литературу. Трудно начинать новую жизнь и писателю и семьянину почти в сорок-то лет. Платят теперь за литературный труд неплохо: Писемский, например, писал Михаил, за свои «Тысячу душ» получил по 200 или 250 рублей с листа. Гончаров за «Обломова» взял будто бы семь тысяч, а Тургенев — четыре тысячи за «Дворянское гнездо», значит, по 400 рублей за лист! Правда, роман чрезвычайно хорош, но разве же сам он пишет хуже Тургенева? Но ведь не слишком уж хуже, да и надеется еще написать совсем не хуже... Отчего же Катков платит Тургеневу, которому и без того две тысячи крепостных приносят немалые доходы, по 400 с листа, а ему, нищему пролетарию Достоевскому, предложил только 100 рублей за «Село Степанчиково»? Плещеев писал, будто Некрасов одобрительно отозвался об этом романе. Но все-таки другое его семипалатинское создание — «Дядюшкин сон» — уже появился у Кушелева в третьей книжке «Русского слова» за нынешний год. Достоевский еще не успел увидеть свое детище напечатанным. Тургенев, слышно, просил прочитать «Село Степанчиково», но Плещеев пишет, что не решился без дозволения Достоевского отдать.
Что, интересно, говорят о «Дядюшке»? Но, главное, как-то встретят Фому Фомича? «Село Степанчиково» лучшее — он был убежден в этом, — что он написал до сих пор и на что всерьез рассчитывал как на входной билет в первые ряды писателей. Если уж и «Степанчиково» не примет публика, то в пору прийти в отчаяние: на него все лучшие надежды. Но что-то неведомый ему Катков, которому передали повесть, пока не отвечает — будет ли печатать?
За раздумьями не заметил, как добрались до Тюмени, Город понравился — многолюдный, удобный; передохнули в нем от дороги два дня и — ну, пошел! — от станции к станции, хорошо еще, лошадей меняют без задержки, тарантас не разваливается, погода всюду благоприятная, но цены! Услышишь и глядишь потом на торговца даже со страхом — дерет сколько душа пожелает: не хочешь — не бери, просить не будет. Зато природа восторгала и успокаивала душу.
Сутки простояли в Екатеринбурге, накупили мелочи, разной всячины и — дальше. И вот однажды, к вечеру, набрели на столб — на тот самый, границу Европы и Азии, а при нем инвалид в избе. И не в снежном саване, не в мятущейся, кружащей по сторонам («хоть убей, следа не видно») замети — в благодати лета, цветении, жужжании, запахах, пьянящих сильнее, чем горькая померанцевая из плетеной фляжки — подарок в дорогу семипалатинских знакомых, будто не знали, что не пьет он, совсем не пьет, при его-то нервах, при его-то падучей. Но не вытерпела душа, вытащил, выпили с инвалидом — я ничего, даже в лес пошли, побрали земляники довольно. А ведь казалось тогда — нет им дороги назад: такая вот штука жизнь-то... Ямщик тоже выпил немало иуж как же вез потом! Эй, залетные! Тело довезу, за душу не ручаюсь...
Исподволь свыкался с мыслью: Россия явно обновилась, а он, чувствуя многое, все-таки слишком мало знает о ней, нынешней. Читал и в дороге журналы запоем — хотелось понять новую, родившуюся без него действительность хотя бы через литературные проблемы. И ужасался порою: «Сколько еще нужно прочесть, и как я отстал...» То, что появилось, восхищает его: действительно немало первоклассных произведений, но не подавляет. «Все это уже было и явилось у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Это все старые темы на новый лад». Вопросы, вопросы, вопросы: «Есть ли хоть один новый характер, созданный, никогда не являвшийся?» А у него самого? Главная надежда — на «Мертвый дом», но с ним он торопиться не будет, нужно еще пожить в России, подышать ее воздухом, тогда уж можно и закончить. Но и в «Селе Степанчикове» по меньшей мере два совершенно новых типа, они должны всерьез напомнить общественности о его имени. На «Дядюшкин сон» надежд, конечно, меньше — начинал писать эту комическую повесть весело, но потом не заладилось, измучился до отвращения к ней. Писалось урывками, разве же эдак напишешь что порядочное? Осмеют, поди, поспешат похоронить его. Да, есть о чем подумать — не начинать же все заново, когда тебе уже под сорок и о тебе давно забыли, а если и вспомнит кто, еще и удивится, пожалуй, — эк его! — жив, оказывается, и поглядит с любопытством как на антикварную редкость, случайно сохранившуюся из бабушкиных времен. Не поставит ли себя в комическое положение, не напомнит ли собой своего же героя — молодящегося старичка, князя К. из «Дядюшкина сна», сватающегося к «молодой девице» — новой литературной поросли?
Да и что такое эта повесть — старые петербургские воспоминания вперемежку со свежими впечатлениями от провинциального быта, семипалатинских и кузнецких интересов, вращающихся при помощи интриг и сплетен; политики и стратеги обывательского масштаба... Он навидался кой-чего еще и в Петербурге; взять хотя бы того же графа Чернышова, военного министра, дошедшего чуть не до полного маразма в своей страсти к постоянному «омоложению»? Часов по восемь ежедневно тратил граф на реставрацию своего лица, которое от обильных мазей, пудр, красок давно уже превратилось в мертвую маску. И еще верит, что никто вокруг не замечает его ухищрений, благо кто же посмеет смеяться над ним в глаза? В глаза позволительно только петь хвалы его неувядающей молодости. А ведь давно пора было гнать в шею, коли сам не в состоянии уйти. Куда там — все незаменимые, такие значительные, что где уж признаться самому себе. Хотя бы на ушко кто шепнул: брось, мол, дружище, просто со сцены уходить не хочется, да привык балаганный герой к овациям, да и страшновато — чего доброго, при жизни еще «подлеца» или «шута» дождешься, потому как заслужил все-таки...
Нет, дядюшка — князь К., конечно, не граф Чернышев, помельче, но разве важно его место? Важен тип человеческий и общественный, важно, что вокруг таких дядюшек вертятся людишки, расточающие им фимиамы, убеждающие их в том, что они действительно еще могут... жениться на молоденьких девушках... Вот и его герой в значительности своего маразма не способен даже понять, насколько жалок, насколько вся его значимость зависит от далеко не бескорыстных интересов «политиков». Взять хотя бы Марью Александровну Москалеву, первую даму Мордасова — так он назвал городишко, в котором развернулась балаганная история повести. Марья Александровна — первый мордасовский политик, и незаурядный: «Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики...» Эта мадам только пугнет, только намекнет — что знает... и не говорит что, но держит всех в беспрерывном страхе, а это ум, это тактика!.. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи... Марью Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном.
Пытались как-то ограничить влияние этой мадам на обывательский свет мордасовского общества, но «когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде». «Похоронив» заживо в глухой деревне своего мужа, чтоб не мешал делать политику, и тут же сделавшись «первой дамой Мордасова», Марья Александр ровна и решила заполучить князя, при взгляде на которого возникала мысль, что он сию минуту развалится, «до того он обветшал, или, лучше сказать, износился». Зато князь любил каламбурить и «никогда не отличался блестящими умственными способностями... проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков... ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах... зубы тоже были из композиции... Казалось, что карьера его оканчивалась!» Но на то Марья Александровна и политик, на то и наполеон, чтобы сообразить: «Князь вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет», — а имение его кому достанется? А? То-то, имение должно достаться Марье Александровне. То есть, конечно, не она сама замуж за него собралась, но у нее дочь Зиночка. Вот тут-то и развернулась история. Сначала Марье Александровне удалось уговорить князя сделать Зиночке предложение, но потом господину Мозглякову, племяннику его и бывшему Зиночкиному жениху, посчастливилось перенаполеонить первую даму и убедить полукомпозицию-получеловека — князя-жениха в том, что никакого сватовства не было, а был один только сон... Скандал получился на весь мир, мордасовский, конечно. И что ж бы вы думали — Марья Александровна померла от позора? Не тут-то было: помер князь. Не от позора — это ему по причине умственных способностей не грозило, просто, видимо, винтик какой-нибудь случайно отскочил, он и рассыпался. Марья же Александровна с дочкой гордо покинули Мордасов и скрылись в неизвестном направлении. Занавес падает, балаганчик закрывается, публика уходит довольная? Нет уж, дудки-с... Бывшему жениху по каким-то причинам случилось побывать в Москве и даже удостоиться быть приглашенным на бал в приличное общество. И вдруг — вот это пассаж! — Зиночка уже тут и на него никакого внимания: она теперь жена генерала. Единственно, что удалось ему разузнать — «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею и... приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с...».
Ну не стратег ли, не наполеон ли после этого наша «первая дама Мордасова»? А впрочем, может и впрямь вещица безвинная? — мучился сомнениями Достоевский. Как-то примут ее, что скажут критики на этот раз.
Никак Казань уже?..
Остановились в приличном номере. Здесь придется пообождать: сюда — сговорились еще в письмах — Михаил должен прислать до востребования рублей двести. Пока не дошли еще. Достоевский успел даже в библиотеку записаться — истосковался по новинкам за дорогу. Ждать пришлось дней десять. Мария Дмитриевна удивлялась дороговизне: ожидание обошлось в 50 рублей. Но вот обещанные деньги получены; впереди — Нижний Новгород.
Знаменитая Нижегородская ярмарка, которую застали в полном разгаре, оправдала свою всесветную славу: часа три потратили на нее и то ухватили разве что самый краешек. В тот же день отправились на Владимир, а как замерцали подмосковные березки, сердце защемило, слезы вдруг сами потекли, и он не постыдился их, он чувствовал, что счастлив наконец... Но и счастье горчило: в Москву въезд запрещен, и потому — мимо, мимо... Но в Сергиев монастырь не мог не заехать — и так пахнуло тем давним, почти забытым ощущением отроческих лет, когда все еще было впереди, манящее, неведомое, таинственное, будто он все еще тот же и не было больше ничего, а только привиделось, пережилось в какое-то фантастическое мгновение, в которое проявил он чуть не треть своей жизни.
Тверь показалась мучительней Семипалатинска: Москва рядом, но близок локоток, да не укусишь. С трудом — за 11 рублей серебром в месяц — сняли наконец квартиру в три небольшие комнаты с какой-никакой мебелью, но зато как неожиданно оказалось — в том самом доме Гальянова, в котором останавливался, будучи в Твери, Пушкин:
- У Гальяни иль Кольони
- Закажи себе в Твери
- С пармазаном макарони
- Да яичницу свари...
А это уж, как хотите, если и не перст судьбы, то все равно добрый знак.
Ходили всем семейством на станцию железной дороги — поглядеть на невидаль. «До чего народ доходит — самовар в упряжке ходит», — шутили мужички. Станция понравилась. Вспомнилась последняя встреча с Белинским — не пришлось ему повидать воочию этот железный образ новой России, с пыхтением и свистом пустившейся догонять Европу. Тяжелый стук колес доносился день и ночь за три версты, от станции до города, наполнял сердца спящих обывателей гордостью: и они теперь не провинция, а рядом с прогрессом.
Правда, тарантас, на коем пересекли пол-России и на который пришлось изрядно поиздержаться, продать в Твери теперь очень сложно: XIX век — научно-технический прогресс! Станция рядом, кто ж теперь в Москву на тарантасе ездит! Предлагали, правда, 30 рублей, да хотелось взять хотя бы уж рублей 40, а то ведь осталось на все житье-бытье 20 рублей, не отдали, так теперь и тех не предлагают. Михаил советует ничего не покупать, даже чашек. Ладно, без чашек, положим, обойдутся, но самовар-то непременно нужен. К тому же и башмаки у всех поизносились, а Марье Дмитриевне и вовсе выйти не в чем, вот и приходится, как ни совестно, молить брата: «Теперь еще просьба, и великая: у жены нет никакой шляпки. Хоть жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели ей сидеть взаперти? В здешних магазинах нет ничего. Зайди к мадам Вихман и, если есть готовая, купи, а нет — закажи. Шляпка должна быть серенькая или сиреневая, расхожая в полном смысле слова. Другую хорошенькую зимнюю шляпку мы сделаем позже... Ради бога, брат, не откажи. Продам тарантас — деньги отдам тотчас. Есть у Вихман ленты (мы здесь видели образцы от Вихман же) с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими. Вот таких бы лент к шляпке... Голубчик мой! Не досадуй на меня за мои просьбы!»
Из Семипалатинска получил письмо, посланное туда из редакции «Русского вестника»: Катков-де за границей, поэтому не могут сказать, будут ли печатать «Село Степанчиково». Приуныл: ответ — явно обходительная форма отказа, а на «Степанчиково» все надежды, и денежные и литературные — что бы там они ни говорили, но он-то знает, чувствует — это лучшее, что он написал до сих пор. Или боятся связать себя с недавним политическим? Так ведь он всемилостивейше прощен, совсем прощен, и «Дядюшкин сон» уже вышел, значит, не они первые...
Утром 25 августа приехал на машине Михаил — ходил встречать его на станцию. Вот и свиделись наконец. Брат огорчил: привез рукопись «Степанчикова», отвергнутую редакцией «Русского вестника». Но и обрадовал: предложив рукопись Некрасову в «Современнике», он успел получить добрый ответ: «Милостивый государь Михаил Михайлович. Письмо ваше доставило мне большое удовольствие. Я всегда уважал и никогда не переставал любить вашего брата — печатать его произведения в моем журнале мне будет особенно приятно. Уверен, что в условиях мы сойдемся легко...»
Достоевский даже физически почувствовал себя веселее: только бы захотели перечитать, а там уж все пойдет — не могут же не понять, что такое Фома Фомич!
Конечно, провинциальная история о том, как недавний приживальщик вдруг превратился в местного тирана, довел общество до какого-то мистического поклонения своей персоне, так что даже владелец имения, богатырской наружности полковник Егор Ильич Ростанев, в доме которого и прижился Фома Фомич, вынужден величать приживальщика «вашим превосходительством», — история, может быть, и забавная, но не слишком ли далекая от серьезнейших вопросов действительности?
Но именно исходя из этих вопросов, как он их сумел понять оттуда, издали, из Семипалатинска, Достоевский и писал свою повесть. Мечталось указать обществу на нечто ему еще не вполне ведомое, вызревающее подспудно, но грозящее в будущем, как ему казалось, обратиться в капитальную злобу дня. Россия явно обновляется, новые веяния, новые задачи рождают и новых пророков и мессий, но и новых же лжепророков и лжемессий, и будут их слова наполнены раденьем о народе, о его просвещении, и будут они либеральнее либералов и патриотичнее патриотов, и будут учить они добродетели и правде, да так искренне и убежденно, так бескорыстно и самозабвенно, что стыдно будет не поверить в них, не обожествить их, не преклониться перед ними. И попадут и народ и общество из-под одного ига — крепостнического — в другое — еще более страшное, потому что добровольное, в духовное, моральное крепостничество к пророкам либеральной фразы. Они будут проповедовать народное просвещение, презирая народ, учить патриотизму, ненавидя Россию, исповедовать гуманизм, будучи человеконенавистниками. И не просто будет отличить истинных пророков от приживальщиков при великих идеях, ибо слова их будут похожи во всем, до мелочей, как похожа восковая фигура на живого человека. Народ, общество, либеральные ли, патриотические ли идеи — для них только средство собственного самоутверждения, цель же и единственная цель — одна: власть собственного ущемленного самолюбия над людскими душами. И притом тираническая власть. Беспрекословная и безусловная. А иначе... в Сибирь! В кандалы каналью! — заорет вдруг доморощенный Мирабо, гуманист и патриот, великий либерал, бескорыстная душа — духовный тиран уездного масштаба (но ведь и он о столице помышляет!) Фома Фомич Опискин — «представителю» того самого просвещенного им народа, — Гавриле, восставшему против благодетеля своего, замордовавшего бедного человека французскими вокабулами. Но на то он и «темный народ», а люди интеллигентные, вроде того же полковника, скорее уж сами себя застыдят, тысячу собственных пороков откроют в себе самих при одной только мысли посомневаться в благородстве учителя, благодетеля своего, Фомы Фомича...
Нет, он только кажется смешным, а он страшен, Фома Фомич.
Но не «Современнику» же пугаться? Разве что за Гоголя могут обидеться? Достоевский действительно дал своему Фоме Фомичу немало слов и жестов любимого писателя, сказанных в ту грустную для Гоголя пору, когда возомнилось ему, будто ему дано не только учить, но и поучать и народ, и общество, и правительство, — и тогда среди мудрых слов его, откровений и пророчеств появились и недостойные гения поучения и рекомендации. Но и разве только какой-нибудь другой Фома Фомич от литературы примет Опискина за Гоголя. В том-то и урок, в том и указание всем нам, проявившееся в духовной драме Гоголя, что даже гений подвластен соблазну, пусть и бескорыстному, — соблазну провозгласить самого себя новым пророком и вероучителем. Но Гоголь никогда не был приживальщиком ни при обществе, ни при литературе, ни при идее, ни даже при самой живой жизни; он сам был и целой литературой, и идеей, и жизнью. Да, в нем и через него сказывалась духовная жизнь общества и народа. Нелегкий крест; изнемогла, видно, душа под тяжкой ношей.
Нет, Достоевский воссоздавал иной, принципиально иной, общественный тип человека: приживальщика-тирана, самоутверждающего свое ничтожество тиранией слова, идеи, поучения, но — чужого и даже чуждого ему слова, чуждой ему идеи. Тут не трагедия великой личности, тут трагедия общества, подпавшего под обаяние демагога-ничтожества.
Да, его Фома Фомич — фигура комическая, но в том-то и трагедия, что при всей его комичности и ничтожности осмеять его под силу лишь одному автору, а не героям повести, добровольным рабам, запутавшимся в хитростях иезуитской демагогии Фомы. Любая борьба против его поучений представляется им борьбою как бы против самой истины, ибо ведь у него нет своих слов, своих идей, ему нечему учить — он пользуется вашими же понятиями о совести, добре, справедливости, о просвещении народа и просветлении души...
И действительно: ну как не обрить даже собственные бакенбарды полковнику Ростаневу, если Фома упрекает его в том, что он похож на француза и что потому в нем мало любви к отечеству? Что не сделаешь ради отечества — сбрил и бакенбарды. На кого, как не на собственное невежество, жаловаться бедному старику Гавриле, которого Фома просвещает тем, что заставляет учить... французские вокабулы? Кто же станет спорить против просвещения народа? И пусть, не умея отличить овса от пшеницы, учит Фома крестьян, как вести хозяйство, — кто же посмеет укорить его? — неужели же найдется столь черствое сердце, чтобы осудить Фому за его бескорыстную заботу о мужичке?..
Вот и полагал Достоевский, что история, случившаяся в селе Степанчикове, не совсем безразлична и для истории всей России, и не покажется столь уж отвлеченной даже и в смысле злобы дня.
«Мы еще плохо знаем Россию», — утверждал Гоголь. «Я знаю Русь, и Русь меня знает», — утверждает Фома. Что ж, если еще и не знает, то теперь должна узнать и подготовиться к явлению уже не провинциального, но всероссийского Фомы в роли пророка и учителя. Время грядет серьезное и ответственное, и многое, если не все, подготовится и решится через слово и словом — Достоевский был уверен в этом, оттого и предупреждал общество о грядущем Фоме, лжепророке-тиране, приживале при будущем слове, рождающемся сегодня...
Михаил пробыл у них в Твери пять дней и уехал. Наведался и добрая душа Яновский. И снова потянулись тягостные дни ожидания. Познакомился с тверским губернатором Барановым — тот обещал посодействовать в хлопотах о разрешении Достоевскому жить в Петербурге. Сам Федор Михайлович написал Тотлебену, хоть и совестно было еще раз беспокоить его, — не сидеть же здесь, в Твери, а под лежачий камень и вода не потечет.
Мария Дмитриевна хандрила, да и туберкулез, судя по всему, развивался, и трудно было ожидать серьезной помощи от местных врачей. Судьба мужа мало интересовала ее, убивалась за будущее сына — нужно же его определить к делу, а Федор Михайлович занят только своими «бумажками». Знакомиться ни с кем не желала, так что ему пришлось делать визиты одному, у себя тоже не принимали — негде, да и Мария Дмитриевна стыдилась их бедности. Он же взвалил на себя и домашние заботы, и о пасынке не забывал. Но страдал и нравственно и физически, нервы шалили и у него, и у Марки Дмитриевны, жизнь порою казалась конченой. Представлялось порой, словно он живет на станции, а мимо несутся поезда и нет ему места в них, нет ему дороги.
«Положение мое здесь тяжелое, скверное и грустное, — жалуется он Михаилу. — Сердце высохнет. Кончатся ли когда-нибудь мои бедствия и даст ли мне Бог наконец возможность обнять Вас всех и обновиться в новой и лучшей жизни?..»
В октябре пришло наконец письмо из «Современника» — печатать «Степанчиково» не отказывались, но предлагали нищенскую плату в тысячу рублей за всю повесть, да и то лишь в будущем году. Собственно, и это была лишь форма отказа, принять такое предложение — то же, что принять подаяние.
Фома явно не произвел впечатления на Некрасова. «Достоевский вышел весь. Ему не написать больше ничего значительного», — заявил редактор «Современника».
Было от чего прийти в отчаяние: то ли он действительно не понимает новых общественных потребностей, то ли подлинно нет пророка в своем отечестве? То ли проклят он кем-то — за что? То ли... Бог на каждого по его силам крест возлагает, и нужно все вынести, перетащить — и непонимание, и забвение, и одиночество, и не поддаться унынию, и не мечтать о счастье, а просто идти своим путем и верить, ибо «счастье не в счастии, а лишь в его достижении», — пишет он теперь. «Но я верю, что не кончилась еще моя жизнь...»
Он возвращается к «Запискам из мертвого дома», вновь пишет Тотлебену и наконец решается обратиться прямо к царю: «Вы, Государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных, — может быть, вспомнив стиль молений древнего Даниила, пишет теперь тверской заточник XIX века. — Состояния я не имею никакого и снискиваю средства к жизни единственно литературным трудом, тяжким и изнурительным в моем болезненном положении. Но медицинскую помощь, серьезную и решительную, я могу получить только в Петербурге. В Вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите дозволить мне переехать в С.-Петербург».
Тут же просит и за Павла, пасынка, — определить его па казенный счет либо в гимназию, либо в Петербургский кадетский корпус.
Обращение было слишком рискованно: в случае высочайшего отказа никто уже не сможет помочь ему. Послав письмо, Достоевский и сам расстроился, ругал себя: зачем не дождался ответа Тотлебена, зачем это лихорадочное нетерпение, толкающее его на отчаянные шаги? Но дело сделано, остается уповать на судьбу да на царскую милость.
В начале ноября Достоевский получил корректуру «Села Степанчикова» — повесть взял для ближайших номеров своих «Отечественных записок» Краевский, согласившийся платить по 120 рублей за лист.
А в середине декабря Достоевскому вручено наконец официальное сообщение о разрешении ему жить в Петербурге. Казалось бы, радость его должна быть беспредельной, но так много душевных сил отдал он на борьбу за это позволение, что счастливым себя не почувствовал. Впрочем, счастье-то ведь не в счастье — не сам ли недавно признал...
Глава II. РОССИЯ И ЕВРОПА
России определено было высокое предназначение...
Пушкин
1. «Время»
После десяти лет разлуки, в конце декабря 1859 года, Петербург встретил Достоевского снежной метелью, разноцветными огнями рождественских елок, объятьями брата Михаила и Аполлона Майкова, либеральными веяниями и шампанским. Правда, в моду входил новый напиток, который изобрел купец из старообрядцев Василий Александрович Кокорев, впервые обративший на себя внимание общественности устройством торжественной встречи уцелевших героев Севастополя: по его почину московские купцы, поклонившись в ноги черноморцам, позволили им пить за свой счет три дня и три ночи безданно и беспошлинно — гуляй, Русь-матушка! Пусть знают наших...
Кокорев выдвинул даже проект в смысле того, как придать торговле вином увлекательное направление «в рассуждении цивилизации». Слово «цивилизация» вообще стало чуть не паролем, своеобразным пропуском в порядочное общество. Тот же Кокорев крестился двумя перстами, свято верил в то, что Россия — страна мужицкая, таковой и всегда должна пребывать, а потому водрузил на своем столе символическую пепельницу в виде золотого лаптя; но испытывал при этом неизъяснимый восторг перед утонченной европейской цивилизацией. В знак же своего патриотизма он изобрел патриотический напиток, рецепт которого был до гениальности прост: на три четверти шампанского добавлялась одна четвертая квасу, в случае надобности по утрам рекомендовалось добавлять в него еще и рассолу. Кокоревский патриотизм быстро обрел славу «квасного». Достоевскому напиток пришелся не по вкусу, так что рождество отпраздновали за привычным бокалом шампанского.
«В рассуждении цивилизации» претерпело нововведения, конечно, не одно только питейное дело. Либеральные веяния ощущались повсюду и во всем: десятками открывались новые журналы, наблюдались серьезные цензурные послабления, значительно расширился доступ в университеты разночинной молодежи. Вышли собрания сочинений Пушкина и Гоголя, Кольцова — даже со вступительной статьей Белинского, о котором почти не поминали со дня его смерти.
Обретало силу новое явление — общественное мнение.
Но, главное, с 58-го года печать обсуждает вопрос о подготовке важнейшей реформы. Сам государь публично заявил о необходимости скорейшей отмены крепостного состояния, но, слышно, подготовка встретила глухой отпор во влиятельных сферах: назывались даже имена графов Шуваловых, отца и сына, князей Долгорукого и Меншикова, слывших некогда за вольнодумцев и даже франкмасонов. Было о чем поразмышлять на досуге...
Да... всего десять лет, а как будто из одной эпохи переселился в другую. Не встретишь больше на Невском Белинского. Умер Гоголь, за ним старик Аксаков. Герцен — за границей, в России читают его «Колокол», «Былое и думы». Тургенев ездит по Европе за Виардо, редко наведывается в Россию, но сделался чуть не первым отечественным романистом. А обличительные сатиры Салтыкова, говорят, произвели впечатление на самого императора. Рассказывали, когда министр внутренних дел представлял государю на утверждение доклад о назначении Салтыкова рязанским вице-губернатором, Александр II будто даже сказал: «Вот и прекрасно, пусть едет служить, да пусть сам поступает в том же духе, в каком пишет». Много говорят и об «Обломове» Гончарова, и об Островском. Но с кем хотелось бы поскорее познакомиться и сойтись, так это с Аполлоном Григорьевым: в их взглядах, судя по рассказам брата, немало общего. В недрах русской литературы рождалось нечто могучее, свое собственное, растущее из родной почвы, способное выдерживать сравнение с гигантами прошлого. А главное — обретает новое, небывалое доселе значение — то направление, начало которому положил Пушкин. Вот об этом бы и хотелось поговорить всерьез, поспорить и с Аполлоном Григорьевым и с новыми — Чернышевским и Добролюбовым, их имена у всех на устах нынче, они властители дум теперешней молодежи, а Добролюбов чуть не за второго Белинского почитается. Правда, и Михаил и Аполлон Майков относятся к ним скептически, да и Некрасов «Село Степанчиково» все-таки отверг, а ведь, слышно, без «семинаристов», как прозвали новых сотрудников Николая Алексеевича, он и шагу ступить теперь не решается. И все-таки есть в них какая-то сила убежденности, решимости, близкая Достоевскому, хотя и вызывающая к спору, но к спору среди своих. Майков, слушая подобные заявления, иронически улыбается, глаза его поблескивают сквозь очки: вам бы, Федор Михайлович, поприсмотреться, поприслушаться сначала к новой-то жизни. А ему некогда, ему бы прямо в бой, прямо бы сейчас свой журнал — ведь есть же для того основания, чтоб побороться за свой журнал: время-то какое — с 56-го, за четыре каких-нибудь года, сто пятьдесят новых журналов и газет позволено издавать, почему бы и нам не взяться за дело? Как недавнему государственному преступнику, ему, конечно, вряд ли позволят, но Михаилу Михайловичу (какой-никакой, а все-таки владелец предприятия, фабрикант, человек материально состоятельный!) отчего бы стали отказывать? А силы литературные найдутся. Неужто не найдутся?
Мысли о своем журнале Достоевский вынашивал давно, поделился ими с братом Михаилом еще в письме из Семипалатинска, теперь же настаивал на немедленных практических шагах. Михаил колебался: все-таки придется попервоначалу пожертвовать значительные суммы, а дело рисковое, а ну как прогорят с подписчиками, тут и предприятие табачное обанкротится, пожалуй, еще и в долговую яму угодишь, а у него семья, дети — тоже нужно считаться. Но и не посчитаться с Федором Михайловичем невозможно. Решили рискнуть, составить прошение, подготовить программу журнала.
Достоевский снова в лихорадке нетерпения.
В марте его семья переехала из меблированных комнат, снятых родственниками, в угловой двухэтажный каменный дом купца Полибина. Сначала заняли квартиру в первом этаже, затем переселились на второй. Квартирка маленькая, тесная, а в тесной квартире и мысли приходят какие-то темные, унылые, серые — Достоевский почти физически ощущал эту каменную сдавленность; душа просила простору, и он готов был отказать себе в чем угодно, только бы переселиться в квартиру попросторнее, но средств для этого пока не было, по-прежнему приходилось сообразовывать свои потребности с обстоятельствами жизни, все чаще напоминающей ему о близящемся сорокалетии.
Мария Дмитриевна, бледная, совсем исхудавшая, в Петербурге окончательно захандрила. Родственники и друзья мужа, тем более его общественные и писательские интересы, казалось, вовсе были чужды ей. Все учащающиеся вспышки раздражения, неоправданные попреки доводили его порой до отчаяния. И от злых языков никуда не скроешься, хоть и живут замкнуто и почти никто, кроме близких, не заходит; кто-то распускает слухи, якобы Мария Дмитриевна оттого и злится, оттого и бесится, что бросил ее любовник, тот самый учитель Вергунов, который будто бы приезжал к ней в Семипалатинск и даже в Тверь, да, увидев, что наделала чахотка с недавно еще красивой, а теперь кашляющей кровью женщиной, почувствовал к ней отвращение и уехал однажды, даже не оставив адреса. Достоевский не верил слухам, но ему было больно сознавать себя героем сплетен, а постоянно наэлектризованная атмосфера в доме издергивала и без того некрепкие нервы, и он с нескрываемым нетерпением дожидался всякий вечер, пока улягутся спать жена и пасынок. Оставшись один, он уже не чувствовал себя столь одиноко, выкуривал папироску, дожидался, пока закипит самовар, ставил его на стол, выпивал два-три стакана крепкого, очень сладкого чаю и, успокоившись, принимался наконец за работу. К утру самовар обычно бывал пуст.
Его не то что огорчало, но по-настоящему беспокоило отношение читателей и критики к «Селу Степанчикову», на которое он возлагал столько надежд. Принято оно совершенно холодно, хотя самого Достоевского публика встречала почти как героя, и он охотно соглашался участвовать в общественных литературных вечерах, устраиваемых обычно либо в Пассаже на Невском, либо в большом зале домовладелицы Руадзе на Мойке, где вмещалось более тысячи человек. Здесь 14 апреля Достоевский блестяще сыграл почтмейстера Шпекина в гоголевском «Ревизоре», Хлестакова исполнял поэт и переводчик Петр Исаевич Вейнберг, но публика ждала появления «купцов», и когда на сцену вышли Тургенев, в пенсне и с головою сахара в руках, Некрасов, Гончаров, Григорович, Майков, Дружинин, Курочкин, Панаев, Краевский — восторгам зрителей не было предела.
Выступал Достоевский и с чтением любимых стихов Пушкина:
- Как весенней теплою порою
- Из-под утренней белой зорюшки,
- Что из лесу, из лесу дремучего
- Выходила бурая медведица
- Со милыми детушками медвежатами...
Но особенно потрясало публику, когда он своим глуховатым, как будто идущим из таинственных глубин души голосом читал:
- Еще дуют холодные ветры
- И наносят утренни морозы,
- Только что на проталинках весенних
- Показались ранние цветочки,
- Как из чудного царства воскового,
- Из душистой келейки медовой
- Вылетала первая пчелка,
- Полетела по ранним цветочкам
- О красной весне поразведать,
- Скоро ль будет гостья дорогая,
- Скоро ли луга позеленеют,
- Скоро ли у кудрявой у березы
- Распустятся клейкие листочки,
- Зацветет черемуха душиста.
Теплый прием такого, казалось бы, далекого от общественных интересов времени, но воистину народного Пушкина радовал Достоевского (сам он воспринимал эти стихи еще и как-то по-особому личностно: клейкие, пушкинские, листочки будили в нем что-то забытое, давнее, дорогое). Но многое и беспокоило, огорчало: он явно чувствовал — его принимают как страдальца, недавнего политического заключенного. Достоевский же — писатель либо вовсе забылся, либо ощущался как писатель прежней, ушедшей эпохи.
...Чай в стакане давно простыл, но он и не любил слишком горячий; чадила дешевая свеча; внутри тела отчетливо творилась темная разрушительная работа — не хватает сейчас только припадка, который отнял бы у него несколько дней жизни, оторвал бы от подвигающегося к окончанию труда: он завершал свои «Записки из мертвого дома».
Общий план созрел еще в Твери, а это было главное, потому что работа оказалась не из обычных и не из легких: ведь он писал не воспоминания о пребывании в Омском остроге, не физиологический очерк о неведомой миру стране — каторге. Нет, и пережитое, и лица сотоварищей по несчастью, и их рассказы о себе, и быт, и нравы каторги — все это должно было стать правдивой, документальной основой иной, художественно претворенной правды о Мертвом доме и его обитателе — погибшем народе.
Конечно, кое-что придется изменить и по цензурным соображениям — неизвестно еще, разрешат ли вообще опубликовать «Записки», пусть времена и переменились, а о себе здесь откровенно не расскажешь. Да и не в себе ведь дело: он уже вместо себя и рассказчика придумал Александра Петровича Горянчикова, попавшего в острог за убийство своей жены. Фигура совершенно условная, никого ею, пожалуй, не обманешь, даже цензуру, — сразу видно, кто все это видит, кто размышляет и судит, но такт придется все-таки соблюсти. Изменил имена некоторых заключенных, причины их осуждения — все это не измена достоверности и не в одной только цензуре тут дело. Он писал вещь документальную, но не этнографически, а идеологически. Но и это не все — задача его была еще сложнее: если Гоголь в знаменитой поэме явил России и миру, как, оторвавшись от живой жизни, люди окоченевают, дубеют, теряют облик человеческий, перерождаются в «мертвые души», то его цель другая, даже противоположная гоголевской поэме: ни в чем не отступая от правды, показать, как даже и в Мертвом доме мучается и погибает, но все равно надеется, сохраняет веру в иную жизнь бессмертная душа человеческая.
Десятки, если не сотни, сцен, характеров, типов, судеб, рассказов, притч, примет и деталей необходимо было собрать в единственно возможное целое. Он менее всего думал о том, выйдет ли из всего этого повесть или роман особого типа — документальный, как «Былое и думы» Герцена, или и вовсе нечто небывалое, — не о том его заботы. Важно найти такую форму, чтобы естественно соединить исповедь очевидца, рассказ о хождении собственной души по мукам земного ада, размышления о природе преступления и наказания, о свободе, о погибшем народе, о России вообще — так, чтобы все это не превратилось ни в очерк, ни в трактат, но, оставаясь живой, наглядной картиной, зазвучало бы страстной проповедью.
Да, то, что он делает сейчас, должно стать проповедью свободы. Он сам видел воочию, как возрождала даже и осужденных бессрочно порою самая призрачная надежда на перемену участи. Не будь и такой надежды — и тогда действительно это был бы окончательно погибший, духовно мертвый народ. Но он видел же, сам видел и пережил — за немногими исключениями — их души живы...
Это должна быть и проповедь о необходимости для образованного общества отыскать пути к народу и народа к интеллигенции; призыв к их родственному соединению. Но для этого нужна почва, на которой стало бы возможным такое соединение. А почвой может быть только подлинно великое, всеохватывающее, общее дело. Пробудить нацию к общенародному делу — вот долг современного писателя, иначе пропадут силы народные впустую, истратятся за оградою Мертвого дома.
И «сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват...» — писал он, забыв о холодном чае, о больной раздражительности жены, о готовности вечно сжатого в пружину, не знающего передышки тела к очередному эпилептическому припадку. Старый приятель Степан Дмитриевич Яновский и светила познаменитее его утверждают в один голос: нужно бросать эти писания, а ночные — немедленно, потому что немного еще и не выдержит организм. Не выдержит... А душа, а мозг, а природа его выдержат без писания?
За окном давно уже брезжит предрассветная белесая муть. Близится пора белых ночей.
Дома теперь и вовсе не сиделось: там ждал его только рабочий стол с пачкой бумаги, но встречу с ним он уже почти привык откладывать на ночь, днем же всегда приходилось отыскивать время для деловых встреч — навестить старых товарищей, тех, что не забыли о нем в эти десять лет. К тому же появилось много и новых знакомств. Сначала собирались по вторникам у Милюкова. Достоевский помнит, как Александр Петрович провожал его в Сибирь, теперь он главный редактор журнала «Светоч», здесь обычно бывали Аполлон Майков, Степан Дмитриевич Яновский, поэты Яков Полонский, Лев Мей, молодой Дмитрий Минаев и совсем молодой, двадцатилетний Всеволод Крестовский, начинающий беллетрист Григорий Петрович Данилевский, уроженец Харьковской губернии, однофамилец славянофила Николая Яковлевича Данилевского — философа, в прошлом фурьериста-петрашевца.
Познакомился он и с романистом Алексеем Феофилактовичем Писемским, автором «Тысячи душ», и с критиком и философом-естественником Николаем Николаевичем Страховым. Узнав, что Николай Николаевич видит в немцах вождей просвещения, Достоевский подарил ему «Историю философии» Гегеля, которую сам просил брата выслать ему в Семипалатинск. Гегель не произвел на него впечатления своей мирообъемлющей системой, Достоевскому она показалась слишком рационалистической и далекой от жизни, его влекут не общие философствования, не сухие теории, как бы ни были хороши и правильны они сами по себе. Дело писателя выявлять и в наглядных, убедительных образах возводить подспудно нарождающиеся процессы в сферу общественного самосознания. Тогда-то писатель и станет истинным руководителем общества, его пророком и его духовным двигателем. Пока у нас только один-единственный писатель, которого мы с полным основанием можем назвать нашим пророчеством и указанием, и этот единственный — Пушкин...
Достоевского слушали с особым вниманием: с первых же дней своего участия в кружке Милюкова он «первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал», — по свидетельству Н. Н. Страхова. «Когда я вспоминаю его, — продолжает он, — то меня поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души».
Горячо обсуждали и цели и направление нового журнала «Время», если таковой будет дозволено издавать. Вскорости эти обсуждения перенесли на квартиру Михаила Михайловича Достоевского, на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала. Здесь и складывалось ядро «Времени».
Зачастил Достоевский и в Москву: там в издании Н. А. Основского готовилось к выходу его двухтомное собрание сочинений. Но не одно только это предприятие, с которым он связывал главным образом надежды хоть на время выскочить из крайней нужды, влекло его в древнюю столицу: там жила теперь Александра Ивановна...
Кто скажет, то ли сама Мария Дмитриевна сумела оскорбить его чувства настолько, что измучилась душа в желании хоть кого-нибудь одарить затаившейся нежностью; то ли действительно искренне считал себя обязанным помочь талантливой женщине определить свою судьбу; или уж подлинно черт в чужую жену ложку меда кладет, и ослепила его вдруг вспышка безотчетной, неподвластной ему любовной лихорадки, но увлекся он, видимо, не на шутку.
Александра Ивановна Шуберт, урожденная Куликова (отец ее — крепостной декабриста Анненкова, мать — князя Вяземского), «маленькая, худенькая брюнетка с густыми чудными волосами и небольшими чрезвычайно живыми глазами» (по воспоминаниям актрисы М. Г. Савиной), была любимой ученицей Щепкина, играла с блеском уже на многих сценах: в Одессе (где встречалась о самим Гоголем), Вильно, Орле, Твери, играла и на сцене Александрийского театра, получив широкую известность главным образом исполнением ролей молоденьких девушек. Выйдя замуж за актера Шуберта, вскоре овдовела, а через год, в 1855 году, стала женой Степана Дмитриевича Яновского, оставив на время сцену. Но когда она вновь решила вернуться в театр, муж воспротивился, и в семье начался серьезный разлад. Почуяв, что их общие друзья — Майков, Дружинин, Писемский — сочувствуют отнюдь не ему, Степан Дмитриевич попытался оградить жену от их дурного, как он был уверен, влияния, и тогда молодая женщина решилась переехать в Москву, где ее давно ждал Малый театр. Видя, как заскучала и потускнела без сцены известная артистка, муж в конце концов согласился на ее переезд. Однако у него были и серьезные сомнения в том, что решение жены связано только с театром: Александринка тоже охотно приняла бы ее, но она настаивала на Москве. Степан Дмитриевич страдал, ревновал — подозревал, что жена влюблена в Писемского; умолял, угрожал, сам собирался переехать с нею в Москву. А Плещеев (дошло до Степана Дмитриевича) и вовсе выразился в том смысле, что жить с Яновским скука — все равно как если бы кого-нибудь осудили всю жизнь не есть ничего, кроме клубничного варенья... Каково?
Яновский даже обрадовался сначала, заметив, какое впечатление произвел на Александру Ивановну только что прибывший из Твери Достоевский: может быть, хоть он образумит упрямицу, да и влияние Писемского на жену, глядишь, поубавится. Однако слишком скоро несчастный муж стал замечать, что влияние Алексея Фиофилактовича хотя и действительно уже ничем ему не угрожало, зато теперь Александра Ивановна, кажется, влюбилась в Федора Михайловича, да и он как будто несколько увлекся этой увлекающейся женщиной.
В марте она все-таки переехала в Москву. Без театра жить не могла («Она зорко следила за всею русской жизнью, к искусству относилась серьезно и театр любила глубоко, — свидетельствует ее коллега, актер В. Н. Давыдов. — Умная от природы, она отличалась тонкостью воспитания, была уступчива, скромна и любвеобильна...»), к тому же теперь Москва привлекала ее еще и надеждой на встречи с любимым человеком вдали от ревнивого ока Степана Дмитриевича.
Достоевский и действительно привязался к Александре Ивановне, однако, приехав из Москвы в мае, он пишет ей вполне дружеское, доверительное письмо:
«Многоуважаемая и добрейшая Александра Ивановна, вот уже три дня, как я в Петербурге и воротился к своим занятиям. Опять приехал на сырость, на слякоть, на Ладожский лед, на скуку и прочее... Ходил к Степану Дмитриевичу. Он... принял меня очень радостно и много расспрашивал о вас. Я сказал ему все, что знал... Рассказал ему и про ваши успехи на сцене... Степан Дмитриевич... был в очень приятном расположении духа...
Воротился я сюда и нахожусь в лихорадочном положении. Всему причиною мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи. Зато какая награда, когда кончу! Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать, настоял на своем. Может быть, в награду себе поеду за границу месяца на два, но перед этим непременно заеду в Москву...
Дай вам бог всего хорошего. Мои желания самые искренние. Очень бы желал тоже заслужить вашу дружбу...
Жму вашу руку, целую ее и с полным, искреннейшим уважением остаюсь вам преданнейший Ф. Достоевский».
Однако уже в следующем письме, написанном через месяц, по форме своей скорее любовном, нежели дружеском, он деликатно, но по существу дает знать, что их отношения не могут и не должны иметь продолжения. Может быть, именно поэтому, чтобы не оскорбить ее самолюбие, не обидеть чувств женщины, он и облек объяснение разрыва в форму любовного признания?
«...Как я счастлив, что Вы так благородно и нежно ко мне доверчивы: вот так друг! Я откровенно Вам говорю: я Вас люблю: я вас люблю очень и горячо до того, что сам Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что дорожил вашим правильным мнением и, боже мой, как горевал, когда мне показалось, что Вы лишили меня Вашей доверенности... Дай Вам бог всякого счастья! Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в Вас! Это мне дает возможность быть еще преданнее Вам... Я буду знать, что я предан бескорыстно.
Прощайте, голубчик мой...»
Недолгая вспышка чувств погасла навсегда внезапно, но не беспричинно. Достоевский не оправдывается, не входит в объяснения, но о причинах разрыва все-таки говорит прямо, в том же письме:
«...Не знаю, что он говорил Вам про меня во время Вашего последнего с ним свидания; но вижу, что его самолюбив страдает: ему досадно, что я верю больше Вам, чем ему: ему как будто кажется, что я изменил ему в дружбе, что еще более подкрепили в нем Вы, сказав ему в Москве: «Ты не знаешь еще Достоевского, он вовсе не друг тебе...»
...он знает, что Вы мне многое доверили и сделали мне честь, считая мое сердце достойным Вашей доверенности... знает, что я и сам горжусь этой доверенностью... и, кроме того, симпатизирую во всей этой семейной истории Вам, чем ему, что я и не скрыл от него, не соглашаясь с ним во многом, а тем самым отстаивал Ваши права... Мне кажется, он тоже и ревнует немного, он, может быть, думает, что я в Вас влюблен. Увидя Ваш портрет у него на столе, я посмотрел на него. Потом, когда я другой раз подошел к столу и искал спичку, он, говоря со мной, вдруг перевернул Ваш портрет так, чтоб я его не видел. Мне показалось это ужасно смешно, жест был сделан с досадой...
Приготовьтесь его видеть, отстаивайте свои права, но не раздражайте его напрасно; главное — щадите его самолюбие. Вспомните ту истину, что мелочи самолюбия почти так же мучительны, как и крупное страдание...»
Он не мог и не хотел стать причиной страданий товарища своей далекой молодости — пусть сейчас нет между ними прежней близости, пусть Степан Дмитриевич не столь талантлив, как его жена, и даже просто зауряден, пусть даже Александра Ивановна сочтет своего возлюбленного трусом и перед ним самим захлопнется, может быть, единственное окошко, обещавшее свет и уют его душе, столь одинокой сейчас в этом сером, слякотном Петербурге, но пусть никто и никогда не посмеет сказать, будто он, Достоевский, предал друга...
Он давно уже замечал, вернее — даже ощущал, — как он любил говорить сам, что при всем неисчислимом и неповторимом многообразии человеческих характеров, типов, своеобразии их жизненных проявлений всех их в конечном счете можно отнести к двум основным разновидностям, существенно отличающимся одна от другой. И дело тут вовсе не в темпераментах и не в происхождении. Одни полагают, будто весь мир и все в мире существует исключительно для них и во имя их; вторые убеждены, что сама их жизнь только тогда и имеет какой-то смысл, когда она служит жизни всего мира и всего в этом мире. Первые в крайности своей способны пожертвовать целым миром во имя собственной личности, вторые — собой, ради не то что целого мира, но другого человека. Первый тип уже отразился в литературе, получив немало обликов и имен, как символических — байроновский Каин, лермонтовский Демон, так и реальных — многие из героев Бальзака; Алеко, Онегин у Пушкина, Печорин у Лермонтова... А где же второй тип? Его, по существу, и нет в литературе, кроме бессмертного Дон-Кихота, конечно. Правда, в Татьяне Лариной Пушкин многое наметил и воплотил, но и ее сумели не понять. И до сих пор... Да и не только в этом дело: все они — и Каины и Дон-Кихоты, особенно реальные, выхваченные из жизни нашими писателями, — являются таковыми как бы стихийно, по природе своей, а между тем — Достоевский все более убеждался в этом — первая разновидность подмеченных им типов начинает обретать своих теоретиков идаже идеологов. На Западе философия эгоцентризма сформирована и обоснована давно, особенно нашумела книга Макса Штирнера — «Единственный и его достояние» (о ней немало переговорено еще у Белинского, да и среди петрашевцев вокруг нее достаточно поспорили). «Не ищите свободы, — провозгласил Штирнер, — ищите себя самих, станьте эгоистами; пусть каждый из вас станет всемогущим «я»...
Я сам решаю, имею ли я на что-нибудь право; вне меня нет никакого права... Я... сам создаю себе цену и сам назначаю ее...
Эгоисту принадлежит весь мир, ибо эгоист не принадлежит и не подчиняется никакой власти в мире... Наслаждение жизнью — вот цель жизни... Каков человек, таково и его отношение ко всему. «Как ты глядишь на мир, так и он глядит на тебя...»
Вывод, который я делаю, следующий: не человек мера всему, а «я» — эта мера...»
Прочитав в апрельской и майской книжках «Современника» большую статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии», Достоевский был немало удивлен и даже не на шутку раздражился: в основании теории человека и будущего социального мироустройства Чернышевского он усмотрел нечто родственное штирнеровскому учению.
Главной движущей силой общественного развития, утверждал вслед за французскими просветителями XVIII века Чернышевский, является естественное стремление человека к удовольствию.
«Человек любит самого себя», а потому в основе любых его поступков и устремлений всегда «лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом».
«Человек любит приятное и не любит неприятного, следовательно, — подытоживает Чернышевский, — при внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятно ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия».
Правда, суть дела, по Чернышевскому, состояла в том, что истинным двигателем человечества является не просто эгоизм, но разумный эгоизм, а разумно поступать благородно и, напротив, поступать неблагородно — значит вместе с тем и неразумно. Более того, личный эгоизм должен быть подчинен общей выгоде, так как «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного» и т. д.
Достоевский прекрасно понимал, что один из вождей «Современника» попытался здесь обосновать, по существу, ту же истину, которая лежит и в основе его собственного понимания социального мироустройства: интересы народа — выше интересов привилегированного класса. Не укрылось от Достоевского и желание Чернышевского доказать, что любой благородный поступок, даже и безрассудный, и разумен и полезен.
Все это Достоевский если и не принимал вполне, то понимал. Но... ни принять теорию «разумного эгоизма», ни понять, почему «расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр», он все-таки не мог и не хотел. Он слишком хорошо представлял, какой соблазн коренится в самом этом принципе «разумного эгоизма», какое оружие самооправдания могут получить в свои руки циники, негодяи и самых разных мастей человеконенавистники, эгоисты, с какой радостью схватятся они за формулу: «Нет никакой разницы между пользой и добром».
Один из двух центральных типов его нового, еще не завершенного романа «Униженные и оскорбленные», о котором он писал Александре Ивановне, получал теперь общественно важное, животрепещущее значение и обоснование.
Сначала роман задумывался как прямое напоминание читателям о себе: герой, от имени которого ведется повествование об униженных и оскорбленных, — Иван Петрович, молодой писатель, автор повести о бедных людях, друг и единомышленник критика Б., под которым легко угадывается Белинский, — конечно же, не сам Достоевский, но тип человека, писателя, родственный автору, И действие «Униженных и оскорбленных» перенесено в современную эпоху: петербургские трущобы, неведомые углы, притоны; судьбы беспризорных детей, обманутых женщин, покинутых стариков, бесприютных душ... Добрая, тихая Наташа ушла от стариков родителей, стала — подумать только! — любовницей... и кого? — жалкого человека, вечного недоросля, Алексея Валковского, сына того самого князя Валковского, которому чуть не всю жизнь служил верой и правдой старик Ихменев, отец Наташи, и который разорил, оскорбил, унизил, поругал всю семью Ихменевых, и вот — поругание продолжается, и какое...
Иван Петрович пытается всех понять, простить, помочь всем. Он и сам любит Наташу, но думает уже не о себе, не о собственном счастье — о счастье любимого человека, о счастье и любимого ею: Алексей теперь для него не соперник, не враг — скорее уж брат. Вряд ли кто из близких ему людей способен понять его, не говоря уже — оценить. Иван Петрович смешон, нелеп, жалок в их глазах. Но ему это неважно; главное, чтобы его цель была достигнута — чтобы соединились любящие люди, чтобы успокоились души стариков, чтобы даже униженные и оскорбленные смогли наконец почувствовать себя счастливыми.
Деятельная любовь — самоотвержение... Может быть, никогда еще с тех пор, как пытался сам он устроить счастье Марии Дмитриевны с учителем Вергуновым, не переживал Достоевский таких сердечных мучений, какие приходилось выдерживать ему сейчас, создавая из опыта собственной судьбы судьбу Ивана Петровича. Доставляет ли ему удовольствие отречение от любимой женщины во имя ее счастья? Поступает ли он «разумно», а стало быть, и «выгодно», «с пользой» для самого себя? Да он и не думает об этом. И неизвестно еще, что бы он подумал и как бы он поступил, если бы ему «научно» доказали, будто его страдания не что иное, как удовольствие, а его самоотречение — «разумный эгоизм»...
Вот тут-то и появляется старый князь Валковский, Петр Александрович.
Вникнув в суть ситуации (князь собирается женить сына на богатой невесте), выслушав рассуждения Ивана Петровича о добре, нравственном чувстве столь же спокойно и с тою же презрительною ухмылкой, как и обвинения его в цинизме, эгоизме, злонамерениях, Валковский с убежденной хладнокровностью заявляет: «Ведь это все вздор». — «Что же не вздор?» — спрашивает огорошенный Иван Петрович.
— Не вздор, — ответствует теоретик и практик штирнерианского эгоизма, — это личность, это я сам. Все для меня, и весь мир для меня создан... Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. О молодой человек, толкующий о добродетелях, Вас ужасает эгоизм моих принципов? Вы, кажется, даже брезгливо отстраняетесь от меня? Напрасно, не торопитесь — ваша добродетель, вернее, то, что вы почитаете за добродетель, — как раз и есть величайший эгоизм, а вот то, что вы полагаете эгоизмом, не что иное, как добродетель. И на чем, кроме вашего чувства, что вы поступаете добродетельно, строится ваша жизненная правота? А вот моя философия жизни имеет прочный теоретический, вполне разумный фундамент:
«Я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм», — и затем, не называя источник, цитирует: «...чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Люби самого себя — вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка...»
Нет, Валковский не пародирует Чернышевского, Достоевский относился к вождю «Современника» с глубоким уважением, он прекрасно понимал: циник, эгоист, буржуазный делец (Валковский — из разорившихся дворян, приобретший состояние наживой, не брезгающий никакими средствами) — как раз тот тип, против которого и направлялось острие социальной теории Чернышевского. Но в том-то и парадокс, в том-то и неприемлемость этой теории для Достоевского, что валковские разных мастей (а имя им действительно легион), исповедуя философию жизни, резко враждебную, прямо противопоставленную упованиям лагеря Чернышевского, вполне могут для теоретического обоснования своей философии найти основания в той же самой теории «разумного эгоизма».
Нет, тут было не пародирование и даже еще не полемика: это было пока предупреждение, предостережение если и не единомышленника, то, во всяком случае, человека, во многом сочувствующего общему направлению мысли Чернышевского.
Роман обретал неожиданные повороты, завязывались непредвиденные ранее интриги; появлялись новые герои; окончить его в три месяца, как недавно мечталось, теперь уже нечего было и думать. Тем более что отвлекали, как становилось теперь очевидно, и не менее важные дела.
В середине июня 1859-го решили наконец послать прошение в Санкт-Петербургский цензурный комитет о разрешении Михаилу Достоевскому издавать ежемесячный журнал «Время». А в начале июля прошение было удовлетворено, и, нужно сказать, им сразу же повезло: в цензоры «Времени» определили Ивана Александровича Гончарова. Федор Михайлович принялся за составление объявления о подписке на журнал. Он решил отказаться как от практики завлечения подписчиков громкими именами литераторов, которых предполагал пригласить, так и от любых рекламных трюков. Главное и, по существу, единственное, чем он надеялся привлечь читателей, — программа, уясняющая дух и направление нового журнала.
Основная идея, которую должно проповедовать, по замыслу Достоевского, «Время», — идея необходимости выработки в сознании общества новых начал государственного развития. Главный вопрос времени, писал Достоевский в программном объявлении о подписке на журнал, — это великий крестьянский вопрос, решение которого должно стать началом огромного мирного переворота, равносильного по своему значению всем важнейшим событиям нашей истории, в том числе и реформам Петра:
«Этот переворот есть слияние образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни». Осуществление этой насущнейшей задачи, считает Достоевский, должно начаться с решения практического вопроса о коренном улучшении крестьянского быта.
«Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни, — проповедует вслед за славянофилами и Герценом Достоевский. — Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных».
Раньше, до Сибири, он, по существу, и не читал славянофилов, зная и судя о них больше понаслышке, по пересказам, как правило, полемическим, относился к их учениям скептически. Теперь, взявшись для начала за статьи Алексея Степановича Хомякова, Ивана Васильевича Киреевского, он с удивлением и радостью обнаружил, что по многим, а для него центральным вопросам в учениях западников и славянофилов немало общего, и если отбросить у обоих направлений русской общественной мысли крайние, вызванные, как правило, условиями полемики суждения, то в новых условиях они могут быть не враждебными друг другу, но вполне готовыми к примиряющему плодотворному для будущего синтезу.
Так, например, немало общего нашел Достоевский у славянофилов с Белинским и Герценом в их спорах о значении реформ Петра. В памятной ему статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский, например, утверждал: «Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала межеумками? (Кстати, подобное утверждал и Герцен: «...целью переворота Петра I была денационализация московской Руси»). Нет, это означает совсем другое, а именно, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя».
Достоевский посчитал, что и в этом случае обе точки зрения необходимо объединить:
«Реформа Петра Великого нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом... Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность... Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм...
Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны... Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.
Но теперь разъединение оканчивается, петровская реформа... дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена... Мы знаем теперь... что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих начал... Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал...»
Развивая идею нового этапа общественного развития как развития самобытного, национального, основанного на общенародных духовных началах, Достоевский вместе с тем специально оговаривал, что он отнюдь не понимает ее как идею обособления, отрицания европейских форм жизни только потому, что они нерусские. Напротив, русская идея, которую он разрабатывает, по своей значимости была для него не узконациональной, но как раз мировой идеей:
«Мы предугадываем... что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности...»
Выдвигая идею примирения разных начал как идею синтеза всего наиболее плодотворного, способного к общему развитию, Достоевский подчеркнул, что при этом имеет в виду не только и даже не столько самих по себе славянофилов и западников — «к их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно», — сколько главное: «Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом...
Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, — вот наша передовая мысль, вот девиз наш».
Первый практический шаг на этом пути, считает он, — «распространение образования усиленное» и опять же «скорейшее и во что бы то ни стало...».
Перечитывая, редактируя программу «Времени», Достоевский видел: она выходит, собственно, не литературная, но общественно-политическая, идеологическая. И не случайно: литература, истинная литература, и есть для него выражение всей жизни, сила могучая, способная сотворить тот переворот, о котором он писал в «Объявлении».
Перейдя к вопросам сугубо литературным, Достоевский сказал несколько слов и о грошовом скептицизме, распространяющемся в журнально-писательских кругах, которым с успехом прикрывается всякая бездарность, о духе спекулятивности, который грозит превратить журнальное дело преимущественно в коммерческое, о том, что иные весьма посредственные литераторы обретают в наше время репутацию авторитетов, особенно если их мнения высказываются дерзко и нахально.
«Мы решились основать журнал вполне независимый от литературных авторитетов, несмотря на наше уважение к ним, — заключал Достоевский; — Мы не уклонимся и от полемики... Особенное внимание мы обратим на отдел критики.
...«Время» будет выходить каждый месяц, книгами от 25 до 30 листов большого формата...»
8 сентября «Объявление» с программой нового журнала появилось в газетах «Сын Отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Искра» и других. А уже в октябрьской книжке «Современник» дал первый отзыв за подписью одного из своих редакторов — Ивана Панаева:
«Объявление это вообще отличается большой смелостью. Что же? И прекрасно. «Смелость города берет», — говорит пословица; «смелым бог владеет», — говорит другая...»
Достоевский теперь весь в журнальных делах; шутка ли подготовить первый номер, от которого во многом зависит, быть может, судьба всего начинания. Да и программа обязывает. «Униженные и оскорбленные» надолго упрятаны в ящик стола, томятся там, неведомые миру. А между тем другие не дремлют: кипят споры вокруг недавно вышедшего романа Гончарова «Обломов», взахлеб читаются «Накануне» Тургенева и «Гроза» Островского.
В конце 60-го года в Москве вышел наконец и двухтомник Достоевского.
Для первых номеров своего журнала он подготовил начальные главы «Униженных и оскорбленных» и ряд статей о литературе. В январской книжке вышло «Введение» к ним, где писатель подверг сомнению плодотворность исключительно отрицательного изображения русской действительности: «мефистофельство», «эпоха демонических начал и самоуличений» уступают место более объективному, всестороннему охвату жизни. В числе новых явлений такого рода называется Островский («веруем в его новое слово!»), но знаменем, под которым должна развиваться не одна только литература, но русское общественное самосознание в целом, провоглашается Пушкин.
Для февральского номера закончил большую статью: «Г.-бов (под этим псевдонимом выступал Добролюбов) и вопрос об искусстве».
Достоевский с интересом следил за статьями молодого, но уже авторитетного, ведущего критика «Современника», несмотря на скептическое, а порою и враждебное отношение к нему своих новых друзей — Николая Николаевича Страхова и Аполлона Александровича Григорьева, с которым познакомился наконец и надеялся сдружиться. И Чернышевский и Добролюбов — люди, безусловно, литературно даровитые, возражал он, и с убеждениями. А убеждения, искренние, пусть даже и неприемлемые для него, Достоевский умеет ценить. К тому же многое у Добролюбова ему по-настоящему близко, взять хоть бы и такое его рассуждение: «...много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы... а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.?» Или: «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа...»
Такого рода убеждения, высказанные страстно, горячо, заставляли Достоевского думать, что со временем из молодого критика вполне может развиться могучий талант в духе Белинского. Однако отношение критика к чисто художественным явлениям не удовлетворяло Достоевского — ему все казалось, что Добролюбов в угоду своим идеям «нагибает» действительность в желательную для него сторону, идет в толковании произведений не от жизни, а от теорий. «В его таланте, — пишет Достоевский, — есть сила, происходящая от убеждения. Г.-бов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики, но идеи, которыми выражается это основное начало, часто... отличаются одним важным недостатком — кабинетностью».
«Кабинетность» Достоевский видел прежде всего в том, что Добролюбов, как ему казалось, требует от художественной литературы прямой, непосредственной пользы, — такое отношение Достоевский считал утилитарным, могущим подменить задачи и цели художественной литературы целями журналистики, публицистики...
Нет, Достоевский отнюдь не защищал идею искусства для искусства — она была неприемлема для него, как и утилитарный подход к искусству. Достоевский видел в литературе не просто средство для проведения в жизнь определенных идей, нет — он верил в художественное слово как в силу самостоятельную, духовно преобразующую природу человеческую, созидающую в сознании народа идеал красоты.
Разве такое убеждение уводит искусство от современных проблем, от задач текущей действительности? Нет, утверждает Достоевский, потому что, во-первых, истинное «искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать», а во-вторых, необходимость утверждения идеала красоты диктуется как вечными, так и текущими, в смысле самой что ни на есть реальной злобы дня задачами, ибо «если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа». А поэтому, утверждает Достоевский, нужно бороться не за то, чтобы искусство проводило такие-то идеи, но прежде всего за то, чтобы оно было подлинным искусством.
Упрекнул Достоевский Добролюбова и за недооценку Пушкина, которая сказалась в его статьях прошлого года.
14 февраля в «Санкт-Петербургских ведомостях» Достоевский прочитал заметку о благотворительном литературно-музыкальном вечере в пользу сиротских приютов в Перми, на котором статская советница Евгения Эдуардовна Толмачева читала импровизацию о Клеопатре из «Египетских ночей» Пушкина. А через несколько дней в еженедельнике «Век» появился фельетон «Русские диковинки» за подписью Камень-Виногоров, за которою, как вскоре выяснилось, скрылся исполнявший в это время обязанности редактора «Века» Петр Исаевич Вейнберг (Петр (греч.) — камень, Вейнберг (нем.) — виноградная гора). Фельетон высмеивал российские нравы, допускающие публичное выражение разнузданных страстей, а сама Толмачева представлялась здесь в качестве этакой провинциальной Клеопатры. Назревал скандал.
В самом начале марта «Санкт-Петербургские ведомости» поместили письмо поэта-демократа Михаила Михайлова с протестом против выходки «Века»: «...зная настоящие общественные условия и положение женщины, — писал он, — вряд ли порядочно выдавать женщину на посмеяние глупцам и невеждам». Вслед за письмом Михайлова в той же газете появился и протест Николая Шелгунова. Герцен передал письмо редактору «Века» Константину Кавелину: «...что ты возишься с Виногоровым? Брось его. Редакция завралась... Тебе что за радость, что и твое имя поминают рядом с Вейнбергом?»
В скандал вмешался «Русский вестник» Каткова, поставивший вопрос, что называется, ребром: это каких еще прав требуют господа эмансипаторы для женщин? Права на что угодно? На разврат? На публичное выставление последних выражений страсти? Не случайно для чтения госпожа Толмачева выбрала эпизод из незавершенного Пушкина, творчество которого и без того недостаточно глубоко: такие вещи, как «Египетские ночи», с их выставлением напоказ извращений человеческой природы, производят соблазнительное развращающее впечатление...
В спор с Катковым вступил Чернышевский. «Стремление женщины к эмансипации, — заявил он, — «Русский вестник» смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо. Это обскурантизм».
Не мог остаться в стороне и Достоевский. В мартовском выпуске «Времени» выходят сразу две его статьи: «Образцы чистосердечия», и «Свисток» и «Русский вестник», в которых Достоевский вступился за «Современник», и сатирическое к нему приложение «Свисток», начав тем самым долгий спор с Катковым.
«Могучий московский незнакомец», как публично рекомендовал своего редактора сам «Русский вестник», Михаил Никифорович Катков все более обретал значение публициста, с которым уже невозможно было не считаться ни одной из литературно-идеологических партий, ни правительственным кругам. Разночинец по происхождению, честолюбивый и способный юноша, Катков с детских лет узнал, что такое глубоко уязвленное самолюбие. Отец был мелким чиновником, рано умер, оставив жену с двумя детьми на грани нищеты, так что Варваре Евдокимовне, урожденной Тулаевой — дальней родственнице знатных князей Мещерских, Голохвостовых, Хованских, пришлось даже пойти на службу — и какую! — тюремной надзирательницей... Учился Катков из милости в сиротском училище, но более всех был обязан самому себе — денно и нощно добываемому трудом самообразованию.
Окончив словесное отделение Московского университета, в числе лучших его выпускников отправился в Берлин изучать немецкую философию, где и увлекся системами Гегеля и Шеллинга; лекции последнего произвели на него особое впечатление, и вскоре Михаил Никифорович стал одним из любимых его учеников. «Кто любит попа, а кто и попадью», — говорит русская пословица. Михаил Никифорович был влюблен в своего учителя, но еще более в его дочь. Однако в Россию он вернулся один, но зато обогатился учением Шеллинга и Гегеля, с которыми ознакомил прежде всего Белинского и членов его кружка. Белинский, в свою очередь, помог Каткову, в котором видел «великую надежду науки и русской литературы», поскорее войти в журналистику. Через несколько лет, однако, хотя Катков все еще и оставался идейно близок Станкевичу, Бакунину, Константину Аксакову и Белинскому, друзья начали посматривать на него более скептически, а Белинский однажды и прямо изрек: «Не нашего круга».
Между тем Михаил Никифорович испытывал свои возможности то на поприще профессора философии, то редактора газеты, пока не взял на себя руководство «Русским вестником», который перешел в его руки в 1858 году. Вот уж кто умел работать, не щадя себя, даже и ночью, до хронических бессонниц, радуясь, когда удавалось ненадолго уснуть. Обедал от случая к случаю; нередко суп, который подавали ему, чтобы не терять времени, прямо к рабочему столу, так и простаивал нетронутый, с обеда до ужина, а то и до утра.
Катков быстро приобрел репутацию виднейшего либерала: одним из первых он начал широкое общественное обсуждение проблемы крепостного права, выдвинул требование освобождения крестьян с землей, чем обозлил «партию плантаторов» — могущественных представителей высшей бюрократии; постоянно настаивал на ослаблении цензуры, на отмене полицейского режима в области общественно-журнальной деятельности; требовал отказа от практики телесных наказаний. Именно его журнал опубликовал «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, к нему, а не к кому другому, ушел Тургенев после разрыва с «Современником». Правда, Катков и прежде пропагандировал постепенность, под которой он разумел не столько темпы преобразований, сколько их естественность, в противовес ломке устоявшихся форм жизни, и, конечно же, все реформы представлял себе исключительно как преобразования «сверху». Однако после поездки в Англию Катков становится вдруг убежденным англоманом, начинает пропагандировать введение в стране общественных и государственных форм по типу английских; будущее России представляется ему теперь в зависимости от того, насколько она сумеет пойти по западному, капиталистическому пути, ибо, где она, эта русская наука, искусство, где сама русская мысль?
Такого рода «таймствования», как окрестил новые идеи Каткова Достоевский, и связанное с ними постоянное пренебрежение руководителя «Русского вестника» к русской литературе и прежде всего к Пушкину делали столкновение «Времени» с катковским журналом неизбежным. К майскому номеру Достоевский готовил ответ «Русскому вестнику». Работать приходилось чуть не круглосуточно: «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома» (наконец-то вопрос об их публикации утрясен с цензурой, и с апреля они начали выходить во «Времени»). К каждому выпуску журнала по статье, а то и по две; но ведь еще и переговоры с авторами, редакторская работа. Подумать о себе некогда, а больше и некому. Припадки участились, но отдых пока не предвиделся.
Вступая в борьбу еще и с Катковым, Федор Михайлович прекрасно понимал — легко не будет, да и помощи, по существу, ждать неоткуда. Но и молчать не мог. Толмачеву он, конечно, не знал; как там она читала Пушкина, с каким «темпераментом» и поблескиванием «черных очей», судить мог только по публикациям. Но дело было и не в ней самой: дети и женщины — так он чувствовал — извечные униженные и оскорбленные, и кто же, как не русский писатель, обязан сказать свое слово в их защиту? Его совершенно не устраивала та эмансипация, которую все определеннее практиковала молодежь, да и не одна она: распад семей, фиктивные браки, свободное сожительство, порою целыми коммунами, — такого рода болезненные и даже уродливые формы решения вопроса о женском равноправии возмущали его; к тому же все это только давало оружие тем, кто вовсе не хотел бы слышать слов о свободе и равноправии... И вот либерал Катков в одном из ведущих русских журналов и Пушкина сумел истолковать в «клубничном смысле»...
«...«Русский вестник» называет нас эмансипаторами и всенародно стыдит этим названием... Да, послушайте, вы в самом деле нас морочите? — писал он, будто видя перед собой живого, а не «журнального» Каткова. — Да мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии; именно о том, чтоб чувство долга свободно вкоренилось в душу как мужчины, так и женщины... «Да ведь это вовсе не эмансипация!» — скажет нам «Русский вестник». — «Да понимайте ее как хотите, — отвечаем мы, — только мы сами-то понимаем ее именно так...»
...Но позвольте же наконец спросить, что же вы называете эмансипацией? В этих спорах надо сначала уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом понимать друг друга. Если под эмансипацией вы разумеете право всякой женщины ставить своему мужу рога, то, разумеется, вы правы в вашей ненависти к эмансипации. Но мы никогда не разумели так эмансипацию. Пусть разумеют ее другие как хотят, но для нас вся эмансипация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу — любви, которой имеет право требовать себе и женщина, требовать к себе уважения и... нравственного равенства прав с мужчиною...»
Здесь же Достоевский нашел возможность вступиться и за Белинского: «Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь — розгой эпиграммы, разумеется...» И за честь Чернышевского вступился, правда, оговорив при этом свое несогласие со многими взглядами одного из вождей «Современника»: «И ведь престранная судьба г. Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал, что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г. Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «Полемических красот». Господи! Подымается скрежет зубовный, раздается элегический вой. «Отечественные записки» поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом единственно о г. Чернышевском. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале? То же и в «Русском вестнике». Там тоже было вроде маленького землетрясения...» Но главная причина спора с Катковым — все-таки в Пушкине. Потому что Пушкин — это даже не Белинский. «Пушкин — наше все», — и лучше, пожалуй, не скажешь. Да, Аполлон Александрович умеет сказать точное слово.
Аполлон Григорьев — одна из самых ярких личностей, с которыми когда-либо сводила Достоевского судьба, и, может быть, единственный после Белинского человек, равный «неистовому Виссариону» по мощи ума, богатству идей и страстности натуры. Встречи с ним давали и самому Федору Михайловичу глубокое ощущение их равноправности: он брал от Григорьева не меньше того, чем делился с ним сам. Конечно, на дружбу, в ее задушевно-человеческих проявлениях, рассчитывать не приходилось: оба ершисто-неуживчивые, непреклонные в суждениях, глубоко самобытные натуры, — скорее приходилось удивляться тому, что они вообще сумели хоть как-то притереться друг к другу. Правда, и встретились они далеко не в лучшую пору жизни Аполлона Александровича, и без того никогда не баловавшей его своей благосклонностью.
Аполлон Григорьев, как и Достоевский, был, по собственным словам, уроженцем «громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою». Москву любил с нежностью, ей был обязан тем чувством человеческой вкорененности в историческую жизнь своего народа, о котором признался однажды так: «Ничего не боялся я столько... как жить в городе без истории, преданий и памятников». Дед — таким он его запомнил — походил на аксаковского старика Багрова; как и отец Достоевского, трудами и службой сделался к концу жизни «помещиком», в Москву же пришел в нагольном полушубке из северо-восточных мест. Отец так и засел в мелких служащих; поэтому Аполлону Александровичу приходилось рассчитывать всегда только на себя. Окончив юридический факультет Московского университета, некоторое время учительствовал, с середины 40-х годов приобрел известность и как критик. Человек увлекающийся, характер страстный, он искал себя и в утопическом социализме, Фурье, и в шеллингианстве, и в масонстве, и в религии, но ни на чем не остановился, не нашел пристани душе, пока не осел в 50-м году в «Москвитянине», где вскоре обрел славу ведущего критика и развернул знамя литературной борьбы за народность и национальное возрождение искусства, утверждал культ Пушкина и Островского. «Натуральную» школу не жаловал за ее, в чем он был убежден, проповедь фатальной зависимости человека от социальной среды — сам он исповедовал идею свободы воли, полагая при всех своих сомнениях и противоречиях, что эту идею можно найти только в православии, единственной, по его словам, религии братства и подлинного демократизма. Вместе с тем в своем неприятии официальной церкви доходил до прямой ненависти. Ум парадоксальный, он и славянофилом-то был скорее по названию, да еще потому, что с западниками у него было еще меньше точек соприкосновения. Обе партии — вкупе с ними и приверженцев чистого искусства и позднее революционных демократов — он относил к категории «теоретиков», так как все они, утверждал он, идут не от живой жизни, а от тех или иных, исповедуемых ими теорий. В отличие от «теоретиков» «догматики» вообще никуда не идут и другим не позволяют, предпочитая топтаться на месте. Тех, кто не проповедует, но предписывает обществу, как и зачем жить, он называл «доктринерами». Типичным «доктринером», по Аполлону Григорьеву, стал, например, в 60-годы Катков. И наконец, все они — и «теоретики», и «догматики», и «доктринеры» — были чужды ему по самой природе его творческой натуры, поскольку все они исходили в своих суждениях о жизни от определенной системы взглядов. Аполлону Александровичу же претила любая система независимо от того, хороша она сама по себе или дурна, реакционна или революционна; жизнь сложна, противоречива, постоянно в живом движении, полна подспудных течений, едва уловимых веяний, грозящих либо мертвой зыбью, либо всемирным потопом, вселенской бурей — общественно-политическими, конечно, и эту-то вечно движущуюся в противоречиях противоборствующих стихий, мучающуюся и страдающую в отмирании и нарождении жизнь хотят втиснуть в ту или другую — не все ли равно? — систему или теорию...
— Нет, жизнь дело страшное и таинственное, — говаривал он не раз. — Никакой философии жизнь в ее таинственности не по плечу. Только искусство, литература, слово способны если не объять ее, то дотронуться до ее пульса, определить состояние жизни мира и человечества, в веяниях времени уловить веление вечности. Оттого-то и нужно уметь слушать истинных поэтов, что они — только голоса народных масс, выразители еще не сказанного, еще только зреющего слова; глашатаи великих истин и великих тайн жизни...
Пожалуй, как никому другому, дано было ему чувствовать и понимать жизнь как творчество, как борьбу стихий, как вечно длящееся творение.
Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурею, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя бездонная пропасть.
Сущность наша, личность на время позабывается: действуют только силы страшные, дикие, необузданные. Каждая хочет сделаться центром души и, пожалуй, могла бы если бы не было другой, третьей, многих равно просящих работы. Способность сил доходить до крайних пределов порождает состояние страшной борьбы, писал он. О чем? О стихиях общественно-исторических, вселенских? Или стихиях души, вмещающих и то и это?
...И о себе самом...