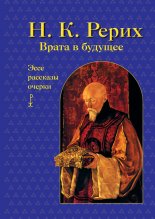Достоевский Шкловский Виктор

Он и критику свою окрестил «органической», то есть естественной, чуждой теоретизированию, схематизации, предписыванию. Спорить с ним было нелегко, а по существу, и невозможно и бессмысленно. Страхов рассказывал, как однажды после очередного спора он сказал Аполлону Александровичу: «Ты знаешь, что я не согласен с тобой в этом случае, но ты, однако же, может быть, более прав». — «Прав я или не прав, — перебил он меня, — этого я не знаю; я — веяние».
Однако веяние, которым он был, далеко не всегда приходилось по вкусу даже и его единомышленникам. «Молодая редакция» «Москвитянина», где вместе с Григорьевым сотрудничали Островский, Писемский, Григорович, Тютчев, Фет, Полонский, Срезневский, Гильфердинг, Забелин, Буслаев, Снегирев, вскоре рассорилась с его официальным редактором Погодиным и постепенно распалась.
Аполлон Григорьев вновь оказался без дела, но с жгучей жаждой дела. Писать некуда — везде он чужой. Пытается сотрудничать то с «Русской беседой», то «Русским словом», ищет пути в «Современник», однако с категорическим условием: я или Чернышевский; нигде долго не уживается. Пришлось пойти к Каткову, но и в «Русском вестнике» статьи своего нового сотрудника печатать не собирались, а все больше заставляли делать «какие-то недоступные для меня, — писал он сам, — выписки о воскресных школах». Ушел.
Неустроенность, нужда, доходящая до нищеты, до крайности, заставляющей чуть не постоянно жить в долг, одалживать под проценты, грозящие долговой ямой, несчастная, незаживающая, саднящая душу единственная и неразделенная любовь толкали аскетического по натуре, но порывистого, как стихия, Григорьева пить по девяти дней кряду, чтобы уж совсем — в грязь, чтобы и памяти об ином не оставалось.
Трудно (а многим казалось — беспутно) жилось этому вечно бесприютному страннику с русскою душой. Аполлон Григорьев любил эти лермонтовские строки и вообще любил Лермонтова, справедливо оспаривая мнения славянофилов, будто корневому русскому народу по природе его чужд дух бунтарства. За бунтарство ценил он и Герцена, хотя в настоящий момент, трагический момент, Россия нуждается, убеждал он, не в Степанах Разиных, а в Мининых...
И сам был великим бунтарем, а уж у него ли не русская душа? Страстная, тоскующая по идеалу, широкая, вечно стремящаяся за очерченные пределы, словно там-то, за пределом, и вся разгадка душе: только нет для нее и предела, и вся вселенная представляется ей порою чем-то тесным и ограниченным, где и не развернуться ей во всю свою ширь. Но наступит вдруг такая минута — стол с кипящим самоваром в маленькой комнате, да несколько добрых друзей вокруг, да долгая песня под перебор гитары — и почувствует себя дома, словно весь вселенский круг сосредоточился и вместил свою беспредельность в дружескую встречу, и ничего больше не надо. И хорошо вдруг душе.
Достоевский знал Григорьева и как поэта. Слышал, и поет он прекрасно. Когда-то превосходно играл на рояле. Руки у него тяжелые и одновременно тонкие, почти женственные, — казалось, даже и в этом он одно сплошное противоречие. Но, увлекшись цыганами, променял рояль на гитару и, садясь за нескончаемый самовар, пел «цыганские» романсы и песни, даря своим слушателям подлинно дивные минуты.
«Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю... любимою его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:
- Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
- С голубыми ты глазами, моя душечка! —
...сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:
- Под горой-то ольха,
- На горе-то вишня,
- Любил барин цыганочку, —
- Она замуж вышла...» —
вспоминал Афанасий Афанасьевич Фет.
Давняя любовь не забывалась, томила безысходностью.
Узнав о его бедственном состоянии, Милюков, ставший только что редактором «Светоча», тут же поехал разыскивать Григорьева, чтобы пригласить его сотрудничать:
«Он жил в небольшой квартире, недалеко от Знаменской церкви. Я застал у него несколько человек и в том числе... Фета. Гости пили чай, а хозяин в красной шелковой рубашке русского покроя, с гитарой в руках пел русские песни. Голос у Аполлона Александровича был гибкий и красивый, и ему придавали особую красоту... задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре он играл мастерски».
На предложение он согласился, но и тут сотрудничество продолжалось недолго.
— Человек я действительно ненужный в настоящее время, мне нет места для деятельности, потому что дух времени слишком враждебен к людям такого рода, как я, — делился он с Николаем Николаевичем Страховым, влюбленным в него, — они только что познакомились в редакции «Светоча».
Упорное нежелание пожертвовать хотя бы «сотой долей того, что он купил жизнью мысли», отчаянные попытки «сохранить в целости те убеждения, литературные и общественные», которыми он принадлежал «гораздо более к пушкинской, чем к современной эпохе», — все это вело его от журнала к журналу, он нищенствовал, но, «храня как святыню свои убеждения», не желал оградить себя от голодной смерти хотя бы какими-то уступками чуждым ему мнениям и понятиям.
И тогда он предпринимает последнюю попытку — просит разрешить ему возобновить «Москвитянин». Десятки никому не известных людей получали подобные разрешения — на то и либеральные веяния! — Аполлону Григорьеву отказали. Написал умоляющее, отчаянное письмо Владимиру Федоровичу Одоевскому, просил помочь ему определиться хоть на какую-нибудь службу, иначе остается одно — запить мертвую. Владимир Федорович встретился с ним и 18 февраля 60-го года записал в дневник: «Я Григорьеву говорил откровенно, что удивляюсь, как он, человек даровитый, дошел до такой нищеты, намекнув о заблуждениях молодости...» Каких? Их было у него всегда немало: увлечение социализмом? Но сколько прежних поклонников Фурье нынче занимают весьма солидные государственные посты; славянофильство? Понятно, космополитическая российская высшая бюрократия никогда не могла разделять славянофильских убеждений, ибо они слишком ненадежно увязывались с ее доктриной официального патриотизма, но какой же он теперь славянофил? Да и другим-то не так уж поминают их грехи — вон и Иван Аксаков возглавил газету «День». Масонство? Но им он увлекся ненадолго по молодости, да и то из чисто русского любопытства ко всему таинственному и полузапретному. Но и с «братьями-каменщиками» давно покончено, хотя он мог бы назвать немало имен тех, кто и сейчас, управляя страной, руководствуется велениями этого международного «братства строителей храма Соломона». А может, именно потому, что покончено?..
Как бы то ни было, это конец. Идти больше не к кому и некуда...
Тогда-то они и встретились.
Владимир Федорович Одоевский, узнав о предполагавшемся с нового, 61-го года журнале Достоевских, отписал Михаилу Михайловичу с просьбой помочь Григорьеву. Тот, зная отношение брата к Аполлону Александровичу, переговорил с ним, и Федор Михайлович с радостью принял известие о возможности работать вместе с таким человеком.
И вот — оба любители нескончаемого чаю — уже присматриваются, приноравливаются друг к другу. Среднего роста, плотный, тяжеловатый, Аполлон Григорьев, с неизменной палкой в руке, походил на опального боярина старых времен или уж, на худой конец, на умного, но разорившегося купца. Светло-русый, с сединой — хоть и на год моложе Достоевского, — внимательно вглядывался в него своими проникающими глубоко, будто читающими книгу души, прекрасными острыми глазами. Хорош, весь хорош; нос орлиный, а борода! Пожалуй, стоит и себе бороду отпустить, а то лицо какое-то круглое, даже глупое сделалось после Сибири-то, а в усах, говорят, как был унтер-офицер, так и остался. Негоже писателю...
Да, у них много общего и в натурах, и в судьбах, и в отношении к действительности, литературе, в понимании народности и современных задач. Наконец, у них есть Пушкин: для обоих — пророчество и указание. Достоевский, правда, с сомнением относился к культу Островского — прекрасный писатель, но тянет ли в «пророки»? Да и запивает, говорят, нередко?
— Бывает, — ухмылялся Григорьев. — Но слышали бы вы, какие пророческие речи лились, бывало, даже из хмельных уст Островского.
Решили и драматурга привлечь в журнал. И Тургенева, «Дворянским гнездом» которого оба равно восторгались, как и «Губернскими очерками» Салтыкова.
Давно уже не работалось так Аполлону Григорьеву. С февраля по май 61-го года «Время» опубликовало десять его статей. Конечно, полного единодушия не было; Григорьеву не по душе пришлась явная тяга братьев Достоевских к «Современнику». Спорили, даже ругались. Мягкий, деликатный Страхов пытался занять примирительную позицию, хотя в вопросе о «Современнике» поддерживал Григорьева. В спорах прежде всего этих четырех и рождалось то не столько направление, сколько, пользуясь словом Григорьева, веяние, которое вскоре получило широкую известность под именем почвенничества.
Собственно, никакой особой статьи, которую можно было бы назвать программой, манифестом нового явления, они не подготовили. Но на страницах «Времени» постоянную прописку получили понятия «почва», «вернуться на родную почву», «почвенная сила», «беспочвенный» и т. д. как понятия центральные, определяющие основание новой общественно-политической идеи журнала.
Многие восприняли эту идею как лишь слегка перекрашенную в туманное понятие старую славянофильскую мысль; другие решили, что почва — это лишь новый «экзотический» синоним привычного понятия народ; третьи и вовсе предпочитали говорить о неопределенности, расплывчатости идеи, которую «почвенники» выдвинули, да еще и в качестве какого-то нового слова...
Действительно, назвать почвенничество мыслью совершенно новой нельзя, но и сами вожди «Времени» не смотрели на свое детище таким образом; скорее уж они видели в выдвинутой ими идее истинно русскую мысль именно потому, что она, как им представлялось, собирала воедино, синтезировала все наиболее плодотворное, что было выработано различными, даже и враждебными направлениями внутри русского национального самосознания.
И само понятие почвы в общественно-историческом смысле этого слова не представлялось столь уж экзотическим и неопределенным: оно давно уже употреблялось и у славянофилов («Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни», — писал, например, еще в 47-м году Константин Аксаков), и у революционных демократов — Белинского, Герцена, Добролюбова, и употреблялось действительно прежде всего как синоним народа, вернее — народных начал жизни.
Сохранив это значение, понятие «почва» обрело во «Времени» и новое качество: «почва» — это тот духовно-нравственный пласт общественно-политической жизни, на основе которого только и возможна встреча и органическое соединение интеллигенции и народа, образованности и народной нравственности; культуры и народности.
В отличие от славянофилов «почвенники» отнюдь не считали необходимым для России вернуться к нравственным и духовным основам, нарушенным петровскими реформами, не настаивали и на полном отрицании какого бы то ни было положительного восприятия общественно-исторического опыта Европы. Напротив, они предлагали исходить из реальной современной действительности, из тех форм жизни, которые сложились в результате преобразований Петра, именно с учетом европейского опыта развития. Они отрицали лишь возможность перенесения этого опыта, выработанного опять же на почве, но иной, западной культуры, на русскую почву, ибо считали, что любая идея, претендующая на жизнеспособность и плодотворность существования, должна быть не пересаживаемой, но естественно вырастающей из родной почвы. Но в России, утверждали авторы «Времени», такая почва есть, есть и высокие образцы, рожденные этой почвой: явление Пушкина — показатель ее жизнеспособности, прямое проявление соединения начал мировой культуры и русской народности.
Отрицая жизнеспособность в смысле будущего развития в чистом виде как славянофильских, так и западнических теорий, «Время» не отрицало того, что «славянофилы и западники, по словам Достоевского, — тоже явление историческое и в высшей степени народное». А потому журнал и ратовал за собрание всего созидательного в идеях обеих враждующих партий, видя в них полюсы, но все же — единого развития русского национального самосознания. «Часть истины, — доказывает Достоевский, — есть в том и другом взгляде. И без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?»
Идеи почвы вызревали и вырабатывались в самый разгар крестьянской реформы. Манифест об освобождении крестьян из-под крепостной зависимости, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года, официально опубликован наконец 5 марта в газетах и оглашен в церквах. Сам этот факт, что и говорить, отраден, однако сущность проведенной реформы никого, кроме официозных деятелей, готовых восхвалять любые правительственные меры, вне зависимости от их направленности, только за то одно, что они правительственные, не удовлетворила и не могла удовлетворить.
Рассказывали, что Некрасов, ждавший манифест с затаенной надеждой, настолько опечалился, прочитав его, что даже занемог. Чернышевский успокаивал его: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это».
Лидер современного славянофильства Иван Сергеевич Аксаков заявил, что «Положение» не может устроить крестьян уже и потому, что «это дурацкое положение на первой странице объявляет, что земля составляет неотъемлемую собственность помещика».
Герценовский «Колокол» опубликовал серию статей, определивших суть реформы так: «Народ царем обманут».
Даже министр внутренних дел Петр Александрович Валуев, принадлежавший по своему происхождению к старинному дворянскому роду, ведущему начало еще от боярина Вола (один из Валуевых, сподвижник Дмитрия Донского, погиб в Куликовской битве), записал в своем дневнике:
«Новая эра. Сегодня объявлен Манифест об отмене крепостного состояния. Он не произвел сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Воображение слышавших и читавших преимущественно останавливалось на двухгодичном сроке, определенном для окончательного введения в действие уставных грамот и окончательного освобождения дворовых. «Так еще два года!»... слышалось большей частью и в церквах, и на улицах. Из Москвы тамошнее начальство телеграфировало, что все обошлось спокойно «благодаря принятым мерам».
При появлении на улице императора «народ приветствовал его криком «ура!», но без особого энтузиазма. В театрах пели «Боже, царя храни!», но также без надлежащего подъема. Вечером никто не подумал об иллюминации...»
Другой отпрыск знатного рода, человек, лично близкий императору, князь Мещерский, отмечает в дневнике поразительное явление: мало того, что крестьяне освобождаются только лично, без земли, которую им еще предстоит выкупать у помещиков, правительство одновременно провело и питейную реформу, цель которой предусматривала удешевление водки и значительное расширение сети кабаков. Тем самым освобожденный от крепостной зависимости и от земли крестьянин получал сразу же и, так сказать, направление приложения своей свободы. А в море водки, как известно, и богатыри тонут...
Узнав, что земли они не получат, крестьяне заволновались: и твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нет... Официальный отчет III отделения отметил за 1861 год 1176 крестьянских бунтов, наиболее крупные из которых произошли в Пензенской и Тамбовской губерниях и особенно в селах Кандеевка и Бездна Казанской губернии.
Реформа, предпринятая в целях умиротворения всех слоев общества, по существу, привела из-за своей половинчатости, не устроившей никого, к обострению противоречий, к усилению недовольства существующим положением как раз во всех слоях общества.
Но иной она и действительно не могла быть. Реформа эта готовилась давно, еще со времен императора Александpa I. Издавались даже разного рода рескрипты и постановления, долженствующие хоть как-то облегчить решение важнейшей для России проблемы, однако даже и эти робкие полумеры практически оставались только на бумаге, в безднах которой захлебывались, тонули и не доплывали до намеченного берега. Так, еще в 1803 году был издан закон о вольных хлебопашцах, по которому землевладельцы имели право отпускать за выкуп крестьян вместе с землей.
Николай I, также не оставлявший мысли о неминуемой реформе, встретился, однако, с существенными препятствиями на пути ее осуществления. И дело было не только в том, что, опасаясь как крестьянской пугачевщины, так памятуя о 25-м годе, и в не меньшей мере дворянской фронды, царь должен был бы разрешить неразрешаемую задачу таким образом, чтоб и волки были сыты, и овцы целы. Дело еще и в другом: для того чтобы провести хоть какую-нибудь реформу, необходимо сначала как-то преобразовать бюрократический аппарат государства.
В начале царствования, писал позднее современник Достоевского, известный историк В. О. Ключевский, «император пришел в ужас, узнав, что только по ведомству юстиции» накопилось 3 миллиона 300 тысяч нерешенных дел, «которые изложены... на 33 миллионах писаных листов». Чтобы как-то решить только одно из них — нашумевшее дело о некоем откупщике, изложенное на нескольких десятках тысяч листов, было величайше приказано отобрать самые существенные из этих бумаг и препроводить для окончательного решения из Москвы в Петербург. «Наняли несколько десятков подвод, погрузили дело, отправили, и оно все, до последнего листка, пропало без вести... несмотря на строжайший приказ Сената: пропали листы, подводы и извозчики».
В 42-м году Николай I издал указ, гласящий о том, что личность крестьянина не есть частная собственность помещика, а в 47-м постановление, разрешающее крестьянам имений выкупаться с землей на волю. Однако даже и имевшие на то достаточное состояние крестьяне не могли воспользоваться своим правом именно по закону: когда крестьянам отказывали дать волю и они обращались в соответствующие инстанции за разъяснением, чиновники открывали пухлые тома Свода Законов Российской империи, разыскивали известный им наизусть закон и... не находили его. «Он не был отменен, — пишет В. О. Ключевский, — он пропал без вести, как известное дело об откупщике».
Создавалось прелюбопытное положение — даже самодержавие императора оказывалось призрачным перед истинным самодержавием российской высшей бюрократии. «Высшая власть, — продолжает Ключевский, — никогда не отменяла закона: бюрократия, устроенная для установления строгого порядка во всем, представляла собой единственное в мире правительство, которое крадет у народа законы, изданные высшей властью», но что особенно важно — «в нашей внутренней истории XIX века нет ничего любопытнее применения законов о крепостных и крестьянах... ничто так не наводит на размышление о свойстве государственного порядка...»
И проведение в жизнь реформы 61-го года встретило упорнейшее сопротивление высшей бюрократии. Положение об отмене крепостного состояния в конце концов и обрело такие формы, которые вызвали возмущение как крестьян, так и самих помещиков: очевидно, задача бюрократической реформы, в то время мало еще кем понятая, состояла в удовлетворении потребностей совершенно иной силы, властно заявившей о себе в Европе, а теперь и в России. Сила эта звалась мировым капиталом, с его подлинной властью, учреждаемой международным банком20, — единственным хозяином положения, вполне готовым к тому, чтобы воспользоваться результатами реформы, чтобы теперь наконец вполне обнаружить свою подлинную власть. Так, например, в ходе подготовки Положения оказалось, что если бы даже среди борющихся группировок победили сторонники освобождения крестьян с землей, то в таком виде реформа все равно неминуемо разорила бы крестьян и тут же превратила бы их в рабов капитала: дело в том, что, как выяснилось, большинство помещичьих земель, которые по некоторым проектам должны были отойти крестьянам, давно уже были заложены и перезаложены под огромные проценты, так что фактически принадлежали отечественной, а по большей части и международной банковской олигархии. Издать закон о переходе земель в частную собственность крестьян — значило оформить право на эти земли международного банка и юридически. Но и выкуп крестьянами тех же земель становился лишь более завуалированной формой все той же выплаты процентов — только через посредство государства — и тем самым скрытой формой нового закрепощения теперь уже не русским помещиком, но в конечном счете мировым капиталом21.
Парадоксальная, даже фантастическая действительность нарождающейся новой эпохи в корне ломала привычные представления о сложившейся веками, плохой ли, хорошей ли, но определенной иерархии ценностей, зависимости причин и следствий, о добре и зле, нравственном и безнравственном и о самой реальности и фантастичности происходящего.
В самом деле, если бы русскому мужику каким-либо образом можно было объяснить, что деньги, которые не одному еще поколению придется добывать, потом и кровью поливая землицу, чтобы выкупить ее, наконец, что эти деньги только частью осядут в государевой казне, а большей долей, обмененные на чистое золото, отправятся в какие-то банки, должно быть железные, а может, и тоже золотые, но уж точно — огромные и все больше аглицкие да французские; если б можно было растолковать ему, что из тех медных копеечек, которые несет он в «царев кабак», постепенно складываются золотые миллионы, идущие в конце концов все в те же — бездонные они, что ли? — банки и что, чем водка дешевле, тем быстрее набегают эти миллионы, поскольку копеечку не жалко отдать в «государеву казну», да еще не за так, а за рюмку, да и отчитываться теперь ему не перед кем, никто теперь даже выпороть, коли пьян, не посмеет, ибо он теперь свободен и сам себе хозяин!..
Рассказывали, будто при обсуждении вопроса об отмене телесных наказаний кто-то из либеральных министров выразился озабоченно: «Господа! Конечно, теперь, после Высочайшего Положения об отмене крепостного состояния пороть мужика не гуманно, но... Но, господа, с другой стороны, что мы можем предложить ему взамен?..» Ну не фантастично ли? А ведь это все действительность, самая что ни на есть реальная, даже обыденная действительность...
Да, так вот если бы порассказать да порастолковать все это мужику, он бы, пожалуй, долго чесал затылок в задумчивости, сумневался бы и... ни за что не поверил бы: как-то уже очень оно все срамно и не по-христиански получается, чтобы быть правдой. И вот в этом-то народном неверии в окончательное торжество зла и заключались для Достоевского истоки его веры в народ, в его идеал правды. Нет, нет, он не разделял дон-кихотского, как он его называл, и кабинетного убеждения славянофилов в чистой, незамутненной и неискушенной жизни народа, — он слишком хорошо и слишком близко видел реальных представителей народной среды, слишком хорошо понимал, какие соблазны ждут еще впереди народ, знал: многим и многим не уйти, не избежать искушения буржуазностью. Но народ не просто арифметическая сумма составляющих его единиц, народ для него и понятие духовное, это то живое, человеческое средоточие, в котором зреет, хранится и приумножается идеал добра, правды, красоты. Да и в этом смысле народ — это прежде всего крестьяне, ремесленники, работники. Но народ — это и люди, которым дано выразить общие идеалы. Народ — это и Пушкин... Может быть, и Гоголь, Белинский, Островский... И дело в конечном счете не в том, каков процент носителей и выразителей общенародных идеалов, а в сохранении самих этих идеалов — в том-то и основная задача, в том-то и назначение литературы, полагал Достоевский, и потому, сколь бы ни был повальным зуд грядущего капиталистического разврата, которого не избежать — он был в этом убежден — и народу, но пока будет в нем жив идеал, он останется духовно нерушимым, способным преодолеть любые соблазны, искушения, кризисы и болезни.
В подобных размышлениях продвигались к завершению «Записки из мертвого дома». Да и «Униженные и оскорбленные» мало-помалу обретали завершающие очертания.
Но ощущение фантастичности происходящего не покидало его. Мужик и впрямь не поверил бы... А вот каково человеку образованному, искушенному мыслью, не просто услышать, но увидеть воочию такую быль, какой и во сне не привидится. Ну можно ли поверить, чтоб покойный самодержец российский, от одного имени котоpoго трепетала Европа, стал бы унизительно шаркать ножкой перед каким-то иностранным бароном? Еще дед этого барона копил первые золотые, торгуя живым товаром, а попросту говоря — занимаясь поставкой несчастных женщин в публичные дома, но уже внук его — «мосье Джеймс де Ротшильд» — однажды продиктовал свои условия императору Николаю Романову, и тот, устрашенный, «платил, по величайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению...». Эту фантастическую быль описал Герцен в «Былом и думах»; говорят, Александр II не преминул ознакомиться с сочинением крамольного автора — что ж, небесполезно, небесполезно...
Миллион — вот истинно бог всемогущий нашей эпохи. У кого миллион — тот и император, тот и самодержец, ибо все продается и все покупается... Взять хоть бы нашумевшую историю с Волгой — ну удивила, позабавила даже, и все. Мир не перевернулся, никто, кому следовало, не пошевелился, даже чтоб упредить возможность подобного. Зачем? Случай, да, фантастический, исключительный, тут и хлопотать не о чем. А Волга на всем своем протяжении, со всеми своими истоками и притоками чуть было не перешла навечно в частную собственность некоего Эпштейна. И, главное, сделка эта уже была оформлена по всем ведомствам, но вот в министерстве финансов какой-то упрямый Акакий Акакиевич заметил в одной из многочисленных бумаг не к месту выскочившую запятую, ну шум пошел, дело получило огласку.
Но если б не настоятельное ходатайство влиятельного Рейтерна Михаила Христофоровича, которого прочат в министры финансов, неизвестно еще, чем бы все закончилось... И как дело-то обнаружилось, думаете, что ж — в кандалы подлеца, в Сибирь? Ничего подобного — извинились превежливо за несостоявшуюся сделку, ибо банкир, миллионщик — почет и уважение; на его миллионах и государства, мол, держатся, хотя кто-то из французов еще в XVIII веке верно заметил, что банкиры поддерживают государство, как веревка поддерживает повешенного...
Тихо в кабинете Федора Михайловича. Только перо поскрипывает да слышно, как за дверью Мария Дмитриевна бранит «одного литератора», возомнившего себя Гоголем. Как-то не выдержал, сказал, что Гоголь, если б его так постоянно бранили, не то что «Мертвые души», вряд ли бы вообще что-нибудь написал, на что Мария Дмитриевна, хмыкнув, заметила: «Но ты-то ведь не Гоголь!» После чего он предпочитал помалкивать.
То и дело о деньгах:
— Пашу вон одеть не во что, а он уже не ребенок — ему прилично одеваться подобает...
Должно быть, опять кризис у жены обострился; чахотка вконец растравляет нервы несчастной женщины; он уже почти привык к ее вспышкам и умеет сдерживать себя. Но денег действительно нет: все уходит на журнал, а «Время», если пойдет хорошо, начнет возмещать затраты года лишь через два, пожалуй.
Порой так холодно станет вдруг на сердце, словно тот вселенский паучок только что мелькнул в темном углу кабинета, забежал по дороге в какую-нибудь острожную или деревенскую баньку — отогреться от космического холода. Тяжесть наваливалась на грудь — должно быть, к припадку.
Делился своими ночными думами и тревогами с Аполлоном Григорьевым.
— Э-эх! Друзья любезные, — горячился Аполлон, — народился антихрист в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, а вы все еще к Чернышевскому прислушиваетесь, все еще в фаланстеры Фурье веруете по старинке... Да поймите же вы все, поймите наконец вы, верующие в душу, в безграничность жизни, в красоту, — поймите, что все мы даже к церкви — о ужас! — ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам останется только повеситься на одной из груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество... Поймите, — горячился Григорьев, — что испокон веку были два знамени: на одном написано: «Личность, стремление, свобода, искусства, бесконечность». На другом: «Человечество — а вернее, по остроумному переводу юродствующего Аскоченского, — человечина, материальное благосостояние, однообразие, централизация...» Личности отменяются, народности уничтожаются во имя отвлеченного, единородного, в форменном мундире человечества... Но, милые мои, разве же социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти императора Николая Павловича и фаланстер лучше его казарм? Приспосабливать свои идеалы к злобе дня не умею, жить в ожидании, пока усовершенствуется человечина, не желаю, ибо это уж, милые мои, худшая из утопий, ибо это же случится, когда черт умрет, а у него, по сказаниям, еще и голова не болела, он, повторяю вам, только народился... Нет, — громыхал он своей тяжелой палкой по полу, — я — честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела, я верую в свободу личности, в красоту души и надеюсь помереть, пусть и в долговой яме, но свободным, а мундир никакой не надену и в клетку, пусть самую золотую и хрустальную, как вы ее ни называйте: фаланстером ли, коммуной, — ни за каким счастьем не полезу, а коли загонят даже, все равно изловчусь, а кукиш ей покажу, однако... Ну да вам все равно не понять... Уеду-ка я, пожалуй, в Оренбург, а? Там уж и место для меня подыскали — учителя гимназии...
Достоевскому до болей сердечных жаль было мятущуюся душу Аполлона Александровича, но все более сознавал: не уживутся — ум прекрасный, но Дон-Кихот, не деятель...
Над Достоевскими даже потешались, узнавая, что они пытаются приживить к своему журналу Григорьева.
Алмазов, давний приятель Аполлона, пустил в ход, пожалуй, самую беззлобную из всех ходивших о нем эпиграмм:
- Мрачен лик, взор дико блещет,
- Ум от чтенья извращен,
- Речь парадоксами хлещет:
- Се — Григорьев Аполлон!
- Кто ж тебя в свое изданье
- Без контроля допустил?
- Ты, невинное созданье,
- Достоевский Михаил!
Близко знавший Григорьева Яков Полонский писал о нем (правда, с долей неизжитых личных обид): «Григорьев... человек замечательный... одарен несомненно громадными способностями, и если б ум его не был подвержен беспрестанным разного рода галлюцинациям, он не остался бы непонятым и, быть может, был бы единственным критиком нашего времени...
Призраки беспрестанно мешали ему: истины он не видал, он иногда только ее вдохновенно угадывал — он верил там, где надо мыслить, и мыслил там, где надо верить. Рутина была ему невыносима; он искал нового пути — быть может, даже не раз находил его, но ни сам не мог хорошо разглядеть его, ни другим указать...
В одно и то же время он совмещал в себе и попа, и скомороха, и Дон-Кихота, и Гамлета...
Если б Григорьев родился в XVII столетии, он надел бы на себя вериги и босой, с посохом, ходил бы по городам и селам, вдохновенно проповедуя пост и молитву, и заходил бы в святые обители для того, чтоб бражничать и развратничать с толстобрюхими монахами — и, быть может, вместе с ними глумиться и над постом, и над молитвою...
В наше время Григорьев упивался православными проповедями, уединенным мышлением Киреевского и в то же время наизусть читал патриотические стихотворения Майкова, а в 1860 году клал на музыку и пел известное стихотворение:
- Долго нас помещики душили —
и окрашивался в красный цвет на студенческих попойках...
Конечно, для человека, который не более как веяние, простительно. Кто спросит, где зарождается ветер и куда он будет дуть через полчаса?..»
Но, может быть, никому другому с такой откровенностью, как Достоевскому, не открывалась трагедия личности нового друга, никому другому не виделось, сколько стихий выбрали местом борений его душу, открытую всем горним высотам и земным глубинам.
А тут еще захватило Григорьева мучительное увлечение, а может, и любовь, к Марии Федоровне Дубровской, как будто в отместку той, первой, возвышенной, — любовь странная, тоже чисто григорьевская, в которой переплелись жалость, страсть, долг: Мария Федоровна, «девица легкого поведения», однажды пришла к нему, да так у него и осталась...
- И в дом мой смело и свободно
- Хозяйкой полною войди!
Достоевскому помнились эти любимые им некрасовские стихи:
- Когда из мрака заблужденья
- Горячим словом убежденья
- Я душу падшую извлек...
Да, подчас в поэзии куда как все просто и красиво, а тут жизнь во всей своей бытовой мороке. Эх, Аполлон Александрович, неисправимый идеалист, величайший Дон-Кихот насквозь проеденного практицизмом и эгоизмом, скептического XIX века, и правда, видать, не жилец ты во «Времени»...
Однако, как бы ни мучили его страдания близких, дорогих ему людей, а нужно было жить и самому, а жить теперь значило для него — работать и ночью и днем. «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные»... И ответ «Русскому вестнику», хоть умри, а к майскому номеру должен подготовить. Достоевский в который раз перечитывал «Египетские ночи».
Его давно уже буквально выводило из себя одно странное обстоятельство: критики до сих пор силятся не понимать Пушкина и даже в этой леденящей душу картине двухтысячелетней давности, пророчествующей о будущем, — а может быть, как знать, уже и о нашем сегодняшнем настоящем — видеть не более как поэтически пикантную вольность, нечто маркиз-де-садовское...
Да, в «Египетских ночах» изображен лишь «момент римской жизни и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах жизни так, чтоб по этому моменту, по этому уголку предугадывалась бы и становилась понятной вся картина...» Вся картина тогдашней жизни. Он всегда чувствовал — здесь, именно здесь то, что он называл пушкинскими пророчествами и указаниями.
Зачем нужна была египетская царица русскому Пушкину? «Что ему Гекуба, что он Гекубе?..» Не затем же, чтоб позабавить читателей сюжетом о вызове, брошенном женщиной: кто купит ее тело ценой жизни? Жизнь, вся жизнь за одну ночь страсти — зачем? О прошлом ли только думал поэт или виделось ему нечто предупреждающее в этой древней легенде? Ведь подобные сюжеты могли родиться лишь в обществе, «под которым уже давно пошатнулись его основания», когда уже «утрачена всякая вера, надежда, мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо попробовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело... и чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражают свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает...»
Все так или почти так же, как и в наше больное время, а не сегодня, так уж завтра точно будет так же; тут аналогия, тут напоминание, предупреждение о наступающем крахе: как и две тысячи лет назад грядут времена великих потрясений, сомнений и отрицаний, ибо дворянская наша античность уже позади, от нее остались только красивые формы, но нет уже руководящей идеи; впереди же — варварство буржуа, рвущегося к своему золотому корыту. Старые идеалы презираемы и побиваемы, новые несут лишь идею всеобщего поедания слабых сильными, бедных богатыми; хаос и разрушение... Существует реально одно настоящее без высших духовных потребностей.
Собственно, что такое Клеопатра? Прекрасное тело без души, красота без духа; «в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука...». Это образ и символ мира на самом краю бездны, пророчество о его гибели.
От всей картины «холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель...
И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички!..»
Достоевский почти физически, как бы на себе самом ощущал зародыши начинающегося «химического распада» общества. Нужно что-то делать. И у него нет иного оружия, кроме слова, и он обязан сказать его, это воскрешающее мир слово: пути ясны, да очи слепы...
2. Европа
А время теперь мчалось, и не бешеной тройкой, а казалось, все больше как бы с железным грохотом и присвистом. Вот нужно ответить на целую груду неотвеченных писем, а и то некогда. Все-таки Якову Петровичу Полонскому нельзя не написать — в Австрию укатил, еще не знает, что «Время» напечатало его роман в стихах «Свежее предание»:
«...Да, кстати, когда вы приедете и все ли время пробудете только в одной Австрии? Италия под боком, как, кажется, не соблазниться и не съездить? Счастливый вы человек! Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии. Еще с романов Ратклиф... Потом пришел Шекспир — Верона, Ромео и Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели и теперь не удастся поездить?..»
Отписал и Александре Карловне, свояченице литератора Порецкого, с которой познакомился случайно в поезде во время одной из поездок в Москву, — и без того сколько уже обиженных на него: тому ответил не вовремя, тому показалось, будто он поздоровался как-то не слишком горячо, третий и вовсе решил — Достоевский-де зазнался, не хочет узнавать, и пошла гулять легенда: и заносчивый он, и угрюмый, и вообще не такой... А у него после каждого припадка (они все учащаются) по неделе жуткие головные боли и тоска — себя самого ненавидишь до отвращения. А тут еще и вовсе память стало отшибать на два-три дня; видишь, лицо знакомое, а кто — никак не вспомнишь. Одно время чуть не со всеми подряд на всякий случай раскланивался, так на него уж и кивать стали с подмигиванием и перешептываться ухмыляючись...
«...Вы спрашиваете: прошла ли моя тоска? Ей-богу, нет, и если б не работа, то я бы заболел от уныния. А между тем мне так мало нужно. Ведь я знаю сам, что мне нужно мало, и даже знаю, что именно нужно: хороших людей. Как вы думаете, это много или мало?
...В Петербурге самое интересное во всех отношениях время — осень, особенно если не очень ненастна. Осенью закипает новая жизнь на весь год, начинаются новые предприятия, приезжают новые люди, являются новые литературные произведения. Предчувствую, что эта осень и зима промелькнут скоро: а там весной непременно за границу.
...Не взыщите меня за глупое письмо. Глупое потому, что все о себе писал... Охотница ли вы до ягод, до яблок и до груш? Вот это самое лучшее, что есть в лете...»
Аполлон Григорьев все-таки уехал. Живет теперь в Оренбурге вместе с Марией Федоровной. Измучает она его вконец...
«Время» идет хорошо, платит хорошо; «Время» мной дорожило и дорожит, — объяснял Григорьев старым друзьям, решившим было, будто Достоевские чем обидели его. — Но «Время» имеет наклонность очевидную к Чернышевскому с компанией, — и я не остался в Петербурге».
Вот попробуй и угоди друзьям — Николай Николаевич Страхов, так тот, напротив, убеждает всех, что Федор Михайлович бессознательный славянофил и непонятно, отчего и зачем спорит с «русской партией».
Достоевский высоко ценил талант Григорьева, и разлука с ним приносила ему новые душевные печали, но вместе с тем он понимал и не раз говорил об этом ему самому: «Вы, Аполлон Александрович, не деятель». «Я полагаю, — писал он чуть позже, — что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если бы у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания».
Григорьев отвечал из Оренбурга Страхову, зная, что тот делится его письмами с Достоевским: «Да, я не деятель, Федор Михайлович! И признаюсь вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже, что я не могу купаться в ней... я горячусь тем, что во времена хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мертвую, нищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца...»
Григорьев любил своего «деятельного», как ему казалось, друга, но именно деятельность-то ему и не нравилась. И уже в письмах, предназначенных не для Федора Михайловича, Григорьев упрекает его ближайших друзей, буквально умоляя их «не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить и беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически».
Но что действительно поражало Достоевского в письмах Аполлона Григорьева, так это, по видимости, туманные видения и неясные пророчествования: «...В словах так называемого Писания есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумывался ли ты серьезно в книгу Иова, в эти стоны, с глубоким сердцеведением вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом апокалипсисе божественной иронии, есть слова: страх, его же убояхся, найде на мя, — страшный смысл которых рано или поздно откроется тебе... как давно уже раскрылся он мне...
Чего мы боимся — то именно к нам и приходит...» Но еще несколько фраз, и вся неясность улетучивалась и внутренний смысл туманных слов обрисовывался вдруг вполне рельефно и современно:
«Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности...»
...Да ведь именно этот-то вопрос более всего измучивал и Достоевского, он-то более всего и подвигал его к «фельетонной» деятельности, о нем-то и толковал он в споре о «Египетских ночах».
А вот госпожа Толмачева, урожденная Эверисман, о которой уже успели забыть, но которая вновь напомнила о себе: бросила своего мужа, ретроградного председателя пермской казенной палаты господина Толмачева и бежала с прогрессивным журналистом Таммерманом, — да-да, тем самым, который и поведал в «Санкт-Петербургских ведомостях» о черных глазах Евгении Эдуардовны, загоравшихся во время чтения ею «Египетских ночей», — в Казань, а затем и за границу. Через сотрудников «Времени», тайных корреспондентов «Колокола», Достоевский узнал, что заезжала Толмачева и к Герцену, однако принял ли ее Герцен — осталось неизвестным.
Между тем появились в прессе первые отклики на «Униженных и оскорбленных», и они радовали. В «Современнике» отозвался сам Чернышевский, отметивший и психологическую глубину романа, и новизну художественной разработки нравственных проблем. Похвалил новое детище и Аполлон Григорьев, поздравивший Достоевского с решительным отходом от сентиментального натурализма (так он именовал ветвь «натуральной школы») 40-х годов. А сентябрьский номер «Современника» вышел с большой статьей Добролюбова «Забитые люди», почти полностью посвященной Достоевскому.
Эту статью Федор Михайлович читал с особым вниманием. Добролюбов начал с напоминания давней оценки его таланта Белинским: «Достоевский принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много в продолжение его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы...» Если в течение десятилетнего молчания Достоевского иногда и вспоминали, продолжал Добролюбов, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть. Но вот Достоевский явился с новым произведением, и что ж, роман «очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою... Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить к нему правила строго художественной критики!..»
Это уже хоть и не прямой, но ответ на «Господина — бова...»: вот, дескать, произведение, лучшее за год (хотя что в этом году-то появилось заметное?), а и то говорить о художественной значимости его не приходится, так что, если следовать совету самого Достоевского, говорить о нем и вовсе не стоило бы, но мы, мол, говорить все-таки будем, потому что, кроме художественных достоинств, есть в нем нечто поважнее: отражение жизненных реалий — о них и речь. Вот: «...надо быть слишком наивным и несведущим, чтоб серьезно разбирать эстетическое значение романа, который обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение...» Ладно, это Достоевского не обижало — сам полемист, он прекрасно улавливал и суть полемического хода своего оппонента, а частично даже и соглашался с ним: произведение действительно вышло дикое, растянутое. Вот и Аполлон Григорьев хвалил, а теперь ругает: «Что за смесь удивительной силы чувства и детских нелепостей, что за мощь мечтательного и исключительного и что за незнание жизни...» Но Достоевский убежден — и здесь есть с полсотни страниц, которыми он может гордиться, да и Валковского они все-таки не поняли... Однако в целом статья Добролюбова более чем благожелательна. Огорчило и раздосадовало его другое:
«У Пушкина, — пишет Добролюбов, явно отвечая на упрек Достоевского в недооценке Пушкина, — проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку как человеку, но и то большей частью в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком мало серьезен, или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни...
Только Гоголь, да и то не вдруг, вносит в нашу литературу гуманистический элемент... По этому-то пути направился и г. Достоевский...»
Умные люди, передовые умы, а Пушкина никак не уразумеют! — огорчался Достоевский. Пушкинского пути не видят и видеть не хотят — вот что прискорбно и чревато для умственной и нравственной нашей-то самостоятельности... С Добролюбовым нужно спорить, и не в одних статьях, но и с глазу на глаз — благо недавно познакомились. В этом году он со многими сошелся — и с Чернышевским, и с Гончаровым, и с Островским, и с Салтыковым-Щедриным заново...
Вот и стукнуло ему сорок. Отметили скромно: пришли Страхов да Майков с женой. Достоевский старался шутить, бодрился, но видно по всему — сегодня ему особенно грустно; бледный какой-то, осунулся — или это недавно отпущенная борода худит? — Мария Дмитриевна, сколько хватило сил, изображала хозяйку дома, старалась быть приветливой, но в конце все-таки сорвалась, устроила истерику. Невеселое зрелище. Федор Михайлович как мог баловал ее то сладостями, то, глядишь, новым платьем, то сумочкой дамской модной.
Сорокалетие навалилось долгими грустными раздумьями — жизнь все быстрее катится к старости, если проклятая болезнь даст еще добрести до нее, конечно... А главное — затаенное, потому что и высказать некому — детки... Как ему хотелось детей!
Александр Петрович Милюков, по-прежнему часто бывавший у Достоевского, не раз замечал, с какой симпатией относился Федор Михайлович к детям, с каким участием следил за их играми, с какой непринужденностью входил в их интересы, вслушивался в их наивные разговоры.
Однажды Милюков рассказал показавшуюся ему забавной сценку:
— Как-то летом сижу вечером у открытого окна. Пастух гонит коров, играя на своей двухаршинной трубе. Вдруг какой-то мальчик-мастеровой, в пестрядевом халатишке и без сапог, подбегает к пастуху, протягивает ему грошик, чтоб тот позволил ему тоже немного поиграть. Пастух соглашается, объясняет мальчонке премудрость своего нехитрого инструмента. Мало-помалу из трубы слышатся резкие, отрывистые звуки. Мальчик, довольный, старается, и вот уже раздалась такая звонкая трель, что даже коровы дружно замычали. И вдруг откуда ни возьмись городовой, схватил мальчонку за ухо и орет: «Я, мол, тебе! Что балуешь?..» Мальчик, конечно, оторопел, бросил трубу и побежал, как-то уж очень печально опустив голову...
Достоевский нервно заходил по комнате:
— Неужели вот этот случай кажется только забавным? Да ведь это драма, и серьезная драма! Бедный мальчишка этот родился в какой-нибудь деревне, по целым дням был на свежем воздухе, бегал в поле, ходил с ребятишками в лес по грибы или за ягодами, видел, как овцы пасутся, слышал, как птицы поют. Может быть, тятька или там дядя какой-нибудь на телегу с сенокоса посадит его или даже верхом на кобылке даст проехаться. Там у ребенка была какая-нибудь свистулька... И вот привезли его в Петербург и отдали на годы в ученье, или, лучше сказать, на мученье, к какому-нибудь слесарю или меднику, и сидит он с раннего утра до ночи в подвале душной мастерской, в непроглядном дыму и копоти, и не слышит ничего, кроме стука молотков по меди да ругани подмастерьев. Да ведь это же настоящий маленький «мертвый дом», где ему суждено вести каторжную жизнь много лет... Все развлечение его в том только, что хозяин пошлет сбегать в кабак за водкой, да в светлый праздник он пошатается на вонючем дворе, да может постоять у ворот, если не прогонит дворник. И вот теперь у этого мальчишки завелся грош, и он не проел его на прянике, не пропил на грушевом квасу, а видит — гонят коровушек, и у пастуха дудка. Захотелось ему удовлетворить высшей эстетической — Да-да, эстетической! — потребности, присущей всякому человеку, и отдает он последний свой грош, чтоб минуту, только минуту бы поиграть... И коровы-то замычали — откликаются ему по-деревенски. И вот — блюститель порядка... Да поймите же, сколько в этом трогательного, какая это драма!
Бог один, должно быть, только и слышал стоны его ничем не утолимой жажды отцовства.
В ноябре — будто обухом по голове — весть: в ночь с 16-го на 17-е сгорел от чахотки Добролюбов. Вот и поспорили, поговорили... Достоевский не любил расхожие среди его окружения разговоры о «зарвавшемся мальчишке», «свистуне», он верил, что из этого мальчика может вырасти могучий деятель, близкий ему по духу, он и сейчас ощущал в этой болезненной телом натуре родственные ему черты: искренность таланта, готовность идти в бой за свои убеждения, веру — пусть и иную, чем его, — в будущее русского народа. Он знал, Добролюбову, как и ему самому, врачи сулили поправить здоровье, если он откажется от нещадной его эксплуатации.
— Если бы мне предложили дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, — сказал Добролюбов однажды, — я, не колеблясь, предпочел бы лучше прожить только до тридцати лет, но не бросать журнальную деятельность.
Он не дожил двух месяцев до двадцати шести...
Декабрь принес новый удар, и он снова был связан с «Современником»: журнал опубликовал полемическую статью, скорее даже фельетон — «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)», — за подписью «Посторонний сатирик». Достоевский был немало раздосадован: «Время», не раз уже вступавшееся в открытую за «Современник», становилось вдруг объектом насмешек не «Русского вестника», как это продолжалось на протяжении всего года, но самого же «Современника». Автором статьи оказался новый сотрудник журнала, недавно окончивший духовную академию, 26-летний Антонович. Он обвинял почвенников во фразерстве, в отсутствии какой бы то ни было положительной идеи, в том, что они не потрудились даже уяснить для себя, о чем, собственно, хлопочут. В самом деле: «Многочисленные солидные умы совершенно серьезно препирались между собою о том: ...Пушкин народный ли поэт? Квас лучшее ли питье, чем вода?..»
Конечно, иронизировал Антонович, если под словом «почва» понимать — народ, то это весьма гуманно говорить о почве, но рецепты, которые предлагают почвенники, не годны, так как, во-первых, грамотность и образование народа не решают проблемы: «Как ни восхваляйте грамотность, а желудок всегда берет свое... Даже возвышенные эстетические наслаждения подчиняются желудку, или, выражаясь деликатнее, чувству голода». Вот, «если бы каждый член почвы имел порядочный капиталец, поверьте, он не поскупился бы для того, чтобы поучить детей своих уму-разуму...». Антонович защищал материализм от почвеннического идеализма, намекал на то, что «Время»-де по своим взглядам недалеко ушло от катковского «Русского вестника».
— Хорош материализм! — возмущался Достоевский. — Пушкина свели к вопросу о «квасе», проблему народа к «желудку» и «капиталу»: живи, дескать, в свое пузо, а все остальное само собой приложится22. Нет, пусть уж нас лучше ругают ретроградами и идеалистами, но мы такого никогда не скажем и народу не пожелаем. Да и разве же «Время» хоть где-нибудь высказалось против необходимости улучшения народного быта? Да оно в каждом номере твердит об этом настойчивей самого «Современника», но мы — идеалисты, да, идеалисты, потому что считаем главным все-таки не нутро, а идеал, идею, без которых и само материальное благосостояние непременно приведет к полному развращению, к гибели народа. Что в основе — дух или желудок? Вот в этом-то и весь вопрос, — горячился Достоевский, но от полемики с «Современником» пока отказался. Думалось, может быть, выпад случаен? Хотя и понимал: без ведома Чернышевского такой выпад никому не известного сотрудника появиться не должен бы...
Конец года несколько скрасило письмо Тургенева, пришедшее из Парижа: «Очень Вам благодарен за присылку двух номеров «Времени», которые я читаю с большим удовольствием. Особенно Ваши «Записки из мертвого дома». Картина бани просто дантовская».
Да, Достоевский тоже мог быть доволен «Временем». К журналу тянутся талантливые авторы: известные — Тургенев, Островский, Салтыков-Щедрин, Майков, Полонский, Плещеев и молодые — Крестовский, Лесков, Помяловский, Мей, Левитов... И читатели его приняли тепло: подписка на 62-й год идет сверх ожиданий.
На «Мертвый дом» надеялся, конечно, да ведь на какое из своих произведений он не надеялся? Но чтобы такой восторженный успех, такое потрясение, кажется, чуть не всей России, — об этом он мог мечтать разве что в давних своих, еще юношеских мечтах. Его теперь то сравнивали с Данте, то называли новым Вергилием, который ввел читателей в ад, но не фантастический, а реальный23, на каждом литературном вечере просили читать отрывки из «Записок», устраивая небывалые овации; молодежь боготворила его. Он снова становился кумиром, хотя это и достойно грустной усмешки — слишком уж хорошо знал цену подобных вознесений. На днях, в ночь с 18 на 19 февраля (вот и 62-й наступил), скончался Иван Иванович Панаев, человек, которому он обязан двумя незабываемыми на всю жизнь переживаниями: встречей с Авдотьей Яковлевной и кличкой «литературный кумирчик». Обида, конечно, давно утихла, да и не в ней дело: порвалось еще одно звено невидимой цепи, связующей его с той тревожной и чудной порой, когда все еще было впереди. Грустно, особенно на пятом десятке: жаль отчего-то даже старых пересмешников своих. Может, еще и оттого, что их-то уже не вернешь, а новые все равно отыщутся, придумают что-нибудь и похлестче «кумирчика».
А он смущается читать публично свои «Записки», все больше норовит — Пушкина, объясняет друзьям: оно, знаете, как-то стыдно — все кажется, будто я жалуюсь...
И все же он не мог отказать, когда устроители литературно-музыкального вечера пригласили его на 2 марта прочитать что-нибудь из «Мертвого дома». Официально вечер проводился в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам, ученым и студентам, на самом же деле для сбора средств недавно арестованным за связь с Герценом поэту Михаилу Ларионовичу Михайлову и Владимиру Александровичу Обручеву, и Достоевский знал об этой истинной цели вечера. Льстило ему и другое: состав выступающих тщательно отбирался по строгому принципу — вечер должен был стать своеобразной демонстрацией самых передовых, самых прогрессивных сил русской литературы и культуры. К тому же вызывала любопытство и ожидавшаяся речь известного либерала, профессора истории Петербургского университета Платона Васильевича Павлова — «Тысячелетие России». Вовсю уже шла подготовка к юбилею, скульптор Микешин завершал работу над величественным памятником, который решено было поставить в Новгородском кремле... Почему именно там? Да потому, что за начало отсчета лет русской истории была взята официально принятая по «норманнской теории» дата призвания варяжских князей в Новгород Великий — 862 год.
В огромном зале Руадзе, казалось, собрался в этот вечер весь цвет общественного Петербурга. Публика была буквально наэлектризована еще до начала выступлений. Когда же Чернышевский прочитал свои воспоминания «Знакомство с Добролюбовым», окна и люстры с трудом выдержали настоящую бурю криков и рукоплесканий. Собравшимся, собственно, было даже и не столь важно, что именно исполняется со сцены, — они пришли прежде всего выразить восторг и поклонение самим представителям передовых идей, «хорошего направления», словом — прогресса. Однако подбор исполнявшихся произведений был столь же не случаен и тщателен, как и исполнителей: Антон Рубинштейн сыграл «Афинские ночи», посвященные восставшей Греции, Курочкин прочитал перевод из Беранже — «Птички», о радости вырвавшегося из клетки на свободу создания; что-то исполнял приехавший из Польши скрипач Генрик Венявский; читал стихи Некрасов. Свою долю оваций — чуть-чуть не обвалилась зала, как писал под впечатлением вечера Курочкин, — получил за «Мертвый дом» и Достоевский. Когда же Курочкин читал другой свой перевод из Беранже — «Господин Искариотов», — всякий раз, когда он произносил повторяющиеся слова: «Тише, тише, господа: господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда», — публика до того неистовствовала и топала в ритм ногами, что казалось, не то что домовладелице Руадзе, но всему Петербургу грозит участь тех, кто пережил лиссабонское землетрясение.
И вот тогда-то на сцену и вышел профессор Павлов. Собственно, ничего особенного он не говорил: речь его была уже цензуирована и опубликована, но его восторженный голос, срывающийся на крик, воздымание рук к потолку, потрясание указующим перстом, интонации и акценты в накаленной до предела атмосфере придавали выкрикиваемым фразам какой-то скрытый, намекающий, а то и противоположный смысл. Возбуждение достигло предела. Достоевский, оглушенный и придавленный происходящим, ощутил себя вдруг больным, разбитым — он понимал энтузиазм, вызванный выступлением Чернышевского, сам увлекся настолько, что подтопывал со всеми в такт «патриоту-Искариоту» (ему и самому омерзительны иуды-искариоты, рядящиеся в личины патриотизма), но это уж не энтузиазм, а какая-то вакханалия, нечто болезненное, бесноватое24, противоположное целям собрания, — зачем же глумливость? Ведь речь-то идет все-таки о России — нашей общей матери, да, и больной, и небезгрешной, может быть, — кто не без греха? — но зачем же задирать ей подол публично, прилюдно, да еще и с энтузиазмом? Детям-то — матери своей...
Вечер закончился «Камаринской» Глинки.
Достоевский возвращался домой злой и подавленный: нет, никакими благими целями не искупить греха посрамления больной матери своей. Вспомнился ему другой вечер, и Глинка, и та же «Камаринская». Та же, да другая. И — «прощайте, добрые друзья»: праздник жизни, уже таивший в себе и Петропавловку, и Мертвый дом...
Что-то будет, что-то будет?
Ночью с ним случился жестокий припадок.
Потом находила беспричинная и потому еще более мучительная тоска, накатывало состояние какой-то непреодолимой обреченности, а главное, вины — за что? перед кем? Он искал ответа, пытал свою память, совесть и не находил ответа: нет, он не был безгрешен и, может, как никто другой, сам судил свои грехи, склонный скорее преувеличивать их, нежели преуменьшать или скрывать от себя же, но тут было нечто иное, загадочное, мучительное, словно над ним тяготеет неведомая ему самому великая вина великого преступления. Проходило два-три дня, и состояние это улетучивалось, но память сохраняла испытанное повторяющееся ощущение. Порою ему казалось, будто его преступление в том-то и заключается, что он никак не может вспомнить и осознать свою вину. Какую?.. Лишь в повседневности забот и трудов он вновь обретал способность и желание жить, надеяться, верить...
В мартовском номере «Современника» Антонович обрушился на роман Тургенева «Отцы и дети» (статья называлась «Асмодей нашего времени» — так назывался и недавно появившийся роман Аскоченского, что намекало на родственность Тургенева одному из самых одиозных авторов). «Отцы и дети» клеймились как «карикатура на молодое поколение», сознательная и злобная клевета на него. «Современник» воспринял Базарова как недостойную попытку Тургенева окарикатурить недавно умершего Добролюбова. Одновременно в «Русском слове» молодой резкий Писарев вступился за Тургенева и его Базарова; в спор вовлекли и Каткова, в журнале которого появились «Отцы и дети». Словом, вокруг романа закипели страсти.
Базаров, натура беспокойная и тоскующая (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм, пришелся по душе Достоевскому, и он решил отписать Тургеневу в Париж; знал, каково переживать суды-пересуды о только что родившемся детище25.
В апреле Антонович вновь выступил с разоблачениями «Времени», на этот раз в выражениях еще более язвительных, нежели в недавней статье «О почве».
Достоевский начинал понимать, что наступление «Современника» на «Время», едва ли не единственный журнал, кроме «Русского слова», поддерживавший его, не ошибка и не случайность: именно близость «Времени» к «Современнику» заставляла последний заявлять о самостоятельности, о принципиально особом пути. Призыв, обращенный к Герцену и опубликованный им в 60-м году в «Колоколе», — «К топору зовите Русь», — без сомнения, если и не принадлежал непосредственно Чернышевскому или Добролюбову, то, во всяком случае, наверняка исходил из близкого им круга людей. «Современник» все более определенно, насколько это было возможно в подцензурном журнале, призывал к революции в России.
К какой революции, досадовал Достоевский, к «французской»? Но с западными теориями народ не поймет нас и не пойдет за нами — он был совершенно убежден в этом; его только удивило, когда он заметил вдруг, что даже в мыслях своих все еще думает — «мы», «нас», «нам», по существу, объединяя себя и с лагерем Чернышевского, и с Герценом, хотя и столь же ясно понимает все разделявшие их противоречия, всю разницу в определении путей достижения социальной справедливости.
Однако в сложной ситуации смутной эпохи, считал он, необходимо наводить мосты между противоположными берегами реки, текущей в направлении единой цели. «Современник» же, судя по всему, напротив, считает необходимым окончательно сжечь даже и те, что успели весьма прохудиться и обветшать. И между «Современником» и «Русским словом» также грозит разгореться серьезная баталия. И с «Колоколом» у «Современника» едва ли не распря: еще в 59-м Герцен выступил в «Колоколе» со статьей «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!»), в которой обвинил «Современник» в том, что он своим «свистом», окриками, торопливостью ведет не к развитию общественного сознания, но, напротив, вполне может заглушить даже и первые ее проблески. «По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею», — заключал Герцен.
Для объяснения с Герценом в Лондон ездил Чернышевский. Встреча не дала, по существу, никаких результатов. Недавно в том же «Колоколе» Герцен дал Чернышевскому и Добролюбову определение — «желчевики».
Позиция Герцена, насколько Достоевский мог судить о ней по тем номерам «Колокола», которые разными путями, но попадали к нему, конечно, ближе ему, нежели все яснее определяющаяся для него программа «Современника», хотя и крайние выпады Герцена он тоже не разделял.
— Революция?.. Нет, и революцией его не испугаешь: когда вопрос стоял об освобождении народа — ou готов был пойти хотя бы и на площадь, и пошел на каторгу; Чернышевский в то время, может быть, еще семинарию едва окончил, а Добролюбов, пожалуй, и вовсе в ребячестве пребывал, но теперь, когда главный вопрос решен мирно, без пугачевщины, звать ли народ к топору? Куда вы торопитесь? Общество не готово, народ разобщен с интеллигенцией; мы еще и язык-то не выработали, которым говорить с народом, а вы хотите в 10 минут растолковать ему ваши теории, да и спешите-то не вместе с историей, а за теорией... — Он и не заметил, как увлекся, разгорячился, разбегался по комнате, даже и руками вон как размахался, словно перед ним не воображаемый Чернышевский, а реальный. — Нет, нет, нужно объясниться: звать к топору, когда общество разобщено, когда социальный интерес самого народа не выработался, — значит звать к пугачевщине, к кровавой бессмысленной смуте; нет, эдак наши революционеры больше крови прольют, чем дела-то сделают...
А время действительно таило возможность взрыва26: крестьянские бунты, все учащающиеся волнения в Польше, студенческие беспорядки в Петербурге, Москве, Казани; правительство пребывало в явной растерянности27.
14 мая, выходя из дому, Достоевский увидел в ручке входной двери скрученный в трубочку листок. Развернул его, начал читать и... похолодел.
«Скоро, скоро наступит день, — читал он, — когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное и с громким криком: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» — двинемся на Зимний дворец истреблять живущих там... Мы издадим один крик: «В топоры!», — и тогда, кто будет не с нами, тот будет против, кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами...»
Это была знаменитая революционная прокламация «Молодая Россия», распространенная в тот день по Петербургу и призывающая «вместе с Разиным, с Пугачевым» к убийству царя и всего его рода, повсеместному уничтожению помещиков, священников, чиновников — на площадях, в домах, в тесных переулках городов, на широких улицах столиц, по деревням и селам. Прокламация требовала уничтожения деспотизма и ликвидации брака и семьи; звала к упразднению Российской империи, если даже для этого придется «пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами», и к установлению вместо нее федерации республиканских областей. «На сколько распадется областей земля русская — этого мы не знаем», — лихорадочно, еще не веря своим глазам, сбиваясь и возвращаясь вновь к написанному, читал Достоевский. Как предварительное условие революции выдвигалась задача любыми средствами вовлечь Россию в войну: «Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода!..» Если бы ему пересказали это воззвание, он ни за что бы не поверил в его реальность, но вот оно, перед ним, и он читает его собственными глазами, если, конечно, это не бред и не галлюцинация... Бумага скорее напоминала ему провокацию, нежели плод революционной теории, для которой приспело время стать практикой. И к кому же они обращаются, на кого рассчитаны все эти Ледрю-Лоррены, Луи Бланы, Блюмеры, Орсини, якобинцы, антагонизмы, федерации, инициативы, радикализмы и прочие теоретизмы, которыми пользуются здесь авторы? На мужика? Мастерового? Что, кроме призыва «В топоры!», поймет в этом листке простой народ?
А через день Петербург был потрясен зловещим зрелищем: здесь и там вздымались к небу гигантские костры — город пылал. К несчастью, поднялся сильный ветер — настоящая буря, так что о серьезной борьбе со стихией не могло быть и речи. Сгорали целые кварталы, горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта... Белые ночи превратились в кроваво-багряные, по улицам и площадям в панике метались тысячи погорельцев. То и дело багрово-сизое марево оглашалось воплями; выли собаки. Выгорели Толкучий рынок, Щукин двор, пылали все новые городские районы. «Пожары наводили ужас, который трудно описать», — рассказывал Страхов, который вместе с Достоевским решил выехать по Неве за город, чтобы хоть отдышаться и передохнуть от нестерпимого зрелища. Высадились с пароходика в каком-то загородном саду, и здесь их ждало потрясение, едва ли не более впечатляющее: как ни в чем не бывало играл оркестр, пели цыгане, на фоне вздымающихся над городом клубов дыма празднично разодетые дамы и господа пили шампанское, смеялись... — какой-то «пир во время чумы», увиденный воочию, нечто современное из Нероновых времен, отвратительное, безобразное в своем бессочувственном ликовании. Они вернулись в Петербург.
По городу ползли слухи:
— Конец света наступил, и близок час вечного суда...
— Студенты жгут и поляки...
— Помещики это, помещики — царь-батюшка волю мужику дал, вот они и отмщают...
— Антихрист ликует...
В правительственных и близких к ним кругах подозревали революционную партию, связывая пожары с прокламацией; начались массовые аресты, но никаких фактов вины арестованным предъявить не смогли; предали суду только двоих: учителя Викторова, пытавшегося в крайнем опьянении поджечь школу, и 12-летнего солдатского сына Ненастьева, кажется, поджегшего забор у соседа, вероятно, когда-то нещадно надравшего ему уши...
В среде революционной и радикально настроенной были убеждены — провокация, жгут сами жандармы, чтобы обвинить революционеров. Однако, когда запылало министерство внутренних дел, из окон которого сквозняками выбрасывались кипы горящих документов, подхватываемых ветром и летящих над Петербургом, пришлось задуматься: вряд ли полиции выгодно было играть в подобные игры... Министерство просвещения, однако, удалось отстоять от пожара.
Несмотря на отсутствие доказательств, официозные газеты и журналы все-таки решили свалить вину на студентов. Всерьез поговаривали и о «подстрекателях», главных виновниках несчастья:
— Все это творение Герцена, его любовь к России...
— Говорят тоже, что в заговоре петрашевцы: у них была программа пожаров, теперь сбывается. А между тем они прощены, так вот они-то и благодарят за свое возвращение. Вот и будь после этого милостив...
Достоевского злили такие слухи, но злость — плохой помощник в серьезном деле, а делать что-то было нужно. Что? Он прекрасно представлял, как смогут использовать, соединив в единую цепь последовательности, подобные слухи, пожары и прокламацию. И он садится писать статью, доказательно опровергающую официальную версию о связи пожаров с прокламацией, об участии в поджогах студентов. Но дальше медлить нельзя, необходимо наконец объяснение и с Чернышевским, не может же он не понимать, к чему приведут подобные воззвания, объяснение, искреннее до конца, глядя в глаза друг другу. И он отправился к вождю «поджигательной», как теперь уже вслух говорили, партии.
Дверь открыл сам Николай Гаврилович, в доме никого не было, даже прислуги. Чернышевский не смог скрыть удивления, увидев Достоевского на пороге своей квартиры, но встретил его радушно и пригласил в кабинет.
— Николай Гаврилович, что это такое? — Он подал ему прокламацию,
Чернышевский, близорукий, щурил глаза, даже глядя сквозь очки. Взял бумагу и как бы впервые прочитал ее.
— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?
— Именно не предполагал и даже считаю ненужным вас в этом уверить. Но, во всяком случае, их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения.
— Я никого из них не знаю.
— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.
— Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны.
— И, однако, всем и всему вредят...
Говорили о многом. Часа через два Достоевский уехал28.
А через неделю (пожары уже стихли) столь же неожиданно в дверях квартиры Достоевского появился Николай Гаврилович. Формально он приехал получить разрешение для публикации нескольких рассказов Достоевского в народной хрестоматии, которую он готовил. Проговорили, однако, час. После чего и еще обменялись визитами. Значит, было о чем говорить и ради чего встречаться.
Неожиданно нагрянул в редакцию «Времени» приехавший из Парижа Тургенев. Господи, сколько не виделись! Такой же высокий, породистый, только погрузнел да поседел, но красавец, ничего не скажешь. Расцеловались как старые приятели. Тургенев пригласил Федора Михайловича с братом и Страхова отобедать в ресторане Клея, при гостинице, в которой остановился. Говорил о том, что пущенное им в «Отцах и детях» слово «нигилист» теперь стало чуть не бранным: «Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!» — первые слова, которые он услышал, выйдя на Невский; молодежь на него осерчала за Базарова — обидно; а у горевшего министерства внутренних дел — знаете, что нашел? — никогда не догадаетесь! — обгорелое дело о выдаче мне заграничного паспорта... Рассказывал о житье-бытье за границей, об отношении иностранцев к русским — и каких только хитрых и даже подлых уловок не напридумали, чтоб обобрать русского. Вечер удался на славу.
У Достоевского уже и у самого в кармане дозволение о выезде в Европу для лечения — после долгих хлопот наконец-то и он сподобился.
И вот утром 7 июня друзья прощаются с ним у поезда, который впервые доставит его в «страну святых чудес», как он полуиронично именовал Европу. А на душе нерадостно — обе его статьи о пожарах запрещены цензурой — дурной признак. Правда, перед самым отъездом он и еще кое-что предпринял. Не быть бы беде...
Провожал его и Страхов, с которым Федор Михайлович после отъезда Аполлона Григорьева особенно сблизился и чуть ли не влюбился в него. Даже из Европы пишет ему, приглашая попутешествовать вдвоем, а то одному совсем невмоготу:
«Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго, приласкаем молодую венецианку в гондоле. А? Николай Николаевич?..» Достоевский даже едва не расхохотался, представив, как мягонький, с розовыми пухлыми щечками Страхов обнимает венецианку. Потому что нужно было знать Николая Николаевича...
Родился он в Белгороде, в семье священника, учился в местном духовном училище, затем в Каменец-Подольской и Костромской семинариях, после чего закончил Петербургский университет и еще естественно-математическое отделение Главного педагогического института. Учительствовал в Одессе, затем в Петербурге. В 57-м защитил магистерскую диссертацию «О костях и запястьях млекопитающих». Милюков и пригласил его в «Светоч» вести отдел новостей естественных наук, откуда Страхов перешел во «Время», где выступал с научными и философскими статьями. Когда Григорьев уехал в Оренбург, он стал ведущим, конечно, после Достоевского, в критическом отделе. В юности пописывал и стихи. Аскетические наклонности в сочетании с благодушием характера вылепили из него человека, не то что деликатного, хотя, конечно, человек он в высшей степени деликатный, чем-то даже напоминающий Павла Петровича Чичикова. Смотришь на него, и так и кажется, если заговорит, то непременно уж скажет что-нибудь вроде: «Вы изволили пойти с валета, а я имею честь покрыть вашу двойку». Какой-то он неопределенный: уклончивый, мягкий и твердый одновременно, скупой до крайности на выражение своих симпатий и антипатий. О себе слова из него не вытянешь, а уж о женщинах и говорить не приходится — раскраснеется, разызвиняется... Сразу виден закоренелый и убежденный холостяк. Впрочем, в давние студенческие дни однажды с ним случилось нечто опасное... Хотя нет, чуть-чуть не случилось...
— Конечно, кто богу не грешен, — бывало, и он откровенничал, — и у меня увлечения бывали, хе-хе... Жила, я вам скажу, на Охте некая особа привлекательного вида. Гм... Гм... — При этом он непременно откашливался и оглядывался по сторонам. — Дева, можно сказать, черноокая, довольно крупных размеров и, — гм... гм... — тут он и вовсе понижал голос, — со смелым взглядом... — Словом, черноокая дева увлеклась свеженьким, чистеньким, тщательно бреющим свои пухлые щечки студентом, а еще надеждой водить его хоть всю жизнь за нос, и однажды он неожиданно для себя очутился в ее объятиях. — Испугался я очень... — рассказывал он. — Да, скажу я вам, — гм, гм, беречься следует... — И он берегся всего опасного. И как критик тоже. Вот этого Достоевский и не любил в нем, а потому и подшучивал над его страхами.
За «венецианок» Николай Николаевич на Федора Михайловича не обиделся — похоже, он вообще никогда ни на кого не обижался, — приехал. Так что вторую половину путешествия они провели вдвоем. Но до этого Достоевский успел уже кое-где побывать и кое с кем повидаться...
В самом деле, не ради же одних только европейских красот и туристических достопримечательностей — они слишком скоро надоели ему — ехал он на Запад... Даже Париж показался ему прескучнейшим. Рейн, правда, действительно чудо, а вообще-то заскучал, затосковал по родной русской канители: что ни говори, но за морем и веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое...
Поездка не разубедила Достоевского в его отношении к Западу, скорее даже подтвердила и укрепила его: правду в народе бают — чужая сторонушка нахвалом живет, а наша и хайкою стоит.
— Да, скажу вам, господа, люди русские, — делился он впечатлениями с друзьями, вернувшись в Россию, — если где и возможен социализм, то уж не в Европе: герои буржуазной революции сами превратились едва ли не в первых эксплуататоров. Идеал Запада — обособиться каждому от всех, накопить побольше денег, завести как можно больше вещей, да тем и благоденствовать. Словом, идеала никакого, убеждений не спрашивайте. У нас, конечно, плотоядных подлецов, может, и не меньше, но там вполне уверены, что только так и надо, а больше и нет ничего...
Да, ну а что же здесь, в России?
Новости, прямо сказать, невеселые, даже и вовсе грустные: «Современник» и «Русское слово» приостановлены на 8 месяцев. «Время» тоже чуть было не подверглось той же участи: уже и отношение о закрытии журнала подготовлено, но в последний момент почему-то высочайшего позволения не последовало29. Может быть, потому, что слишком увеличивать число «опасных государству» журналов сочли нежелательным? Во всяком случае, уже на следующий день после отъезда Федора Михайловича за границу Михаил Михайлович был вызван в следственную комиссию, где ему учинили допрос в связи с запрещенными статьями о пожарах. Михаил Михайлович взял их авторство на себя, так как подписаны они не были. Но дело не только в этом: несмотря на запреты цензуры и возможные последствия, Федор Михайлович перед отъездом хоть и тревожился: «Не быть бы беде», но настоял на том, чтобы в следующий, июльский, номер Михаил Михайлович вставил кусок о пожарах в обозрение «Наши домашние дела». И Михаил Михайлович пошел на ото. «Время» все-таки решилось и сумело не только сказать читателям свое мнение о пожарах, твердо заявить о непричастности к ним студенческой молодежи (в то время, как чуть не все газеты утверждали обратное), но и рассказать о таких правительственных мерах, как учреждение следственной комиссии, ужесточение цензуры, закрытие «Современника». Это «наше обвинение, наш протест», — заявило «Время». На такую отчаянную выходку вряд ли позволил бы себе решиться в те дни какой бы то ни было другой журнал. Более того, в обозрении прямо осуждалась тактика правительственного террора. Конечно, журнал Достоевских не заявлял о своей близости к революционному, или, как говорили в то время, «пожарному», направлению, да и не мог делать такие заявления уже и потому, что действительно не разделял подобных методов борьбы. Но все-таки и в эту чрезвычайно опасную последствиями пору ясно проводил свою принципиальную линию: с идеями можно бороться только идеями. «Для обеспечения общественного спокойствия и для ограждения общества от вторжения в него ложных и вредных учений и идей есть и другое очень действенное средство, — говорилось в обозрении. — Зло ничего так не боится, как гласности и общеизвестности».
Да, время тревожное — не только закрыты «Современник» и «Русское слово» (дойдет очередь и до нашего журнала — теперь-то Достоевский был в этом полностью уверен), но и арестованы Чернышевский и Писарев. Поводом к аресту Николая Гавриловича послужил донос о перехваченном к нему письме Герцена...
Достоевскому, естественно, не желалось повторить свое недавнее путешествие в Сибирь, и все-таки, все-таки он ездил в Европу не только полечить нервы, передохнуть, набраться впечатлений: он ездил в Лондон, где встретился с Герценом (и неожиданно с бежавшим недавно из Сибири Бакуниным). Встреча не сделала Достоевского и Герцена единомышленниками, но они остались и после нее людьми лично, по-человечески, симпатичными друг другу30. Неприятие Герценом программы «Молодой России» еще более убедило Достоевского в необходимости решительного противостояния экстремизму и авантюризму ультрареволюционных подстрекательств, о чем он и посчитал нужным еще раз заявить в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1863 год, естественно, в формах, возможных для подцензурного слова, да еще и в новых условиях суровых репрессий. Собственно, в объявлении, по существу, были повторены основные положения его статьи «Два лагеря теоретиков», опубликованной еще в февральском номере за 62-й год. Достоевский вновь высказался против крайностей «Современника», по его убеждению, недооценивающего народ, навязывающего ему свою программу вместо того, чтобы понять интересы самого народа как силы самостоятельной, дать высказаться ему самому. Народ должен выйти на арену общественной жизни, иначе образованные «теоретики» в новых пореформенных условиях не смогут оставаться движущей силой общества, «Да, — писал он, — нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам, ибо наш народ способен к политической жизни. Если же стоять на точке зрения, что «народ глуп, ничего до сих пор не выработал; среда народная бессмысленна, тупа» — Достоевский цитировал Варфоломея Зайцева, одного из ведущих критиков «Русского слова», — то вряд ли можно рассчитывать на какой бы то ни было общественный прогресс, ибо мысль эта в высшей степени ретроградна».
Но столь же неприемлема для него и другая крайность, высказываемая теоретиками главного органа славянофилов — газеты «День» во главе с Иваном Аксаковым, которые, напротив, признают самостоятельную жизнь только в народе и отвергают как «ложь и фальшь» внутреннюю жизнь общества, просвещения, литературы. Оба лагеря, из которых, по его убеждению, один в принципе отвергает народность, а другой во имя своей теории не отдает справедливости нашему образованному обществу, «судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде, и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?»
Конечно, убеждал Достоевский, задача соединения культуры и народности не решается теоретически и в несколько дней: «время окончательного соединения оторванного теперь от почвы общества — еще впереди», но необходимо эту задачу осмыслить и работать на ее решение уже сейчас.
Теперь, готовя объявление о подписке и повторяя заветные мысли о необходимости утверждения в обществе ведущей положительной идеи, Достоевский высказался и о проблеме обличительства. «Боже нас сохрани, — писал он, — чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважали, а если обличение основано на глубокой, живой идее, то, конечно, оно нелегко достается... Мы рвемся к обновлению. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота...» Одни в своем обличительстве не признают за современной литературой никакой народности, даже Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский в этом смысле для них — нуль. Другие, напротив, направляют острие своих обличительств именно против народности, выставляя «в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые именно составляют его надежду и самостоятельную, вековечную силу. В своем отвращении от грязи и уродства они за грязью и уродством многое проглядели и многого не заметили. Конечно, желая искренне добра, они с любовью самоосуждения и обличения искали одного только «темного царства» и не видели светлых и свежих сторон. Мы, разумеется, отличали их от гадливых белоручек. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними».
Ни для кого не было секретом — речь шла о закрытом «Современнике», о его вождях, один из которых недавно умер, другой пребывал в Петропавловке, и вдруг — «искренняя и честная деятельность». Это опять-таки был не просто акт гражданского мужества «Времени» и лично Достоевского, но и отчаянный протест и вызов.
Здесь же Достоевский посчитал необходимым отделить обличительство «искренних друзей народа», пусть и неприемлемое для него, но достойное уважения, ибо честное, от обличительств многочисленных «крикунов, позорящих все, до чего они ни дотронутся, марающих иную, чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют... выезжащих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются эти убеждения. Они их тотчас же и продадут за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее...» Вот этаких-то «угрюмых тупиц дешевого либерализма», как он их называл, Достоевский ненавидел более всех.
Однако произошло нечто непредвиденное: сначала Некрасов вежливо отказался дать в журнал «Время» обещанные им ранее стихи, сославшись на то, что ему неудобно появляться в другом журнале во время опалы «Современника», тем более что распространился слух, будто он, Некрасов, «предал Чернышевского». Что ж, поступок Николая Алексеевича вполне можно понять. Но, когда истек срок закрытия «Современника» и в первом же его новом выпуске в январе 63-го года журнал резко, в фельетонной форме весь свой жар обличений обрушил на «Время», — Достоевский был ошарашен. Похоже, потеряв Добролюбова и в отсутствие Чернышевского главный их теоретик Антонович принял слова о «либеральном кнутике» на свой счет, решил Достоевский. Ну и поделом; однако зачем же на счет всего «Современника», а не на свой личный? Однако вскорости выяснилось, что анонимная статья принадлежала не Антоновичу, а пришедшему в журнал Салтыкову-Щедрину... Это известие и вовсе расстроило Достоевского: писателем Салтыковым он восхищался, хотя его общественные взгляды были для Федора Михайловича слишком туманны: то он «обличитель», то «господин надворный советник», вице-губернатор; то, кажется, славянофил31, да и к «Времени» как будто благоволил — всего несколько месяцев назад сам просил опубликовать его в журнале, а теперь вот в «умеренные нигилисты» записался (в отличие от «нигилистов неумеренных» — Писарева и Зайцева).
При всех своих несогласиях с «Современником», о которых он, кстати, никогда не умалчивал и при Добролюбове и Чернышевском, Достоевский отнюдь не видел в этом журнале антагониста: основная полемическая страсть «Времени» была направлена как раз против главного противника «нигилистов» — Каткова, пытающегося, как считал Достоевский, втиснуть русскую народность в аглицкие колодки: вот уж, право, патриотизм, совершенно родственный «патриотизму» англомана Павла Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей». Катков, воюющий с нигилизмом, считал Достоевский, сам-то и есть в первую очередь главный нигилист, ибо сам первый не верит в развитие народных начал. В свою очередь, и Катков после ареста Чернышевского видел основного своего противника прежде всего в Достоевском и его журнале.
Достоевский решил ответить на выпад «Современника», но так, чтобы объясниться, а не «расплеваться» с ним. Достоевский еще раз со всей определенностью заявил: «Добролюбов... стремился неуклонно к правде, то есть к освобождению общества от темноты, от грязи, от рабства внутреннего и внешнего, страстно желал будущего счастья и освобождения людей, а следовательно, был благородный деятель в нашей литературе. Даже может быть, самые ошибки его происходили иногда от излишней страстности его душевных порывов. Добролюбов мог даже... во многом изменить свой взгляд на вещи... найти другую, настоящую дорогу к своей цели, только одной своей благородной и праведной цели он не мог изменить никогда». Цели и средства — это разница... Но с людьми, не верящими в народ и вместе с тем прикрывающимися именем и фразой Добролюбова, необходимо бороться — объяснял Достоевский. Ответ, судя по всему, неудовлетворил «Современник», продолжавший свою борьбусо «Временем» и самим Достоевским.
Между тем все большую напряженность обретали и внешние политические события: с первых дней 63-го года вспыхнуло восстание в Польше.
Польский вопрос вообще был одним из самых острых, противоречивых и трудно разрешимых в условиях той реальной политической ситуации, которая сложилась в Европе. Вопрос давний, болезненный как для польского, так и для русского сознания.
В XIV—XVI веках, когда Русское государство, едва успев освободиться от 300-летнего Ордынского ига, вело нескончаемые войны за свою национальную, политическую и культурную независимость, в то самое время Польское королевство значительно расширило свои границы на востоке за счет древних русских, украинских и белорусских земель, проводя на них политику жестокого социального, национального и религиозного угнетения народов, подпавших под власть великопольских магнатов. В XVI—XVII веках Польша, будучи в ту эпоху страной, превосходящей Россию и по численности населения, и по военному потенциалу, вела чуть не постоянные войны с Россией, все еще пыталась осуществить давнюю мечту — присоединить к себе всю Московию. И однажды, в Смутное время, эта мечта, казалось, стала вполне реальной.
Но Русь крепла в тяжелейших испытаниях. Польское же государство, раздираемое внутренними противоречиями, напротив, слабело, но все еще продолжало участвовать в общеевропейских войнах за раздел и передел владений, в результате чего (после трех разделов самой Польши между Пруссией, Австрией и Россией) оно перестало существовать как самостоятельное. К России по этим разделам большей частью отошли именно те западнорусские, белорусские и украинские земли, которые прежде были отторгнуты Польшей. Земли, отошедшие к Пруссии и Австрии, были в короткий срок методически онемечены, гордый польский дух здесь, по существу, был истреблен и, во всяком случае, никак реально себя не проявлял. Даже само имя — Польша — сохранилось только на территории, вошедшей в состав России в качестве Царства Польского.
Любая форма утраты государственной самостоятельности трагична для национального сознания. Однако само это национальное сознание, идея государственного возрождения, патриотическая надежда и воля к ее осуществлению не случайно сумели сохранить себя, до существу, только на территории «русской» Польши. Здесь-то едва ли не постоянно и возникали вспышки, разгоравшиеся порою в серьезные восстания, сурово подавляемые царским правительством: в 1794-м, 1831-м и теперь вот — в 1863 году...