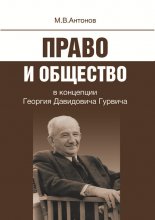Эра Милосердия Вайнер Георгий
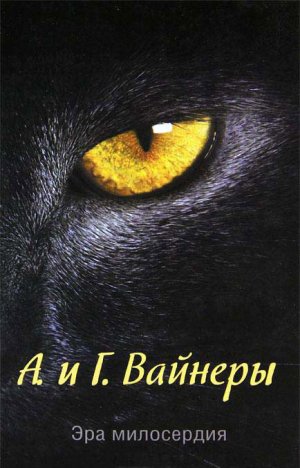
— А что же делать-то с ним, с маленьким? — спросила Синичкина. — Он ведь такой крошечный, как будет без матери — непонятно…
— Чего непонятного — вырастет! — сказал Жеглов, быстро перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. — Не бросит его страна, государство вырастит, ещё неизвестно, может быть, станет лучше других, в холе взлелеянных деток.
Синичкина спросила:
— А мать искать будем? Жалко маленького…
— На кой она нужна, такая мать?! — хмыкнул Жеглов. — Хотя личность её надо попробовать установить, от такой паскуды можно чего угодно ожидать…
На площадке пятого этажа нас встретил басистый могучий рёв, дверь в тридцать вторую квартиру была приоткрыта, старушка качала на руках завёрнутого в одеяло младенца.
— Проснулся вот — есть просит, — сказала она, протягивая нам свёрток, будто мы могли его накормить. Я очень осторожно взял ребёнка на руки и удивился, какой он лёгонький. Личико его покраснело от крика, он сердито открывал свой крошечный беззубый ротишко, издавая пронзительный гневный крик. Я сказал ему растерянно:
— Ну, потерпи, карапуз, потерпи немного… Потерпи, кутька, чего-нибудь придумаем…
Жеглов взглянул на меня, усмехнулся:
— Ты веришь в приметы?
— Верю, — сознался я.
— Добрый тебе знак. Мальчишка-найдёныш — это добрая примета, — сказал, улыбаясь, Жеглов и велел Синичкиной распеленать ребёнка.
— Зачем? — удивилась девушка, и я тоже не понял, зачем надо разворачивать голодного и, наверное, замёрзшего ребёнка.
— Делайте, что вам говорят…
Синичкина быстрыми ловкими движениями распелёнывала мальчика на столе, и мне приятно было смотреть на её руки — белые, нежные, несильные, какие-то особенно беззащитные оттого, что слабые запястья вырисовывались из обшлагов грубого шинельного сукна. Синичкина сердито хмурила брови, сейчас совсем немодные — широкие и вразлёт, а не тоненькие, выщипанные и чуть подбритые в плавные, еле заметные дуги.
Жеглов взял малыша на руки, и тот заревел ещё пуще. Держа очень осторожно, но крепко, Жеглов бегло осмотрел этот мягкий орущий комочек, вынул из-под него мокрую пелёнку и снова передал мальца Синичкиной:
— Всё, заворачивайте. Смотри, Шарапов, у него на голове родимое пятнышко…
На ровном пушистом шарике за левым ушком темнело коричневое пятно размером с фасолину.
— Ну и что?
— Это хорошо. Во-первых, потому, что будет в жизни везучим. Во-вторых, вот здесь, в углу пелёнки — полустёршийся штамп, — значит, пелёнка или из роддома, или из яслей. Пелёнку заверни, отдадим нашим экспертам — они установят, что там на штампе написано было. А тогда по родимому пятнышку и узнаем, кто его хозяин. Кстати, как думаешь, сколько времени пацану?
— Я думаю, недели две-три, — неуверенно предположил я.
— Ну да! Как же! — усомнился Жеглов. — Ему два месяца.
— Мальчику — месяц, — сказала Синичкина. — Он ведь такой крошечный…
— Эх вы, молодёжь! — засмеялась старуха, до сих пор молча наблюдавшая за нами. — Сразу видать, что своих-то не нянчили. Три месяца солдату: видите, у него рождённый волос уже полез с головы, на настоящий меняется, — значит, четвёртый месяц ему…
— Ну, и хорошо, скорее вырастет, — ухмыльнулся Жеглов. — Значитца, так: ты, Шарапов, с Синичкиной махнёшь сейчас в роддом. Какой здесь поближе? Наверное, на Арбате — имени Грауэрмана. Пусть осмотрят пацана — не заболел ли, не нуждается ли в какой помощи — и пусть его накормят там чем положено. А к вечеру договоримся — переведут его в Дом ребёнка…
— Слушай, Жеглов, а могут не принять ребёнка в роддоме? — спросил я.
Жеглов сердито дёрнул губой:
— Ты что, Володя, с ума сошёл? Ты представитель власти, и в руках у тебя дитё, уже усыновлённое этой властью. Кто это посмеет с тобой спорить в таком вопросе? Если всё же вякнет кто полслова, ты его там под лавку загони… Всё, марш!
Я нёс ребёнка, и, угревшись в моих руках, мальчик замолчал. Жеглов шагал по лестнице впереди и говорил мне через плечо:
— …Батяня мой был, конечно, мужик молоток. Настрогал он нас — пять братьев и сестёр — и отправился в город за большими заработками. Правда, нас никогда не забывал — каждый раз присылал доплатное письмо. Один раз даже приехал — конфет и зубную пасту в гостинец привёз, а на третий день свёл со двора корову. И, чтобы следов не нашли, обул её в опорки. Может быть, с тех пор во мне страсть к сыскному делу? А, Шарапов, как думаешь?
Я что-то такое невразумительное хмыкнул.
— Вот видишь, Шарапов, какую я тебе смешную историю рассказал… — Но голос у Жеглова был совсем невесёлый, и лица его в сумраке полутёмной лестницы было не видать.
Мы вышли из подъезда. Здесь всё ещё стояли зеваки, и Коля Тараскин говорил им вяло:
— Расходитесь, товарищи, расходитесь, ничего не произошло, расходитесь…
А слесарь Миляев, в краснофлотской шинели, покачиваясь слегка на своей деревяшке, водил перед носом Копырина чёрным сухим пальцем и доверительно объяснял:
— Я тебе точно говорю: в человеке самое главное — чтобы он был человечным…
Жеглов тряхнул головой, словно освобождаясь от воспоминания, пришедшего к нему на лестнице, и по тому, как он старательно не смотрел на меня, я понял, что он жалеет вроде бы о том, что разоткровенничался. И засмеялся он как-то резко и сердито, сказав шофёру:
— Слушай, Копырин, поскольку ты у нас самый человечный человек, то давай побыстрее отвези Шарапова с сержантом Синичкиной на Арбат в роддом. И мигом назад — в 61-е отделение милиции, это рядом, мы пешком дойдём. Я позвоню на Петровку, и мы вас там дождёмся…
Синичкина вошла в автобус, я протянул ей ребёнка. Жеглов придержал меня за плечо, шепнул на ухо:
— А к сержанту присмотрись! Девочка-то правильная! И адрес роддома запомни — может, ещё самому понадобится…
Я почему-то смутился, я ведь на неё как на женщину и не посмотрел даже, милиционер и милиционер, их сейчас, девушек-милиционеров, больше половины управления. Вся постовая служба, считай, ими одними укомплектована.
«Фердинанд» тронулся, Жеглов помахал нам рукой. Синичкина, прижимая к себе ребёнка, смотрела в затуманенное дождём стекло. И лицо её — круглое, нежное, почти детское — тоже было затуманено налётом прозрачной печали, лёгкой, как дымка, грусти. И я неожиданно подумал, что нехорошо разглядывать её вот так, в упор, потому что от слов Жеглова ушло то простое и естественное удовольствие, с которым я смотрел давеча, когда она пеленала мальчика, на её быстрые, ловкие руки. Но всё равно смотрел, с жадностью и интересом. Хорошо бы поговорить с ней о чём-нибудь, но ни одной подходящей темы почему-то не подворачивалось. А она молчала.
— Вы почему так погрустнели? — наконец спросил я. Она посмотрела на меня, улыбнулась:
— Задумалась, кем станет этот человечище, когда вырастет…
— Генералом, — сказал я.
— Ну, необязательно. Может, он станет врачом, замечательным врачом, который будет спасать людей от болезней. Представляете, как здорово?
— Да, это было бы прекрасно, — согласился я. — А может быть, он станет милиционером? Сыщиком?
Синичкина засмеялась:
— Когда он вырастет, уже никаких жуликов не будет. Вам сколько лет?
— Двадцать два.
— А ему двадцать два исполнится в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Представляете, какая замечательная жизнь тогда наступит?
— Да уж, наверное…
— Вы давно в уголовном розыске служите?
Мне было как-то неловко сказать, что сегодня фактически второй день, и я бормотнул уклончиво:
— Да нет, недавно. Я после фронта.
— А я просилась на фронт — не пустили. Вы не слышали, скоро будет демобилизация женщин из милиции?
— Не слышал, но думаю, что скоро. Когда я в кадрах оформлялся, слышал там разговор, что сейчас большое пополнение идёт за счёт фронтовиков.
— Ой, скорее бы…
— А что будете делать, когда шинель снимете?
— Как что? В институт вернусь. Я ведь со второго курса ушла.
— А вы в каком учились — в медицинском?
— Нет, — вздохнула Синичкина. — Поступала и не прошла, приняли меня в педагогический. Но мне кажется, что это тоже хорошая профессия — детей учить. Ведь правда, хорошая?
— Правда, — улыбнулся я.
Автобус проехал через собачью площадку и затормозил у роддома. Синичкина сказала:
— Вы не теряйте со мной времени, поезжайте назад, а за парня не беспокойтесь — я сама справлюсь…
Мне очень хотелось спросить у Синичкиной, как её найти, или хотя бы телефон записать, но Копырин уже распахнул дверь своим никелированным рычагом-костылём и, откинувшись на спинку сиденья, смотрел на нас с ухмылкой, и я представил себе, как, вернувшись, он будет всем рассказывать, что новенький опер, вместо того чтобы делом заниматься, стал клинья подбивать к симпатичному сержанту, и как все начнут веселиться и развлекаться по этому поводу, и от этого сказал неожиданно сухо:
— Хорошо. Оформите всё как полагается, и пришлите рапорт, а мы поедем.
Девушка посмотрела на меня удивлённо, ресницы её дрогнули:
— Слушаюсь. До свидания.
Тоненькая высокая её фигурка скрылась за дверью роддома, а я всё смотрел ей вслед, пока Копырин не сказал за спиной:
— Дуралей ты, Шарапов. Дивчина какая, а ты ей — «пришлите рапорт». Я бы на твоём месте ей сам каждый день рапорт отдавал…
4
На заводе, где начальником цеха ширпотреба тов. Голубин, начали изготовлять керосинки, известные под названием «керогаз». Они отличаются от обычных керосинок не только внешней формой и хорошей отделкой, но и новой конструкцией, экономичностью и бесшумным горением.
«Вечерняя Москва»
Около двух часов Жеглов заглянул в комнату, сказал:
— На выезд — мужика застрелили… Давайте быстро! — И закрыл дверь.
Я торопливо натянул шинель и вместе со всеми побежал к автобусу. В салоне было сыро, холодно, пронзительно воняло махоркой, и я с сочувствием посмотрел на пса — тот судорожно разевал громадную пасть и тряс головой. Я подумал, что, если бы собаки могли падать в обморок, Абрек, при его тонком нюхе, запросто лишился бы чувств. Но Абрек позевал, поёрзал и, удобно устроив здоровенную башку на коленях у проводника, задремал, изредка открывая глаза, когда шофёр включал пронзительно завывающую сирену. Автобус мчался с большой скоростью — пятьдесят, не меньше, — и я с удовольствием видел, как при звуках сирены прочие машины сбавляли скорость, сторонились, пропуская «фердинанд». По окну медленно скатывались грязноватые капли дождя, стекло было мутное, но я заметил, что каждый раз, когда пассажир из обгоняемой машины смотрел в нашу сторону, Шесть-на-девять принимал озабоченно-серьёзный вид утомлённого исключительными, первейшей государственной важности делами человека, хотя его и разглядеть-то никто не мог, потому что на улице было пасмурно, а автобус освещался одной-единственной крохотной автомобильной лампочкой в пятнадцать свечей.
Жеглов, пользуясь случаем, спал, судмедэксперт, обернувшись к Тараскину, о чём-то тихо с ним беседовал, и даже Шесть-на-девять угомонился, поднял бархатный воротничок своей куртки, натянул на глаза клетчатую кепку и о чём-то сосредоточенно думал…
Где-то в районе Нижних Котлов автобус заскрежетал, дёрнулся пару раз и остановился. Копырин своим рычагом открыл переднюю дверь, и я выскочил наружу первым, потом потянулись остальные. Нас встречал участковый — высокий худющий лейтенант в старой, заношенной шинели. Участковый поискал глазами среди прибывших начальство, и длинное унылое лицо его выражало растерянность и недовольство. Решив, видимо, что старший я, поднёс руку к козырьку:
— Покушение на убийство, товарищ начальник. При помощи огнестрельного оружия в лице охотничьего ружья… — И представился: — Участковый уполномоченный лейтенант милиции Воробьихин!
Жеглов усмехнулся мимолётно, приказал:
— Конкретно докладывай: где, когда, кого, кто?.. Ну! Охрана места происшествия обеспечена?
Воробьихин, оттого что не опознал начальника, смутился, растерянность его возросла, он неловко щёлкнул большими кирзовыми сапогами и начал путано объяснять, показывая рукой на одноэтажный домик, около которого толпились люди:
— Вот в этом, значит, доме дело было… Фирсов тут живёт, Елизар Иваныч. Фронтовик, человек положительный. В общем, гость у него сегодня был, друг его. Они, значит, за столом сидели, потом Елизар Иваныч плясать стал, а друг его на гармони играл. Глядь, ни с того ни с сего выстрел через окно, стекло — чпок! — конечно…
— Попал? — спросил Жеглов.
— В Елизар Иваныча — в голову, в плечо… дробью.
— Ну?..
— «Скорая» увезла — жив был, только без сознания.
— Пошли! — махнул рукой Жеглов, двинулся к домику, уже на ходу спрашивая дальше: — Кто-нибудь видел преступника?
— Не видели… — вздохнул огорчённо участковый. — Друг-то его сразу кинулся к Елизару Иванычу, а уж как жена в комнату вбежала, он тогда на улицу подался… Да где там, этого, кто стрелял, уже и след простыл…
— Подозреваешь кого? — спросил Жеглов, входя через калитку за палисадник и направляясь не к дверям домика, как я ожидал, а к окнам. Одно было разбито, и Жеглов задержался около него.
— Трудно сказать… — неопределённо отозвался Воробьихин. — Есть у нас, конечно, шпана разная, но ведь в лицо-то не видели. Как тут привлекать?..
— Привлекать погодим, — согласился Жеглов. — Сначала лицо надо определить подходящее… Значитца, так-с… Тараскин, Гриша, ну-ка посветите перед окном фонарями!
Мягкая мокрая земля перед окном вся была истоптана. Уловив недовольный взгляд Жеглова, Воробьихин сказал, разведя руками:
— Это ещё до моего прибытия, товарищ начальник. Народу тьма под окном побывала.
Жеглов хмыкнул, вопросительно посмотрел на проводника Алимова, тот, в свою очередь, посмотрел на Абрека и пожал плечами:
— Я его от палисадника пущу, товарищ капитан. Всё ж таки меньше там натоптали… — И, намотав на руку ремень-поводок, побежал с собакой за калитку.
Жеглов внимательно осмотрел раму разбитого окна, обернулся, заметил меня, подозвал к себе:
— Иди сюда. Видишь, дыра в наружном стекле не очень большая, внутреннее стекло разбилось сильнее. В деревянной раме следов от дроби совсем мало. Это что означает?
— Кучно заряд летел, — сказал я.
— Значит?..
— Значит, близко стреляли, из палисадника.
— Правильно, — одобрил Жеглов. — А посему обыщите с Тараскиным весь палисадник перед окнами, особенно вон тот крыжовник, и найдите мне следы ног преступника. Ежели найдёте пуговицу его или там носовой платок — поощрю особо!
Тараскин кивнул совершенно серьёзно — ясно, мол, будет сделано, — но мне не казалось таким очевидным, что преступник специально приготовил для нас против себя улики, и я спросил:
— А если там ничего этого не будет?..
— Тогда там обязательно будет пыж. Знаешь, что такое? — прищурился Жеглов. — Кто ищет, тот всегда найдёт. Валяйте, а я пойду в дом, там пора осмотреться…
К великому моему удивлению, через несколько минут в гуще крыжовника действительно нашли незатоптанные следы обуви, особенно отчётливым был след правого сапога, глубоко отпечатавшийся в глинистой податливой почве.
— Вот отсюда он и стрелял, паразит, — сказал Тараскин. — Видишь, прямая линия к окну проходит и всё, что в комнате, — как на ладони. А его самого с улицы за кустами не видно. Шарахнул — и ходу!
Освещая землю фонариком, мы старательно, сидя на корточках, просматривали весь участок перед окнами, но ничего интересного больше не находили. Уже собрались заканчивать, когда я углядел вдавленный чьим-то каблуком в глину комочек бумаги. Аккуратно выковыряв его ножом, осветил фонарём вплотную, осторожно расправил на ладони — кусок рваной газеты, резко отдававший кислой пороховой гарью. Это был пыж.
Вернулся с улицы проводник с собакой. Абрек следа не взял, и Алимов ворчал себе под нос насчёт того, что несознательный народ не создаёт ну никаких тебе условий для работы. Из дома появился Жеглов. Я уже вошёл в азарт и даже слегка волновался в предвкушении похвалы за свой первый успех. Но Жеглов воспринял мой рапорт о находках как нечто должное.
— Ага. Ладно, — сказал он только и повернулся к фотографу Грише: — Сейчас Копырин в больницу поедет. Ты отправляйся с ним, заедешь в нашу многотиражку, там есть подшивки газет, в первую очередь «Правду», «Известия» и «Вечёрку» надо тебе будет смотреть. А пыж приведи в божеский вид и попробуй узнать, от какой газеты кусок. Если удастся, постарайся найти тот самый номер газеты и быстро-быстро вези сюда. Понял?
— Понял, — кивнул Шесть-на-дсвять. — Я один раз по страничке, вырванной из книги, владельца определил…
— Во-во, — перебил Жеглов. — Всё, двигай. Одна нога здесь, другая там!
Гриша пошёл к автобусу, а Жеглов спросил участкового:
— Воробьихин, у кого на твоём участке ружья охотничьи имеются?
— Да вроде бы и не припомню, — сказал, подумав, Воробьихин. — У нас как будто охотников нету, у нас больше рыбалкой занимаются…
— Пронин Сенька ружьишком баловался, — неожиданно подал голос молчавший до сих пор сухопарый мужичонка в серой телогрейке — сосед Фирсова, взятый Жегловым в понятые.
— Про-онин? — переспросил участковый. — Не-ет, он ещё когда свою «тулку» на велосипед поменял.
— Всё равно надо с ним повидаться, — сказал я. — Они с Фирсовым-то в каких отношениях?
— В нормальных, ничего промеж ними не было, — ответил Воробьихин.
— Ну, коли и не было, он небось про охотников-то побольше твоего знает, — сказал участковому Жеглов. — Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. И охотник то же самое.
Пронин подтвердил слова участкового и даже велосипед показал — старенькую ободранную «украинку» с разноцветными шинами: одной чёрной, другой — видимо, трофейной — зелёной. И насчёт охотников уверенно сказал:
— Нет ни одного во всей округе, я, может, потому «тулку» и продал, что не с кем в компании, значит, на охоту сбегать…
А когда шли уже по улице, возвращаясь к дому Фирсова, Пронин догнал нас и, запыхавшись, поведал:
— Совсем из головы вон! У меня недели две назад Толик Шкандыбин порох и дробь одалживал — патронов на пять. Я ещё его спросил: «Ты что, полевать задумал?» А он говорит: «В деревню собираюсь, может, и поброжу по лесу с ружьишком. Там охота, — говорит, — раньше богатая была».
— Так у него ружьё есть, выходит? — спросил Жеглов, иронически взглянув на Воробьихина.
— Нету, нету у него ружья, — торопливо сказал Пронин. — Я потому и забыл про него. У деда, говорит, двустволка, он колхозную конюшню сторожит.
Жеглов одобрительно похлопал Пронина по плечу и отпустил его. Воробьихин сказал задумчиво, вполголоса, будто сам с собой советовался:
— Вот Шкандыбин — это как раз шпана отпетая. Сидел не раз и поныне элемент уголовный. И живёт с Фирсовым по соседству…
— Какие-нибудь счёты, споры между ними были? — деловито спросил Жеглов.
— Насчёт этого не скажу, не слыхал. Заявлений от граждан не было.
Похоже было, что Жеглову надоел бестолковый участковый, потому что он сказал весело-зло:
— Слушай, Воробьихин, ты вообще-то для чего здесь проедаешься, а? Насчёт этого ты не слыхал, того не видал, прочего не знаешь, а в остальном не в курсе дела.
Воробьихин обиженно скривил рот, забубнил что-то в своё оправдание, но Жеглов больше его не слушал. Он шёл по улице широким, размашистым, чуть подпрыгивающим шагом, за ним безнадёжно пытался угнаться участковый Воробьихин, который перестал интересовать Жеглова, словно и не существовало его никогда, и не говорили они ни о чём, и сроду нигде не встречались.
Именно тогда, в тот вечер, мне впервые пришло в голову, что Жеглов никогда не остановится на полпути, и человеку, в чём-либо разочаровавшему или рассердившему его, лучше отступить с дороги. И тогда, в тот незапамятно далёкий вечер, я ещё не знал, нравится мне это или вызывает глухое раздражение, поскольку меня восхищал жегловский опыт и умение заставить работать всех быстро и с полной отдачей и в то же время пугала способность вот так мгновенно и бесповоротно вычеркнуть человека, словно тряпкой с доски слово стереть.
Войдя в дом, Жеглов спросил жену и соседей пострадавшего:
— Ну-ка, друзья, вспоминайте, думайте, говорите — имел Толик Шкандыбин за что-нибудь зуб на Елизара Иваныча, а?
Жена ничего определённого сказать не могла, но вездесущий сосед сообщил:
— А как же! Была меж них крупная баталия… Толик этот, Шкандыбин, как вернулся последний раз из лагеря, заскучал: дружков его всех почти прибрали ваши, значит, милицейские товарищи. У него только и делов осталось — по вечерам ворота подпирать… Теперь завёл он новую моду: соберёт на лавочке пацанов-малолеток и давай про жизнь блатную, вольготную сказки рассказывать. Пацаны, известно, варежки разевают, а он им, гад, травит и травит. Елизар-то Иваныч сразу сообразил, зачем он компанию себе сколачивает, папиросами да винцом мальчишек угощает. На той неделе проходит Елизар Иваныч мимо сборища этого, услышал — кто-то из мальцов матом кроет. Невтерпёж ему, видать, стало, подходит он к ним и говорит Толику: «Ты вот что, кончай это дело, сам себе живи как хочешь, не маленький, а ребят оставь в покое». А Толик смеётся. «Я, — говорит, — их не зову, они сами ко мне липнут, что ж мне, гнать их, что ли?» Ну, Елизар Иваныч в дискуссию с ним вступать не стал, он человек простой — поднёс к его роже кулачище свой пудовый и пояснил: «Я тебе слово своё сказал. Не послушаешь — милицию звать не буду, сам тебя отработаю так, что мать родная не узнает!» Шкандыбин вскочил, распсиховался, на губах пена — авторитета, видать, жалко, — и кричит Фирсову: «Ты потише, так твою и растак, пока пера моего не пробовал! Я те все кишки наружу выпущу!» Елизар Иваныч нервничать не стал, вмазал Толику легонько по морде, тот кровью и залился, на ногах не устоял. А Елизар Иваныч ребятишек прогнал по домам, на том всё и кончилось…
— Видать, не кончилось, — задумчиво сказал Жеглов и поднялся. — Давайте-ка Толика этого пощекочем…
В дверях появился шофёр Копырин — он доложил, что рана, к счастью, оказалась неопасной и через недельку-другую врачи обещают Фирсова выписать.
— Мелкий текущий ремонт, — заверил Копырин. — Смена масла, шприцовка, шпаклёвка, лёгкая подкраска — и пожалуйте в рейс…
— Какого масла? — испугалась жена.
Жеглов засмеялся:
— Не обращайте внимания — наш Копырин уверен, что господь бог сотворил человека по образу и подобию автомобиля…
Я нетерпеливо дёрнул Жеглова за руку:
— Не смотается Шкандыбин-то, пока мы здесь толчёмся?
— Идём, идём, — кивнул Жеглов и сказал соседу: — А тебя, дружок, попрошу проводить нас к этому деятелю…
Подойдя к дому Шкандыбина, Жеглов остановился.
— Иди с Абреком вперёд, — сказал он проводнику. — Пусть пёс его облает хорошенько.
— Глеб Георгиевич, шутите? — укоризненно спросил Алимов. — Абрек на кого попало лаять не станет. Если бы его след вывел…
— Если бы след вывел, — нетерпеливо перебил Жеглов, — я бы Шкандыбина сам облаял получше твоего пса. Делай что говорят!
— Есть, — сказал проводник, поджав и без того тонкие сухие губы, пошёл вперёд, и по лицу его я видел, что он всё равно поступит по-своему.
Абрек, войдя в комнату, заворчал и разок гавкнул, но сделано это было, по-моему, чисто формально, только чтобы команду проводника выполнить. Однако чернявый парень, развалившийся на кровати, покрытой лоскутным одеялом, отнёсся к появлению огромной собаки иначе. Он сел и, глядя с опаской на пса, спросил нахально и в то же время трусливо:
— Чего надо? Кто такие?
Поскольку вместе с оперативниками в комнату вошёл Воробьихин, вопрос его прозвучал фальшиво; парень, видно, сообразил это, сморщился, как от кислого, и сказал протяжно:
— Ну что вяжетесь? Нет за мной ничего, я в артели работаю…
— Одевайся, Шкандыбин, — тихо, зловеще сказал Жеглов. — Мы из МУРа…
— Вижу, что не из церкви. И чего вы ко мне липнете?
— Одевайся, тебе говорят, — ещё тише сказал Жеглов, и я вдруг заметил, что сам испугался голоса своего шефа. Видимо, побоялся спорить и Шкандыбин — молча натянул штаны, обул щегольские сапоги гармошкой, взял со стула пиджак.
— А теперь скажи нам, друг ситный, где ружьё, — спокойно предложил Жеглов.
— Нет у меня никакого ружья, — быстро ответил Шкандыбин. — Хоть весь дом обыщите!
— Обыщем, — пообещал Жеглов. — Но лучше сэкономь нам время — тебе же зачтётся. Помоги, как говорится, следствию…
— Я сказал — нету. Ничего такого у меня в доме нет.
— Тараскин, присмотри за ним, — распорядился Жеглов. — А мы поищем…
Обыск ещё продолжался, когда в комнату вошёл Шесть-на-девять и молча положил перед Жегловым газету. Жеглов распорядился очистить стол, развернул на нём газету, и я увидел, что это старый номер «Вечерней Москвы» за второе сентября с дырочками от подшивки на полях. Жеглов погладил газету, спросил Шкандыбина равнодушно:
— «Вечернюю Москву» читаешь?
— На кой мне? — отозвался Шкандыбин. — Я папиросы курю.
— Понял, — сказал Жеглов, подошёл к платяному шкафу, который я уже осматривал, и вытянул бельевой ящик. В ящике лежали рубашки, носки, майки. Жеглов, брезгливо оттопырив мизинец, вытащил их, достал из ящика застеленную на фанерном дне газету с грубо оторванным углом. — Сам газетку застилал или попросил кого?
— Сам, — сказал с удивлением Шкандыбин.
— Чудненько, — кивнул Жеглов, оглядел внимательно газету и, положив её на стол, разгладил поверх «Вечерней Москвы». Я оторвался от этажерки, которую в это время осматривал, подошёл к столу. Газета из ящика тоже была «Вечерней Москвой», а вглядевшись, я с удивлением обнаружил, что и она за второе сентября.
— Иди-ка сюда, Шкандыбин, смотри и слушай меня внимательно, — сказал Жеглов. — Вот эту газету я велел привезти мне из редакции ещё до обыска, она за второе сентября. У тебя из ящика мы добываем такую же газету, гляди, гляди. Так?
— Так, — хмуро кивнул Шкандыбин.
— Вот и спрашивается: каким же макаром я так в цвет попал, а?
— Не знаю, — пожал плечами Шкандыбин.
— Ты вот что, мил друг, плечиком не дёргай, когда тебя Жеглов спрашивает. Ты думай и отвечай по делу!
— Да я ей-богу не знаю! — взмолился Шкандыбин, и было видно, что ему и в самом деле невдомёк, как такое могло случиться. Не понимал пока и я, к чему ведёт Жеглов.
— Ну, не знаешь — сейчас узнаешь, — пообещал Жеглов и кивнул Грише: — Давай сюда конверт!
Шесть-на-девять протянул Жеглову конверт. Жеглов вынул из него неровный клок газетной бумаги.
— Видишь, бумажка эта была сильно смята, а потом разглажена, — сказал Жеглов. — Это мы её разгладили. А до того, как мы её разгладили, вот этот товарищ… — Жеглов показал на меня, — нашёл её в скомканном и слегка подпаленном виде под окном товарища Фирсова, тобою подстреленного…
Говоря всё это, Жеглов примерял обрывок к верхней газете, к неровному её краю. Когда наконец в одном месте обрывок аккуратно сошёлся с краем, Жеглов довольно ухмыльнулся:
— Бумажечка скомканная — это пыж, дорогой мой гражданин Шкандыбин, пыж из твоего ружьишка, которое мы теперь несомненно разыщем. Погляди, полюбуйся, как бумажечка к твоей газете подходит — вот отсюда, с этого самого местечка, ты её и оторвал, когда снаряжал свой поганый патрончик. Да не вышло — с МУРом, брат, шутки плохи!..
— Сколько скостят, если я ружьё сам выдам? — глухо спросил Шкандыбин.
— А вот это уже мужской разговор. Я ж тебе с самого начала предлагал нам сэкономить время, — коротко всхохотнул Жеглов и уверенно закончил: — Треть, я думаю, скостят непременно, сам позабочусь!..
Стемнело совсем. За окном, не переставая, моросил мелкий слякотный дождик, в кабинете было холодно, у меня даже ноги замёрзли, и, когда я сказал об этом, Жеглов рассмеялся: «Зато летом будет не жарко, с улицы раскалённой сюда вваливаешься, как в рай божий…» Это не слишком меня утешило, но отвлекаться было некогда — вызов следовал за вызовом, телефон звонил непрестанно.
— Я отлучусь ненадолго, — сказал Жеглов, одёрнул гимнастёрку, причесался перед зеркалом, вделанным почему-то во внутреннюю дверцу сейфа, и испарился.
Не успели ещё затихнуть его шаги в длинном коридоре, как зазвонил телефон.
Я снял трубку:
— Оперуполномоченный Шарапов слушает.
Докладывал дежурный из 37-го отделения:
— Явился к нам тут гражданин один, сам он строитель. Сегодня ремонтировали домишко на Воронцовской и в стене, под штукатуркой, как дранку вырвали, тайник обнаружился, а в нём банка стеклянная… Алло…
— Слушаю, слушаю, — торопливо сказал я.
— Двадцать золотых десяток захоронено, николаевских…
— Ну?..
— Напарник этого гражданина — он же первый банку и вытащил — дал ему пять червонцев и велел помалкивать. А остальное золотишко себе забрал. Какие будут указания?
— А какие указания? — удивился я. — Брать надо этого шкурника с поличным, и все дела…
— Есть! — сказал дежурный и положил трубку.
И вот тут-то меня взяло сомнение: сегодня я уже не раз имел случай убедиться, что некоторые вещи, которые выглядели бесспорными и очевидными, с точки зрения уголовного розыска оказывались не такими уж простыми и требовали решений, вовсе не обязательно вытекавших из житейского опыта. Я ещё подумал, что дежурный 37-го отделения не первый, наверное, день в милиции, а счёл нужным запросить указаний — значит, дело не представляется ему таким простым, как мне кажется… Я покряхтел немного и набрал номер нашего коммутатора, вызвал тридцать седьмое. Дежурный отозвался немедленно.
— Алло, — сказал я натужно и покашлял. — Это Шарапов из МУРа, насчёт золотишка…
— Сей секунд выезжаем, — отрапортовал дежурный.
— А ты погоди, — сказал я. — Тут, может, с кондачка решать не стоит. Я, понимаешь, человек здесь новый…