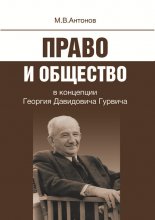Эра Милосердия Вайнер Георгий
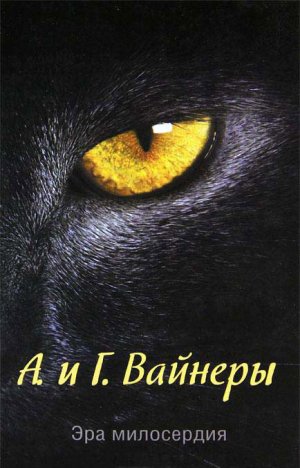
Я только сейчас как следует рассмотрел Маню: хорошенькое круглое личико с круглыми же кукольными глазами, губы накрашены сердечком, и завитые жёлтые локоны уложены в модную сеточку с мушками. Под круглым зелёным глазом светился наливной глянцевитый фингал, переливающийся, словно ёлочная игрушка.
Жеглов обернулся в зал и скомандовал:
— Пасюк, Тараскин, усаживайте беспаспортных в автобус! — Потом повернулся ко мне: — Вот, Володя, довелось тебе поручкаться с Манькой Облигацией — дамой, приятной во всех отношениях. Только работать не хочет, а наоборот, ведёт антиобщественный образ жизни…
— А ты меня за ноги держал, мент проклятый, чтобы про мой образ жизни на людях рассуждать?! — бешено крикнула Манька Облигация и выругалась матом так, что я, глядя на эти губы сердечком, выбросившие в один миг залп выражений, не всякому артиллерийскому ездовому посильных, просто ахнул от неожиданности.
Жеглов рассмеялся и сказал:
— Ох, Маня, Маня, ты мне так молодого человека совсем испортишь…
Он огляделся, нашёл взглядом швейцара, тулившегося в тени около раздевалки, кивнул ему:
— Я о тебе, старик, чуть не позабыл в суматохе. — Подошёл к его тумбочке, бесцеремонно открыл шкафчик и стал выгребать оттуда обеими руками пачки американских сигарет «Кэмел», запечатанные маленькие бутылочки одеколона, заграничные презервативы, похабные открыточки. — Да-а, у тебя тут целый склад. Магазин для кобелирующих личностей. Всё, собирайся, старик, поедешь с нами…
Около нашего «фердинанда» Манька Облигация поскользнулась, я подхватил её под руку и, подсаживая в машину, наткнулся рукой на браслет, плотно охватывавший запястье. В тусклом свете внутри машины было его не разглядеть как следует, но мне показалось, что браслет по форме сделан в виде змеи.
Жеглов встал на подножку, огляделся, махнул рукой:
— Трогай, Копырин. Наш паровоз, вперёд лети…
Задержанные возбуждённо переговаривались. Манька глянула на них с полным пренебрежением:
— Эй вы, фраера битые, чего трясётесь? — Захохотала и запела непристойную песню.
Копырин прислушался к словам, оторопело покачал головой и задумчиво сказал:
— Странный народ эти шлюхи — ни дома им не надо, ни семьи, ни покоя, ни достатка, а надобен им один срам!
Я пересел к Жеглову на переднее сиденье и негромко сказал:
— Мне кажется, что на руке у Маньки браслет в виде змеи.
— Да? — заинтересовался Жеглов и нагнулся к девице: — Маня, а не скажешь мне по старой дружбе, с кем это ты так красиво отдыхала?
— А тебе что? Неужто меня ревнуешь? Так ты только скажи, я тебе всё время буду верная. Ты парень хоть куда! Губы у тебя толстые, а зад поджарый, — значит, в любви ты горячий…
— Про нас с тобой мы ещё поговорим, а покамест ты мне про кавалера скажи. Может, я его знаю?
Манька засмеялась:
— Ты-то, может, и знаешь, а я вот имени-отчества его спросить не успела…
— А чего же ты побежала тогда?
— Так я только выходить из уборной стала, как и вы в дверь насунулись. Ну, думаю, пусть пройдут — мне с тобой лишний раз здоровкаться мало радости.
— А чего же ты со мной поздороваться не хотела? — И добро, почти ласково, взяв её за руку, погладил по рукаву Жеглов и, словно забыв, оставил её ладонь в своей руке, только чуток, совсем еле-еле, потянул на себя — и вылезло из рукава запястье.
Даже здесь, в полумраке, я отчётливо разглядел червлёную жёлтую ящерку с мерцающим зелёным глазком.
— Больно надо! Ты же обещал меня ещё в прошлый раз упечь? — удивилась Манька очевидной глупости жегловского вопроса.
Жеглов отпустил её руку и встал.
— Да, Маня, это ты, пожалуй, права. На сей раз я тебя точно упеку…
Толпой ввалились в дежурную часть, и Манька привычно направилась вслед за остальными задержанными к барьеру, но Жеглов остановил её:
— Маня, с тобой у нас разговор особый, идём пошепчемся. — А дежурному крикнул: — Соловьёв, проверишь этих пятерых, если в порядке — пусть гуляют. Швейцара не отпускай, мы с ним ещё потолкуем про разные всякости. Рапорт тебе мои ребята принесут…
Махнул рукой мне — давай, мол, за мной, — вместе с Манькой мы поднялись на притихший и опустевший второй этаж, пришли в кабинет, не спеша расселись, и Жеглов сказал невзначай, будто случайно на глаза попалось:
— Красивый, Маня, у тебя браслетик…
— Ещё бы! Вещь старинная, цены немалой!
— Сколько платила?
Манька подумала немного, глянула Жеглову в лицо своими кукольными нежными глазками:
— Не покупная вещь-то. Наследство это моё. Память мамочкина…
— Ну-у? — удивился Жеглов. — Маня, ты же в прошлый раз говорила, что матери своей и не помнишь?
Манька сморгнула начернёнными длинными ресницами, а глаза остались неподвижными, пустыми, без выражения:
— И чего из этого? Не отказываюсь! Память мамочкину папа мне передал, погибший на фронте, и сказал, уезжая на войну: «Береги, доченька, единственная память по маме нашей дорогой». И сам тоже погиб, и осталась я сироткой — одна-единственная, как перст, на всём белом свете. И ни от кого нет мне помощи или поддержки, а только вы стараетесь меня побольнее обидеть, совсем жуткой сделать жизнь мою, и без того задрипанную…
Жеглов поморщился:
— Маня, не жми из меня слезу! Про маму твою ничего не скажу — не знаю, а папашку твоего геройского видеть доводилось. На фронте он, правда, не воевал, а шниффер был знаменитый, сейфы громил, как косточки из компота.
— Выдумываете вы на нашу семью, — сказала горько Маня. — Грех это, дуролом ты хлебаный… — И снова круто заматерилась.
— Ну ладно, — сказал Жеглов. — Надоело мне с тобой препираться.
Маня открыла сумочку, достала оттуда кусок сахару и очень ловко бросила его с ладони в рот, перекатила розовым кошачьим языком за щёку и так, похожая на резинового хомячка в витрине «Детского мира» на Кировской, сидела против оперативников, со вкусом посасывая сахар и глядя на них прозрачными глазами. Жеглов устроился рядом с ней, наклонив чуть набок голову, и со стороны они казались мне похожими на раскрашенную открытку с двумя влюблёнными и надписью: «Люблю свою любку, как голубь голубку». И совсем нежно, как настоящий влюблённый, Жеглов сказал Мане:
— Плохи твои дела, девочка. Крепко ты вляпалась…
И Маня спокойно, без всякой сердитости сказала:
— Это почему ещё? — И бросила в рот новый кусок сахару и при этом отвернулась слегка, словно стеснялась своей любви к сладкому.
— Браслетик твой, вещицу дорогую, старинную… третьего дня с убитой женщины сняли.
Жеглов встал со стула, прошёл к себе за стол и стал с отсутствующим видом разбирать на нём бумажки, и лицо у него было такое, будто он сообщил Маньке, что сейчас дождик на дворе — штука пустяковая и всем известная, — и никакого ответа от неё он не ждёт, да и не интересуют его ни в малой мере её слова.
А я вытащил из ботинка эту поганую проволоку и стал прикручивать бечёвкой отрывающуюся подмётку, но и с бечёвкой она не держалась; я показал Жеглову ботинок и сказал:
— Наверное, выкинуть придётся. Сапоги возьму на каждый день…
— А ты съезди на склад — тебе по арматурному списку полагается две пары кожаных подмёток в год.
— Где склад-то находится?
— На Шелепихе, — сказал Жеглов и объяснил, как туда лучше добраться. — Заодно получишь зимнее обмундирование.
Мы поговорили ещё о каких-то пустяках, потом Жеглов встал, потянулся и сказал Маньке:
— Ну, подруга, собирайся, переночуешь до утра в КПЗ, а завтра мы тебя передадим в прокуратуру…
— Это зачем ещё? — спросила она, перестав на мгновение сосать сахар.
— Маня, ты ведь в наших делах человек грамотный. Должна понимать, что мы, уголовный розыск, в общем-то пустяками занимаемся. А подрасстрельные дела — об убийствах — расследует прокуратура.
— По-твоему, выходит, что за чей-то барахловый браслет мне подрасстрельную статью? — сообразила Маня.
— А что же тебе за него — талоны на усиленное питание? Угрохали вы человека, теперь пыхтеть всерьёз за это придётся.
— Не бери на понт, мусор, — неуверенно сказала Маня, и я понял, что Жеглов уже сломал её.
— Маня, что за ужасные у тебя выражения? — пожал плечами Жеглов. — Я ведь тебе сказал, что это вообще нас не касается. Ты всё это в прокуратуре говори, нам — до фонаря…
— Как до фонаря?! — возмутилась Маня. — Ты меня что, первый день знаешь? Ты-то знаешь, что я сроду ни с какими мокрушниками дела не имела…
— Знаю, — кивнул Жеглов. — Было. Но время идёт — всё меняется. А кроме того, я ведь оперативник, а не твой адвокат. Кто тебя знает, может, на самом деле убила ты женщину, а браслетик её — на руку. Как говорят среди вашего брата, я за тебя мазу держать не стану.
— Да это мне Валька Копчёный вчера подарил! — закричала Манька. — Что мне у него, ордер из Ювелирторга спрашивать, что ли? Откуда мне знать, где он браслет взял?..
— Перестань, Маня, это не разговор. Ну, допустим, мог бы я за тебя заступиться. И что я скажу? Маньке Облигации, по её словам, уголовник Валька Копчёный подарил браслет? Ну кто это слушать станет? Сама подумай, пустая болтовня…
— А что же мне делать? — спросила Манька, тараща круглые бестолковые глаза.
— Ха! Что делать! Надо вспомнить, что ты не Манька, а Мария Афанасьевна Колыванова, что ты человек и что ты гражданка, а не чёрт знает что, и сесть вот за этот стол и внятно написать, как, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Валентин Бисяев подарил тебе этот браслет…
— Да-а, написать… — протянула она. — Он меня потом за это письмо будет бить до потери пульса!
— Ты напиши, а я уж обеспечу, чтобы пульс твой он оставил в покое. Ему в этом кабинете обижать тебя будет затруднительно.
— Ему-то затруднительно, а дружки его? Они как узнают, что я его завалила, так сразу меня на ножи поставят…
— Поставят на ножи — это как пить дать, — согласился Жеглов. — Правда, они тебя могут поставить на ножи, если ты его и не завалишь. Это в том случае, если ты по прежнему будешь шляться по их хазам и малинам, по вокзалам и ресторанам. Тебе работать надо — смотреть на тебя срамотно: молодая здоровая девка ведёт себя чёрт те как! Паскудство сплошное…
— Ты меня не совести и не агитируй! Не хуже тебя и не меньше твоего понимаю…
— Вот и видать, допонималась. Ну ладно, мне домой пора. Ты будешь писать заявление, как я тебе сказал?
Манька подумала и твёрдо кивнула:
— Буду! Чего мне за них отвечать? Он меня чуть под тюрьму не подвёл, а я тут за него пыхти!..
Она удобно устроилась за столом Жеглова, глубокомысленно глядела в лист бумаги перед собой и, начав писать, вытянула губы трубочкой, словно ловила кусок сахару, который должен был прыгнуть со строки.
Жеглов подошёл ко мне и сказал тихонько:
— Дуй в дежурную часть, приведи двух понятых — будем оформлять изъятие браслета… И найди Пасюка и Тараскина — пусть они едут на квартиру брать Копчёного…
10
Рим, 30. ТАСС.
По сообщениям печати со склада в городе Комо похищены находившиеся там на хранении 27 ящиков, содержавших архив Муссолини, в частности его обширную переписку с Гитлером, Чиано, Черчиллем.
Валентина Бисяева, по кличке Копчёный, доставить ночью в МУР не удалось — у себя дома он не был две недели, и Пасюк с Тараскиным, объехав несколько дам, у которых он мог, по их предположению, ночевать, вернулись ни с чем.
Его розыски могли бы затянуться, кабы не Манька Облигация, уже начавшая томиться от одиночества — её пугало, что всё никак не привозят Копчёного, дабы он подтвердил и опознал свой подарок, освободив её тем самым от обвинения в убийстве и грабеже; вот Манька и сказала утром Жеглову:
— А вы бы съездили в Парк культуры, он там часто ошивается, в бильярд катает…
Жеглов, взявший уже старые розыскные дела на Копчёного, чтобы наметить план поиска, поднял на неё взгляд и сказал задумчиво:
— Вот это дельная мысль, Маня. Я вижу, что в тебе просыпается гражданское сознание!
— Чихала я на твоё сознание! Он там закопался промеж картёжников, как клоп в ковре, а я за него отдувайся! Мне тоже нет резона за чужие дела здеся париться!
Жеглов выписал из дел несколько адресов и имён, дал листочек Пасюку и велел им с Тараскиным объехать кандидатов.
— Вызывайте Копырина и жарьте на «фердинанде». А мы с Шараповым и Гришей на место прокатимся. Часа через два вернёмся, ты с дороги позвони — какие там вести…
Пока мы катили в вагоне, шли через Крымский мост и по набережной, срезая наискосок выставку трофейной фашистской техники, Шесть-на-девять рассказывал о том, как он замечательно играл раньше на бильярде — «ну, если по честному, просто жил с этого заработка»… Рассказ был очень длинный, запутанный, и краем уха я слышал, что оторвала его от этой игры любимая женщина-лилипутка, которая жила на Новослободской и имела постоянную прописку.
— А на кой тебе была лилипутка? — лениво, с ухмылкой спрашивал Жеглов.
— Так она, собственно, была не лилипутка, а такая ма-а-а-ленькая женщина и сложена была как богиня…
Я смотрел на разбитые немецкие машины, и меня не покидало удивление, что эти уродливые неповоротливые обгоревшие груды металла в аляповатой пятнистой раскраске, бессильные и отвратительные, ещё полгода назад могли меня убить.
И не стало для меня больше ничего — ни этого серого, мягкого осеннего дня, которым мы шли ловить рецидивиста Копчёного, ни дремлющего полуоблетевшего парка и свинцовой неподвижной воды в реке, по которой бежал белоснежный речной трамвай с голубой надписью на узкой рубке «МОЛОКОВ». А был апрельский вечер в берлинском районе Панков, где мы лежали под эстакадой городской железной дороги и в тыл к нам неожиданно прорвались «пантера» и два тупорылых бронетранспортёра с эсэсовцами и огнём своим смели нас с гранитной эстакады, как метлой. Я тогда сразу понял, что они прорываются к Шенхаузераллее, там у немцев ещё было мощное опорное укрепление. И если проскочат, то с ходу ударят в тыл нашей ещё не развернувшейся противотанковой батарее и «пантера» передавит за минуту все орудия вместе с прислугой. Вместе с якутом Митрофаном Захаровым мы быстро поползли по обе стороны эстакады к перекрёстку навстречу танку — он ведь, проклятый, уже разворачивался, готовясь нырнуть в переулок. Хлёстко, с дробным грохотом ударила над нашими головами по рельсам очередь из крупнокалиберного пулемёта, и я невольно припал к шпалам, а когда поднял голову, увидел, что из витрины разбитого магазинчика на углу выскочил Парахин, тихий немолодой солдат, вологодский конюх, вечно озабоченный человечек с бледным отёчным лицом. И бежал он наискосок, через улицу, прямо к танку, и в руке у него не было автомата, а держал он только связку, и я сообразил, что Парахину больше автомат не понадобится — он знал это и бежал, чуть пригнувшись, клонясь вперёд от страха и ожидания страшного удара, но бежал, ни на миг не задерживаясь, дёрганой нервной рысцой, и была в Парахине, тщедушном и сгорбленном, решимость и готовность умереть такая, что я уже не сомневался: «пантера» не налетит сзади на батарейцев, не примнёт стволы к лафетам, не намотает человеческое мясо на гусеницы.
С бронетранспортёра заметили Парахина, и пулемёт развернулся к нему злым острым рыльцем, плюнул огнём, и пули, казалось, подкинули в воздух солдата, и в последнем этом мучительном парении он бросил связку в упор в ведущее колесо гусеницы…
— …Шарапов, пошли! Чего ты тут застрял — танка, что ли, не видел? — услышал я крик Гриши. В самом деле, танка, что ли, я не видел? И побежал догонять.
В бильярдной, несмотря на ранний час, народу было немало. От порога Жеглов внимательно осмотрел играющих и сказал мне:
— Вон там, в углу, за четвёртым столом — Копчёный…
Матерчатые квадратные абажуры нависали над зелёными столами, и лица были скрыты в дымном полумраке. Наклонился, примеривая кий для удара, парень, нырнул в колодец света, ударил и, выпрямившись, опять растворился в багрово-серой темноте. Я рассмотрел чистое смуглое лицо, «политический зачёс», худые руки и значок ГТО на лацкане. В светлый квадрат вплыл узбек в тюбетейке, ударил. Прилив темноты смыл и его со стола. Парень со значком ГТО фальцетом выкрикивал перед ударами:
— От двух бортов в угол!.. Чужого режу в угол направо, своего в середину!.. Клопштосс!
Узбек проиграл, заплатил и стал снова расставлять шары, но Жеглов заявил непререкаемо:
— Одну минуточку! Проигравший выбывает. Теперь моя очередь…
Парень со значком взглянул на Жеглова, усмехнулся:
— Моё почтение, гражданин начальник. Что это вы, катать начали?
— А что же делать? Если гора не идёт к Магомету…
— Никак, я вам понадобился?
— Понадобился — партнёра хорошего ищу…
— Так вы бы мне свистнули — я бы сам к вам пришёл.
— Тебе, пожалуй, досвистишься. — Жеглов смотрел с прищуром. — С тобой как в детской считалочке: Валька — дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует…
— Спички я сроду не воровал, — серьёзно сказал Копчёный.
— Это я знаю, — кивнул Жеглов. — Ты ведь наверняка правила бильярдной нарушаешь: игра на деньги? А-а?
— Так это только дети на шелобаны играют, а настоящие игроки — на интерес, — засмеялся Копчёный. — По полкосой скатаем?
Жеглов брезгливо оттопырил нижнюю губу:
— Это ты с Жегловым хочешь по полсотенке играть? Сморкач!
— А по скольку? — заинтересовался Копчёный.
— По тысяче.
— По куску? Идёт, — охотно согласился вор.
Наверное, его в принципе согревала перспектива ободрать на бильярде знаменитого Жеглова — эта легенда годами передавалась бы блатными как образец уголовной доблести.
— Ты прежде, чем на тысячу примазывать, покажи мне — есть она у тебя или ты со мной в долг играть собираешься?
Копчёный обиделся:
— Что же я, порядка не знаю? — И выволок из кармана пачку денег.
— Тогда ладно. Разбивай.
— Пирамиду или американку?
— Пирамиду.
Жеглов взял кусок мела, аккуратно натёр набойку кия, плавными круговыми движениями намелил его и вытянул перед собой, примерил на глазок прямизну, потом повернулся к Грише и сказал:
— Иди к директору бильярдной, там есть телефон, позвони к нам в контору и скажи, чтобы Пасюк с Тараскиным ехали сюда, как только объявятся. Встретишь их у входа…
— Вы бы, гражданин Жеглов, скинули пиджачок, а то вам не с руки играть-то будет. Или вы за пушку свою опасаетесь? — вежливо спросил Копчёный.
— Не учи учёного, — дипломатично отозвался Жеглов. — И о пушке моей не заботься. Давай начинай…
Копчёный не ударил шаром в пирамиду, а толкнул его о борт, шар плавно откатился и еле-еле растолкал укладку. Жеглов присел, глазом прикинул линию к средней лузе и бархатным неощутимым толчком направил туда шестёрку.
— С почином вас, Глеб Георгиевич, — сказал Копчёный. — Мне надо было у вас фору попросить…
— А мне безразлично, просил бы ты али нет, — я по пятницам не подаю. — Жеглов снова ударил, но на этот раз довольно сильно, и бил он поперёк стола с левой руки и, вкатив кручёный шар, довольно засмеялся: — Очень глубоко смири свою душу, ибо будущее человека тлен…
Я заворожено смотрел, как свой шар, крестовик, оттянулся обратно к Жеглову, на свободную сторону стола, так, чтобы ему бить было удобнее. Но третий удар не вышел — жёлтый колобок шара прокатился по ослепительной зелени сукна, ткнулся в жерло лузы и вылетел обратно.
Копчёный нырнул в освещённый квадрат над бильярдом и почти лег на стол, стараясь достать дальний шар — такой соблазнительно прямой перед узким устьицем лузы.
— Ноги с бильярда! — скомандовал Жеглов. — Ты в валенках сюда ходи, не видно будет, что у тебя копыта над полом висят!
Копчёный сполз со стола и заново стал умащиваться удобнее и уже совсем было пристроился ударить, когда Жеглов негромко сказал у него над ухом:
— Ты где взял браслетик?
Вздрогнул Копчёный, рука сорвалась, кий скользнул по шару — тот мимо лузы прокатился, тюкнулся о борт и замер.
— Какой браслетик?
— Что ж ты киксуешь? Я тебе покиксую! Туза в угол направо! — заказал Жеглов, очень мягко вкатил шар и пояснил: — Золотой браслетик в виде ящерицы червлёной с одним изумрудным глазом.
— Понятия не имею, о чём вы говорите, начальник! — ответил Копчёный, светя своими голубыми доверчивыми глазами; и, встреть я его здесь случайно, голову дал бы наотрез, что это не вор «жуковатый», а студент-заочник, отличник, скромный производственник и спортсмен-общественник.
— Понятия, значит, не имеешь?.. — протянул Жеглов. — Ну, тогда поедем мы сейчас к нам, и я с тобой вот так поговорю! — И он вдруг чудовищной силы ударом с треском загнал шар в середину. — Вот какой у меня с тобой сейчас разговор произойдёт! — приговаривал Жеглов, скользя мягко в своих сияющих сапогах вокруг стола и нанося новый ужасный удар, от которого зазвенела и затряслась луза. — Десятку в угол! Поговорю я с тобой вот так, сердечно, вразумительно, чтобы до тебя дошёл мой вопрос — до ума, до сердца, до печёнок, до почек и всего остального твоего гнилого ливера! Поиграешь со мной — сразу сообразишь, что это тебе не Маньку Облигацию до потери пульса лупить… Абриколь семёркой налево!
Семёрка сильно ткнулась в борт, отлетев, ударилась о другой шар и юркнула в лузу. Копчёный побледнел, сильнее заострилось его тонкое лицо, вспотевшей ладонью он гладил свою роскошную шевелюру.
— Гражданин Жеглов, я чего-то не пойму, про что вы толкуете…
Жеглов остановился, передохнул, сочувственно поглядел на Копчёного, покачал сокрушённо головой:
— Не понимаешь?
— Честное вам благородное слово даю — не понимаю!
— Слушай, Копчёный, а может быть, ты не виноват? Это, наверное, про тебя в учебнике судебной психиатрии написано: «Идиотия — самая сильная степень врождённого слабоумия»? Ты что, не того? — И покрутил пальцем у виска.
Удары у Копчёного были волглые, мятые, шары катились как попало, зато перед каждым его ударом Жеглов задавал очередной вопрос, что никак не придавало Копчёному собранности и меткости.
— Да ты не киксуй, твоё дело хана! — зло усмехнулся Жеглов. — У меня в последнем шаре — партия…
Он подошёл к Копчёному, словно нечаянно наступил ему на ногу своим хромовым сапогом и, близко наклонившись, сказал:
— Ты же ведь чердачник, Копчёный, а не мокрушник, поэтому, пока не поздно, колись — где взял золотой браслет? И если ты надумаешь мне забивать баки, то про наш предстоящий разговор я тебе всё объяснил…
Так они разговаривали негромко, наклонившись друг к другу, словно два приятеля-партнёра, сделавшие перекур после трудной и неинтересной партии; и с соседнего стола игроки, кабы было у них время и желание, могли бы залюбоваться на таких дружков, которые и в перерыве шепчутся — оторваться не могут.
Они стояли на противоположной от меня стороне стола, и я не всё слышал, долетали до меня только обрывки фраз. Я видел только, как Копчёный прижимал к груди руки, таращил свои ясные глаза, даже рукавом слезу смахнул и для убедительности перекрестился. И слова, как брызги, вылетали из горячей каши их разговора:
— …В карты… бура и очко… Котька Кирпич… денег не… у Модистки… не знаю его… вор в законе… Костя — щипач… век свободы не видать…
Что отвечал Жеглов, я не слышал, пока тот не повернулся ко мне и не сказал с кривой ухмылкой:
— Божится, гад, что выиграл браслет в карты у Кирпича. Что будем делать, Шарапов? Идеи есть?
— Есть, — кивнул я. — Надо Кирпича брать.
— Замечательно остроумная идея! Главное, что неожиданная! — Потом спросил Копчёного: — Слушай, Бисяев, а где «работает» Кирпич?
— Он в троллейбусах щиплет — на «втором», на «четвёрке», на «букашке»…
Жеглов стоял в глубокой задумчивости, раскачиваясь медленно с пятки на мысок. Появился Шесть-на-девять, за ним шли Пасюк и Тараскин.
— «Фердинанд» здесь? — спросил Жеглов.
— Да, мы на нём прикатили, — ответил Пасюк.
— Это хорошо, хорошо, хорошо, — бормотал Жеглов, явно думая о чём-то другом, потом неожиданно сказал Бисяеву: — Слушай, Валентин, а ты не хочешь со мной покататься на троллейбусе?
— Зачем это ещё?
— Ну, может, встретим Кирпича, — познакомишь, дружбу сведём, — блеснул белым оскалом Жеглов.
— Вы уж меня совсем за ссученного держите! — обиделся Копчёный. — Чтобы я блатного кореша уголовке сдал — да ни в жисть!
— А ты его уже и так сдал, — радостно засмеялся Жеглов. — Эх ты, босота! Я ведь Кирпича не сегодня завтра прихвачу и обязательно подробно расскажу, как я тебя на испуг взял, словно сявку сопливого расколол…
Копчёный горько, со слезой вздохнул:
— Эх, гражданин Жеглов, злой вы человек! Я вам рассказал по совести, можно сказать, как своему, а вы мне вот как ответили…
— Не ври, не ври! С каких это пор Жеглов уголовникам своим человеком стал? Душил я вас всю жизнь по мере сил и впредь душить буду — до полного искоренения! А рассказал ты мне, потому что знаешь — за браслетом мокрое дело висит. И я с тебя подозрения пока не снимаю, буду с тобой дальше работать, коли ты мне помочь не хочешь. Поваляйся пока на нарах, про жизнь подумай…
Копчёный гордо поднял голову:
— Ничего, жизнь, она покажет… — Залез в карман, достал деньги, отсчитал тысячу рублей и протянул Жеглову: — Проигрыш получите, а в остальном сочтёмся… со временем.
Копчёный стоял, протягивая Жеглову деньги, а тот, подбоченясь, всё перекатывался с пятки на мысок и внимательно смотрел ему в лицо, и от этого казалось, что жулик не расплатиться хочет, а словно подаяния просит.
Выждав долгую паузу, будто закрепив ею их положение, Жеглов хрипло засмеялся:
— Я вижу, ты и впрямь без ума, Копчёный! Ты что же, думал, Жеглов возьмёт твои поганые воровские деньги? Ну о чём мне с тобой разговаривать в таком случае? — Жеглов обернулся к Пасюку: — Иван, у него полный карман денег — оформите актом изъятия за нарушение правил игры в бильярдной. А самого окуните пока в КПЗ, я приеду — разберёмся…
Когда оперативники увезли Копчёного, Жеглов сказал мне:
— Глупостями мы с тобой занимаемся! Ерунда и пустая трата времени!..
— Почему?
— Потому, что нам надо искать доказательства вины Груздева, а не с этими ничтожествами возиться!
— Но ведь браслет…
— Что «браслет»? Пойми, тебе это трудно пока усвоить: щипач, карманник — это самая высокая уголовная квалификация, она оттачивается годами, и поэтому никогда в жизни ни один из них близко к мокрому делу не подойдёт. Они с собой на кражи даже бритву безопасную не берут, а пользуются отточенной монетой! Поэтому заранее можно сказать: Кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет…
— А браслет как к нему попал?
— Но откуда тебе известно, что браслет не пропал до убийства? Она могла его потерять, продать, подарить, выменять на сливочное масло, его могли у неё украсть, — может быть, тот же Кирпич!
— Тогда мы должны постараться найти его — Кирпича, значит!
— Но для удовлетворения твоего любопытства нам придётся потратить чёрт знает сколько времени — это ведь я только Копчёному так лихо пообещал найти завтра Кирпича. А кабы это было так просто, мы бы их давно уже всех переловили!
Я помолчал, подумал, потом сказал медленно:
— Знаешь, Глеб, тебе пока от меня толку всё равно на грош. Если ты не возражаешь, я сам попробую найти Кирпича…
Жеглов разозлился:
— Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто терпеть не могу в людях, так это упрямства. Упрямство — первый признак тупости! А человек на нашей работе должен быть гибок, он должен уметь применяться к обстоятельствам, событиям, людям! Ведь мы же не гайки на станке точим, а с людьми работаем, а упрямство в работе с людьми — последнее дело…
— Это не упрямство, — сказал я, стараясь изо всех сил не показать, что обиделся. — Но ты вот сам говоришь, что мы с людьми работаем, и я считаю, что нельзя человека лишать последнего шанса…
— Это какого же человека мы лишаем последнего шанса?
— Груздева.
— А ты что, не веришь, что это он убил жену? — удивился Жеглов.
— Не знаю я, как ответить. Вроде бы он, кроме него некому. Но этот браслетик — его шанс на справедливость.
— Как прикажешь понимать тебя?
— А так: если он убил жену и унёс из дома все ценности, то он не побежит на другое утро продавать браслет. Лично мне этот Груздев — неприятный человек, но он же не уголовник, не Копчёный и не Кирпич, чтобы назавтра пропить и прогулять награбленное. Тут что-то не клеится у нас. Поэтому я и хочу разыскать этого карманника и узнать, как попал к нему браслет.
— Я бы мог привести сто возражений на твои слова, но допустим, что ты прав. И вот ты нашёл Кирпича — дальше что?
— Допрошу его — откуда взял браслет?