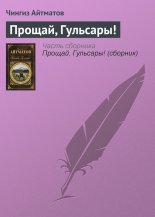Россия, кровью умытая Веселый Артём
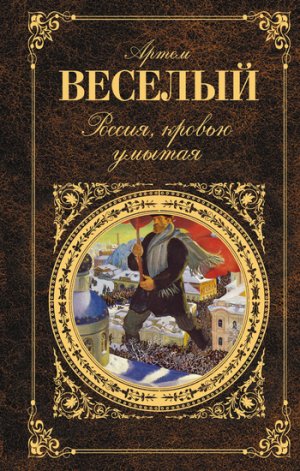
— Забастовка, — сказал Капустин, полуобернув к нему захватанное ветром кирпичного цвета лицо. — Чуешь, чем это для нас пахнет?
— Ты оттуда?
— Да.
— Что там стряслось?
— Дело простое. Пайка второй месяц не выдаем, опять же и хлеба они по утрам получали по фунту, а теперь и хлеба неделю не видят. Нынче утром при раздаче работы хлеба просили, хлеба нет… Секретарь ячейки вызвал меня, а я… я не свят дух. Первым бросил работу текущий ремонт, сняли средний, сейчас все цеха стоят. Не двинулись бы текстилей снимать, кожевников…
— Митингуют?
— О-о, поливают почем зря, мне и говорить не дали, думал, побьют… Там такое творится — дым столбом.
— Забастовку надо немедленно и во что бы то ни стало сорвать, — сказал Павел. — Ты, Иван Павлович, забеги, потряси Лосева, должен он, стерва, хлеба выдать, а я поеду туда… Идет?
— Идет, — согласился Капустин, выпрыгивая из санок. — Крой, Пашка, как-нибудь надо выкарабкиваться.
— А что слышно из волостей?
— В Хомутове бунтуют дезертиры, подробностей пока не знаю… Послан туда наш отряд — день, два — и, думаю, все будет спокойно… Писал мне Ванякин, там какая-то волынка…
Павел уже не слушал и, урезав жеребчика кнутом, ускакал.
…Кабинет продкомиссара был оклеен картами, диаграммами и схемами; подоконники заставлены стеклянными трубочками с образцами хлебных злаков. Из-за вороха наваленных на стол бумаг торчала расчесанная на косой пробор голова продкомиссара Лосева. Из прозеленевшего солдатского котелка оловянной ложкой он черпал полбенную кашу и с чувством собственного достоинства разъяснял:
— К сожалению, уважаемый Иван Павлович, ничего не могу поделать… Нет плановых нарядов от губпродкома, специальных фондов не имею, в циркулярном письме наркомпрода от второго сего февраля прямо говорится…
Капустин хмуро поглядывал на него, жестким ногтем царапал лаковую крышку стола и, не слушая, доказывал, что не годится ждать каких-то плановых нарядов и жалеть двадцати мешков муки, когда забастовка грозит убить город, оторвав его от всех, и больших и малых, центров.
— К сожалению, я вынужден придерживаться инструкций высших инстанций, перед которыми и отвечаю за свои действия… Пайки основные и добавочные выдаются исключительно по плановым нарядам… Из фонда наркомпрода не могу выдать ни золотника.
Капустин вскочил и бросил кулак на стол:
— Тогда я тебе приказываю выдать!
— Прошу покорно не орать… — поперхнулся непрожеванной кашой и отставил котелок. — Мне надоели ваши генеральские замашки… Не испугался… Я совершенно самостоятелен в своих действиях… Я работаю по директивам центра. Я… — сорвался на визг, — прошу оставить меня в покое! Убирайтесь ко всем чертям! Вон отсюда! Вон!..
Капустин ухватил юного продкомиссара за жабры и поволок его на телеграф к прямому проводу.
…В сборочном, когда вошел Павел, митинг уже кончался. Яруса калеченного железа, рамы на скатах и паровозы были густо обвешаны людями. Малый свет еле прорывался сквозь закопченную стеклянную крышу, в полумраке смутно плавились масляные пятна лиц.
Председатель митинга, инструментальщик Дерюгин, с тендера выкрикивал резолюцию. Его, казалось, никто не слушал, каждый орал свое, но за резолюцию голосовали все до одного: забастовку было решено продолжать.
Павел взобрался на тендер и плечом отодвинул председателя:
— Товарищи…
Он частенько хаживал к железнодорожникам в клуб на собрания и спектакли, его знали, многие как будто и уважали; случалось, с ним советовались, но сейчас сразу опрокинули бурей свистков и рева:
— Долой!
— Проухали революцию!
— Вишь, моду взяли?..
— До хорошего дожили…
— Ни штанов, ни рубах!
— Коммуна… Любо дуракам.
— Два месяца бородку притачивают.
— Доло-о-ой…
Гул голосов метался под стеклянной крышей.
Павел дрожал от возбуждения и, выкинув руку вперед, стал ждать, пока утихнет, чтобы начать говорить, но гул рос горбом, кто-то из озорства начал колотить болтом в буферную тарелку, кто-то в паровозной будке дал продолжительный свисток, и Дерюгин махнул масленой кепкой.
— Расходи-и-ись…
Хлынули к выходу.
В дверях, на свету, Павел увидал кое-кого из знакомых. К нему протискался рессорщик, старик Бабаев, поздоровался за руку и, немного гундося, насмешливо спросил:
— Не пляшет?
— Ни хрена.
— Знамо, говорить нечего, так и «да» хорошо.
— Давайте, — сказал Павел, повернув к старику налитое сердитой кровью лицо, — давайте побросаем работу, разбредемся по лесам соловьев слушать или пойдем на речку и станем из проруби рыбу хвостами ловить, как волк ловил…
— Нам вашей рыбы не надо, — зло засмеялся Бабаев. — Где уж нам рыбу есть, когда ухой давимся.
— Нашей не надо? А где же ваша?
— Наша уплыла… Вам лучше знать, в чей карман она умырнула… Два месяца по губам мажете, а чтоб рабочего человека голодом морить, такого декрета читать не доводилось… Умирать мы не согласны…
— Чепуху городишь, Бабай…
Сцепились спорить, потом ругаться. Увлекая за собой заинтересованных слушателей, они прошли в кузнечный цех.
Гребенщиков, когда работал на заводе, больше всего любил кузницу. В кузнице всегда полыхал огонь, мелькали кувалды, гремело и лязгало железо, осыпая зерна искр. И работа кузнечная — развеселая работа. Хоть и трещат от нее кости, зато думать много не надо, а молодость думать не любит, знай вразмашку бей и бей, чтоб чертям тошно стало.
За стариком он прошел в дальний угол и огляделся: со стен и потолка в сетке паутины хлопьями свисала холодная копоть, остывшие черные горна были похожи на гробы. Лишь в одной рессорной печке под грудой пепла дышал огонь; у печки кузнецы грелись, курили, батыжничали и пекли картошку.
Бабаев достал из-под верстака покрытую ломтем хлеба консервную банку с супом.
— Гляди чего дают: вода с водой. Откуда тут силе взяться? — выплеснул суп Павлу под ноги. — Поди слыхал побасёнку, как цыган уговаривал лошадь шибко бегать да мало есть? Совсем было коняга от корму отвыкла да, на беду, сдохла… Так ведь то цыган, в нем и совесть цыганская, а ты вот тоже рот разеваешь и на шею нам, дуракам, навертываешь: «Разруха, транспорт, недостатки механизма», а того знать не хочешь, может, у меня в брюхе разруха-раздируха? Ноги, батенька мой, не ходят… С чего тут силе быть?.. Это разве хлеб?.. Опилки с пылью.
— Он эдакий-то спорее, — подсказал из-за плеча парень с вывернутым веком, — укусишь на копейку, разжуешь на рупь… И суп выдающийся: плесни на собаку — облезет.
Мальчишка-ученик заливисто рассмеялся, скупо усмехнулись и взрослые, один сказал:
— У нас брюхо луженое… И кишка наша пролетарская тянется, а не рвется.
— Ты нам, Гребенщиков, расскажи, чего нынче обедал? Каклеты, яйца всмятку, али, может, пирожки с мясом?
— Я?.. А я второй день совсем не обедаю, — простодушно отозвался Павел. — Вчера с утра до ночи в типографии проторчал, нынче в слободке… церковь там…
— Знаем…
— Кто хочет посмотреть, чем нас кормят в исполкомовской столовке, приходите завтра, у кого зубы острые…
— Церкви вы зря рушите, — перебил его Бабаев. — Есть бог, нет ли его, дело темное, а вот на клиросе попеть я люблю… И ко всеношной под праздник, хоть и реденько, а хаживаю, грешник… Вам, молодым, фигли-мигли, попеть-поплясать, с девчонками побеситься, кино, клубы, мы тому не препятствуем, и вы на нас, стариков, собаками не кидайтесь… И все будет тихо, мирно.
Павел принялся поносить самогонщиков, переводящих на зелье хлеб, говорил о бедности республики, о том, что «сразу всего не сообразишь». Старик замахал на него рваными рукавами.
— Чего ты гнешься, как проволока?.. У нас опорки с ног сваливаются, а ты надел новые-то калоши и несешь оревину… Тебе ветер в зад, ты сухой и чистый… Бедность, так всем бедность, мы к богачеству и непривычны… Языком, туды ее растуды, не надо трепать… Ты еще мал, круп не драл, понянчил бы вот кувалду, другое бы запел.
— Я, Бабай, нянчил кувалду.
— А знаешь, за какой конец ее держут?
— Знаю.
— Все мы мастера со стола куски хватать.
Кузнецы поглядели на его новенькие калоши.
Павел густо покраснел… Сбросил шинель и, подвязывая чей-то брезентовый фартук, невесело усмехнулся.
— Давай, шевели печку… Может статься, и не разучился кувалдой махать, надо попробовать.
— Горно у меня на ходу, — прогундосил Бабаев и, насмешливо поглядывая на Павла из-под седых бровей, тронул меха.
Мастеровые молча расступились. По лицам блуждала недоверчивая ухмылка, другие взирали равнодушно.
В печке забушевало пламя.
На широком верстаке валялись готовые рессорные листы, нарубленная шпилька, обрезки размеченного мелом железа. Павел, обжигая через дыры в голицах руки, выхватывал из горна лист за листом, бросал на наковальню и не глядя, как будто небрежно, бил ручником… Но уже по одному тому, как он держал клещи и потюкивал ручником, опытному глазу было видно, что работа эта ему не в диковинку, и кузнецы одобрительно загудели, придвинулись ближе, подавая советы:
— Так, так…
— Концы не перепускай.
— Серьгу обомнешь, легче.
— Ничего, ничего, вваривай.
— Мастерок-хренок…
Волнуясь и ни на кого не глядя, Павел подогнал листы друг к другу, сшил их шпилькой, обжал на струпцинке и бросил на козла; потом выхватил из горна раскаленный хомут и посадил его на связку.
— Подправьте-ка кто…
— Давай, — подскочил Бабаев и вырвал у него ручник, а сам Павел схватил кувалду и начал стремительно, пока не остыл, наколачивать хомут до места.
Повеселевший старик покрикивал:
— Жамкни!
Г-гах!
— Погладь!
Гах!
— Хватит!
Обливающийся потом Павел ударил еще раз и бросил кувалду: товарная рессора была готова.
Сели, закурили, опять пустились в споры о хлебе и революции, о боге и разрухе железнодорожного транспорта… Надолго бы им разговора хватило, но в цех заглянул секретарь учпрофсожа и, крикнув: «Муку привезли», — убежал дальше.
Кузнецы, выхватывая из карманов и пазух мешки, бросились в двери. Павел отряхнул забрызганную углем шинель, подтянул ремень, оглянулся — в цехе не осталось ни одного человека; обожженными пальцами он провел по ребрам еще не остывшей рессоры и, мягко улыбнувшись, пошел к выходу.
Зазябшая лошадь подхватила и понесла его, как птица. Пружинил встречный ветер, в передок санок били ошметки снега. По дороге в город, перебрасываясь шутками и бойким разговором, шли оживленные кучки рабочих, на горбах у них белели мешки, а в зубах попыхивали раздуваемые ветром цигарки.
Спустя неделю, когда над уездом поднялся во весь свой рост огнеликий мятеж, по городу была объявлена добровольная мобилизация: из сотни железнодорожников Клюквинского узла в отряд записалось больше тридцати человек, на приемочный пункт одним из первых явился рессорщик Бабаев.
Покой притихшего города охраняли разъезды. Подковы гулко били в мерзлую дорогу.
День и ночь из продскладов и баз на вокзал тянулись обозы с мукой, кожами и тюками мануфактуры.
На перекрестках вывихнутых слободских улчонок, под тоской серых заборов, жались кучки жителей…
— Ага, бегут… Увозят… Наработали.
— Это они эвыковыриваются.
— Каюк, всем каюк…
— Ох, бабоньки… Ох, батюшки…
— Не робей, тетки, хуже не будет.
— Может, казенки откроют, — сказал, не попадая зуб на зуб, пирожник Хрущев.
— Кто про что, а шелудивый про баню! — фыркнула вислорожая Фенька Бульда, и все рассмеялись.
Два отбившиеся от артели воза с мукой слобожане растащили.
С пожарной каланчи старый солдат Онуфрий первый увидал надвигающиеся тучи восстанцев: широко раскинувшись, затопив собою белые поля, они шли, подобны земляному потопу… Захлебываясь, задребезжал избитый пожарный колокол.
Ветром тревоги качнуло город.
А в исполкомовских коридорах сновали коммунары и рабочие дружинники, перепоясанные кишками патронных лент. По полу и на канцелярских столах спали вернувшиеся с ночного дежурства отрядники. Сбившийся с ног тщедушный завхоз награждал каждого добровольца ломтем хлеба, банкой консервов и осьмушкой махорки.
В кабинете Капустина заседал ревком.
Гильда протоколировала:
Объявить город и уезд на осадном положении.
Все запасы оружия раздать рабочим.
Сформировать в самом срочном порядке летучий кавалерийский отряд.
Ускорить переброску на север скопившегося на вокзале хлеба, возложив ответственность за всю операцию на Гребенщикова и Климова…
Чистый пикейный воротничок охватывал ее тонкую шею, непокорные после тифа кольца кудрей стояли дыбом, отчего вся она была похожа на ламповый ерш. Сваленный сном в угол дивана, похрапывал продкомиссар Лосев. Иван Павлович Капустин бегал по кабинету и говорил:
— Безобразное поведение отдельных наших отрядов срывает всю работу по ликвидации мятежа. Мародеров необходимо расстреливать на месте!.. Главу семьи, из которой хотя бы один человек ушел в банду, расстреливать на месте! Остальных брать заложниками… Кулацкий дом, из которого семья скрылась, сжигать! Имущество кулацкое раздавать бедноте… Только решительными и жестокими мерами нам в кратчайший срок удастся задавить мятеж. Время уговоров минуло, каленым железом мы должны, товарищи…
— Не пори горячку, Капустин, — прервал его Павел, — бить надо думаючи. Восстание, несомненно, вдохновляется кулаками… Кулак использовывает и свое влияние на деревню и наши ошибки, но сам-то кулак прячется за широкую спину бедняка и середняка… Смородин вчера говорил: занимает он с отрядом деревню — кулаки первыми выходят встречать его с иконами, хлебом-солью и изъявляют свою покорность… Направленный в гущу восстанцев, наш удар вызовет еще большее озлобление в массе крестьянства и надолго поссорит нас с деревней… Повторяю, бить надо думаючи. Наша сила не только в штыке, но и в слове убеждения… Предлагаю немедленно выпустить воззвание к трудящемуся крестьянству, кинуть в очаги восстания самых преданных партийцев, чтобы они это воззвание как можно скорее распространили… Громить же со всей решительностью в первую очередь надо кулака, актив дезертиров и тех эсеров и колчаковских шпионов, что, по сведениям нашей разведки, шьются…
— Восстало сто тысяч кулаков! Город окружен! — крикнул, врываясь в кабинет и сверкая налитыми кровью глазами, Пеньтюшкин. Он бросил на стол пучагу свежих депеш. — Товарищи, печальные новости!.. Глубоковский у заставы встречает мятежников с музыкой!.. Мы в западне!.. Восстало сто тысяч…
Капустин — дикий и растрепанный — хлеснул его в ухо и зашипел:
— Не вопи, сукин сын, не поднимай паники…
В задохнувшейся тишине где-то захлопали двери, в открытую форточку, как далекое рыданье, ветер донес всхлипы оркестра.
— Товарищи, спокойствие, — сказал Капустин, откашливая волнение и оправляя оттянутый маузером пояс. — Объявляю заседание закрытым…
По городу стучали выстрелы, и на далеких окраинах крики нарастали, како бва а-ал…
Павел летел через плошадь, полы его шинели бились, словно крылья. С разбега легкими прыжками взял лестницу и в дверях комнаты столкнулся с Лидочкой.
— Милый!
— Прощай, — задохнувшись от бега, сказал Павел. В последнем поцелуе губы прикипели к губам, еще и еще он перецеловал ее золотые глаза и легонько оттолкнул. — Беги к теткам.
— Зачем?
— Беги.
— Как?.. Разве?
— Да, мы отступаем, — подумав, досказал — на несколько дней.
— А я?
Павел промолчал и прошел в комнату.
Она прислушалась:
— Чу, стреляют… Кто стреляет?.. — Глаза ее были круглы, рот перекошен такой гримасой, какую никогда не заучить даже самому искусному актеру. — Павлик, мне страшно… Это… Это банда?
— Вроде этого, — отозвался он, стоя на коленях перед корзинкой и рассовывая по карманам бумаги. — Беги отсюда, плохо будет.
— А ты?
— Мне надо на вокзал.
— Но тебя поймать могут? Растерзать?
Он свистнул, выдвинул ящик стола и полными горстями стал пересыпать в карман похожие на жолуди кольтовские патроны.
— Михеич где?
— Ах, не знаю.
— Беги, Лида, поздно будет.
— Не хочу одна!
— Ну, прощай, — шагнул он, — некогда.
— Подожди… — Сильными руками она обняла его за шею, крепким подбородком терлась о его небритую щеку. — Не ходи, никуда не ходи, Павлушенька…
— Прощай!
— Милый, убьют… Хочешь, я спасу тебя?.. Убежим к теткам… На вот, надевай, после брата осталась… — Она выхватила из чемодана офицерскую тужурку, перетряхнула ее, блеснул погон. — Никто не узнает. Павлик, я умоляю… Господи…
— Пусти, — глухо сказал он.
— Не пущу!
— Уйди!
— Не пущу! — Она стояла в дверях с тужуркой в вытянутых руках. — Я люблю тебя, убежим вместе, — опустившимся голосом, как издалека, сказала она, и из блестящих глаз ее брызнули слезы.
Павел решительно отсунул ее в сторону и выбежал за дверь. В конце коридора перед пылающей пастью голландки, присев на карточки, покуривал Михеич: он, видимо, только проснулся и ничего еще не знал.
— Бежим! — крикнул ему Павел.
— Куда?
— Отступаем. Город сдан.
— Да ну? — вскочил старик. — Я живой ногой… Только обуюсь. — Он был бос.
— Живо!
— Сыпь, Павлушка, я догоню.
По двору ветер гонял стружки. На карнизах, на солнечном угреве сизари ворковали про свою голубиную любовь: ба-ба-уу… ба-ба-уу… Город, словно тончайшим облаком, был перекрыт свистом пуль. По двору бродила сама жизнь в обнимку с солнцем… Мысль на миг завертелась вокруг еще в детстве слышанного рассказа про храброго волка, который перегрыз свою схваченную капканом лапу и ушел на волю… Павел утишил бег сердца и, провернув в нагане барабан, вышел за ворота.
На площади густо, как лес в бурю, орала толпа.
Уже неслись чьи-то вопли, кого-то избивали.
Горел исполком, со звоном осыпались стекла, и из верхних выхлеснутых окон, ровно из ноздрей, валил дым.
Из-за угла с гиком вылетела конная ватага человек в полсотню — ружья, багры, веревочные стремена, у многих вместо седел были приспособлены подушки. В облаке пуха и перьев ватага промчалась мимо, но один, рыжебородый, держа вилы наперевес, как пику, повернул к Павлу.
— Ты чей?.. Ты чего тута?.. Кажи документы!.. Скидавай сапоги!
Павел ударил его из нагана в рыжую бороду.
Мужик свалился и захрипел.
Павел вскочил на лошадь и, минуя большую улицу, проулками погнал к вокзалу.
Дезертиры громили военный комиссариат. Из окон летели стулья, тяжелые связки дел и, россыпью, учетные карточки…
— Смелее, ребята!
— Рви до клока, раздергивай до останной нитки… Не власть — наказанье!
У подъезда, в тесном кольце зрителей, здоровый косоротый мужик ломом ковырял несгораемую кассу. Бумагами, как снегом, была устлана занавоженная улица. Конопатый парнишка высоко метнул пачку ордеров и взвизгнул от восторга:
— Эх, чивали-вали!
Павел, не обратив на себя ничьего внимания, шагом проехал через толпу и опять погнал вскачь.
По дороге из тюрьмы через сенной базар валила шумная ватажка арестантов в брезентовых клейменых бушлатах, шапочках-бескозырках и казенных бахилах на босу ногу. Вел их за собой прославленный по всему уезду бандит Сашка Хомяк.
Выехав за город, Павел, заглотнув полную грудь морозного ветра, тряхнул поводьями и забарабанил пятками в ребра лошадёхи. Вдали, на стеклянной крыше депо, горячими искрами вспыхивало солнце.
По излучинам дороги полз, похожий на коленчатого удава, длиннейший обоз, груженный шкапами, диванами и разным хламом; брели кучки дезертиров караульного батальона; шел и останавливался и снова шел слесарь с паровой мельницы Сафронов. Жена обрывала с него патронташи, ремни и за рукав тянула назад.
— Вояка тоже нашелся… Черт их тут разберет… Пискунов-то полна изба… Айда-ка, айда домой.
— Люди…
— Люди топиться пойдут, и ты за ними?
— Отвяжись, дура, а то вот шарарахну наотмашь и покатишься… — Увидав председателя укома, Сафронов подтянулся и зашагал бодрее. — Здорово, товарищ Гребенщиков.
— Здравствуй.
— Дралала?
— Похоже на это…
— Я вот, значит, тоже… А Дунька наседает, возьми ты ее зарупь за двадцать. — Затвор из винтовки Сафронов уже потерял.
Павел обогнал обоз.
На вокзальном дворе его встретил Климов.
— Что в городе?
— Город сдан. Шуруешь?
— Шуруем помаленьку. — Климов рукавом отер вспотевшее лицо. — С утра отправил четыре маршрута. Восемь тысяч мешков еще на колесах стоят и остаток грузим, да побаиваюсь, время хватило бы — народу у меня мало, паровозов нет… Город-то?.. Вот так штука! Ведь я тут со вчерашнего вечера канителюсь и ничего не знаю… Где Капустин с отрядом? Где наша хваленая дружина?
Павел прихлеснул лошадь к коновязи.
— Капустин с отрядом и дружиною, думаю, засел в кирпичных заводах. Может быть, сегодня же он захватит город обратно, хотя вряд ли… Много у тебя осталось хлеба?
— Тысяч под семьдесят пудиков, считай, два полных состава… Вагонов у меня хватит, а паровозов — ни одного…
Побежали к начальнику станции. Тот любезно встретил их в своем убогом, уклеенном обязательными постановлениями, кабинетике.
— Прошу садиться.
— Нам сидеть некогда, — сказал Павел и выдернул из кобуры наган. — Нужны два паровоза.
— Звоню, вызываю, не отвечают… С удовольствием бы, верьте слову…
— Хоть из-под земли вырой, а выкати нам пару паровозов, иначе ты из этого кабинета не выйдешь.
Начальник сразу вспотел и сдвинул на затылок красную с кантом фуражку.
— Сейчас отправляю последний маршрут с эвакимуществом… Ни на станции, ни в депо не остается ни одного паровоза, даю честное, благородное…
— Какое там к черту эвакимущество? Задержать! Нам хлеб важнее!
— Не могу-с… Я человек подчиненный.
— От имени ревкома приказываю немедленно перебросить паровоз под хлебный состав.
— Не могу-с.