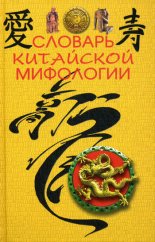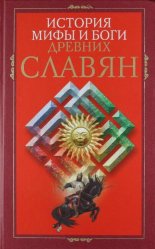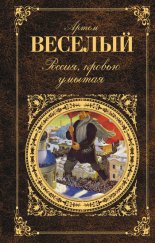Полное собрание рассказов в одном томе Шукшин Василий
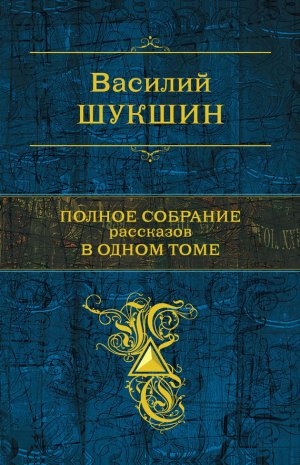
– Сказано, – заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. Прокашлялся. – Сказано: придет владыка мира… Сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет – антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.
Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.
– Бледно, – сказал он. – Могли бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак, понятную! – объявил он. И запел:
- То, ох, не ве-етер ветку кло-онит,
- Не, ох, не дубра-авушка-а шуми-ит…
Бросил, задумался, посасывая разбитую губу.
– Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал, – сказала Нюра.
– А возможно, что это не притворство у вас, – заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу. – Возможно, что тут налицо элементарная самодеятельность. – Он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся, поморщился даже от Генкиного словоблудия.
– Пой-ка лучше, правда.
Но Генка петь больше не стал, сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно.
– Корова-то!.. Матушка ты моя, давно уже ворота поддеёт, стоит! – спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. И побежала впустить ее.
Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору, открыла ворота и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору и что-то ей говорила.
– Корова, – задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал.
Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки у сгиба колен сзади, села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как въявь, увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают в пузырьки, они лопаются, и белые капельки-брызги летят невысоко и обильно и стекают по бокам ведра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким, ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась сидя – вправо-влево, вправо-влево – в такт, как двигались руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки.
– Корова… – еще раз в раздумье сказал Генка. – Этой ночью напишу стихи. Если не затуманю голову. Давай по маленькой?
– Хватит, – сказал дядя Гриша. – Не хочу больше.
– Ну и я не буду, – решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя. – Лучше стихи напишу. Про корову.
Пьедестал
И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать – свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.
– Долбаки! – зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук. – Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! – Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку. – В чем здесь логика восприятия? Счастье – в кружке пива?
Жена Константина Смородина, худощавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот – рассеянно и бесконечно, – даже когда продавала билеты. Отрывала билетики, брала деньги, сдавала сдачу – и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел – она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И – странно тоже – почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.
– А если я вам, вместо счастливого лица, нарисую кружку пива и большой кукиш – это как? А ведь тут ба-альшой смысл! – Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал. – Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом – ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил – и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло… Ты пошарил в кармане – у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива.
Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены… Она ему – из далеких-далеких каких-то своих дум – кивала поощрительно.
– Пойдем еще по логике… – продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.
– Будешь ужинать? – спрашивала жена.
– Окрошечки бы… М-м? – спрашивал Смородин. – Холодненькой.
– Садись.
Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.
– Окрошка из сладкого кваса! Ну не ё-моё?! – В недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять, – за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь. – Пить его – еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки – другой, кислый. Ну что же – сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму…
– Не ругайся, – спокойно просила жена.
– Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, – говорит, – дойдет, что охота укусить кого-нибудь, – беги к холсту!»
У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли, больше нечего?» 2. Не гонись за богатством – меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди – кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.
Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо, – складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подрос, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя – цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст… Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна – от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека… с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.
Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь – с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо щурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.
Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и, когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.
– Как дела? – спрашивал Смородин.
Жена пожимала плечами, что – «никак». Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча ж подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал.
– Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» – «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» – «Я-с. Не нравится?» – «Что это у вас тут такое?» – «Вымя коровье. А это – соски. Просто же». – «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»
Жена Смородина, когда он рассказывал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же – вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородина этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.
– Авиабомбы, да! – начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют… так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу – на здоровье!
– Про Вьетнам надо было, – подсказала жена.
– Что про Вьетнам? – не понял Смородин. И остановился.
– Там – смерть, здесь – молоко. Он бы завизжал от восторга.
– Не сообразил. – Смородин двинулся было, но опять остановился. – А если вообще – триптих такой: бомбежка – раз, кладбище – два и вымя в облаках… А?
Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:
– Зачем?
– Ну, триптих такой…
– Это же не музей.
– Ну да, – согласился Смородин.
– Чем закончилось с вымем-то?
– Переделал! – как-то даже весело воскликнул Смородин. – Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше. – И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.
– Ты таких слов не говорил, – сказала она.
– Я их говорю!
– Ты их не говорил, – упрямо повторила смуглая жена.
– Не понял, – признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.
– Твой начальник никогда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.
– А-а! – дошло наконец до Смородина. – Ну, это само собой. Это я секу.
– Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день все узнают, что этот человек – гений. Ну, не гений, крупный талант. – Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями, – в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба – это мерзко, гадко, противно, наконец, просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина… Когда они вышли на волю, они разыскали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.
– Могут не признать, суки, – встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался. – Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь?
– Ни в коем случае! – твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. – Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! – Все же прекрасен сильный человек! Жена Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху, и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел… и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.
– Но не признают же…
– Кто?
– Ну, кто… Что ты, не знаешь кто?
– И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтобы они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж… все само собой сделается.
И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах – о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его – другое дело: хоть скупо и неохотно, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись на бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» – чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках… Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.
Таким он и входил в маленькую комнатку – готовый «взрываться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.
– Ну, суки… – говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.
И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.
– Завтра позову его, – сказал вечером на кухне Смородин.
У жены – как будто она напугалась чего – широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:
– Да?
– Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра… Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезаться. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут…
– Я все сделаю, – с не свойственной ей поспешностью сказала жена. – Все будет на уровне, не беспокойся.
И на другой день, рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин – «взорвался». Или он это скажет, или… Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена его вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.
Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами…
– Ну, что ты тут намазал?.. Где?
– Погоди, погоди, – суетился Смородин, – давай сперва дернем по малой… Зоя, у нас есть там чего-нибудь?
– Проходите сюда, пожалуйста, – сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.
Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул в кухню.
– О-о! – густо сказал он. – Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну давайте… – И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: – Садитесь. Вы славно живете! – еще приятно удивился он. – Как вас, Роза?..
– Зоя, – сказала жена Смородина.
– Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя… Ну, так… Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? – спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.
– Нет, она… по финансовой части, – сказал Смородин. – Наливай, Зайка.
Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.
– Вчера приняли с Поволоцким… Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень. – Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук. – И ну, так, так… Хорошо!
Еще выпили по одной дорогого коньяку.
– Эх, жизнь бекова! – сказал художник Коля. – Как там у вас говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только недолго, ну ее к черту… Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.
Смородин хихикнул встревоженно… И глянул на жену – проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.
– Что нарисовал-то? – спросил тот. И посмотрел весело на Смородина. – «Утро нашей Родины»?
– Увидишь, – уклончиво, но и обещающе сказал Смородин. – Давай посидим пока…
Художник засмеялся.
– Чего ты меня готовишь, как… невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?
Смородин пожал плечами.
– Год работал…
– Ну-у, даже интересно. Пойдем глянем!
Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.
– Выпейте еще, – сказала Зоя, – потом уж делами займетесь.
– Да что вы такие?! – спросил удивленный художник, глядя на Смородина. – Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?
– Выпейте, – жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало – чтобы она терялась. – Выпейте, закусите, потом и пойдете. – Боялась она, что ли?
Еще выпили. И закусили.
– Пойдем, – нетерпеливо сказал художник Коля. – А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?
Пошли.
Вошли в маленькую комнатку… Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.
Художник прищурился на картину… Долго смотрел… Потом посмотрел на Смородина…
– Самоубийца, – сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.
Художник засмеялся, и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин – весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.
– Чего ты? – спросил тихо Смородин.
– Ты прямо напугал меня, – добродушно сказал Коля-художник. – Я уж думал, тут правда черт-те чего… Не вышло, Константин. Самоубийца… – Он опять невольно хохотнул. – Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?
Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.
– Костя!.. – окликнул он. – Ты чего? Брось ты так… Давно надо было позвать меня – не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь… Ну куда тебя, к черту, понесло – самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма… Ничего. – Он посмотрел на картину. – Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой… окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?
– Вон отсюда! – раздался вдруг сзади них голос.
Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали… не гневом даже, а – гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.
– Вон из квартиры! – повторила она, глядя на художника.
– Зоя… – хотел что-то сказать Смородин.
– Вон! – крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью. – Вон! Вон! Вон!!!
Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться… И, даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, – пошел вон. Подошел к двери, оглянулся…
– Во-он!! – закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: – Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..
Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился… Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав – Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука, – и все торопила, все повторяла:
– Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз… Двинь его! Скорей же!
На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:
– Догони его! Догони – двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот… Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!
Смородин обнял жену, стал успокаивать.
– Зоя, Зоя… ну что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..
– Уйди! – зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. – Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..
Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.
– Ну что ты, дурашка ты моя? – говорил ласково Смородин. – Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил… Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков… они скажут. Не реви. Успокойся. – Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. – Успокойся, милая, успокойся, не надо…
А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм… Даже подвывала тихонько – так горько плакала. И не могла остановиться.
Упорный
Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель – невозможен. По тем-то и тем-то причинам – потому хотя бы, что существует трение. Моня… Тут, между прочим, надо объяснить, почему – Моня. Его звали – Митька, Дмитрий, но бабка звала его – Митрий, а ласково – Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню – так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.
Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен… Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель… Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие – в разные времена – предлагались… И задумался. Что трение там, законы механики – он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли… от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне…» И теперь он тоже думал: «Да ну!.. Что значит – невозможен?»
Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея – то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, – то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал – ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор, – все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо… В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы – как заставить колесо постоянно вертеться.
И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса) желоб – так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз… То есть если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то – он же будет его толкать, ну, не толкать – давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось – закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.
Моня придумал это ночью… Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик… И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, – как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине – идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг… И в этой ходьбе – ничего больше, идет, и все – почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле – без крика, без возгласов, – поглядит на все тут – и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был… Кто был… Моня еще походил по горнице… Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы – хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал – там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный… И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, – скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал… Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.
Подсел к столу, просмотрел свой чертежик… Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах – просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать – кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб – как если бы они думали… Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы… Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению – к рукомойнику, умываться.
И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра… Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время – умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко – хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире… И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что – есть она, и вроде ее нет.
– Чего эт ты сёдня такой? – спросила бабка, когда сидели завтракали.
– Какой? – спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.
– Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке… Приснилось, что ль, чего?
Моня несколько подумал… И сказал заковыристо:
– Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.
– Подь ты к лешему! – Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: – Ну, и что бы ты с имя стал делать?
– Что?.. А ты что?
– Я тебя спрашиваю.
– Хм… Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?
– Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать…
– Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать – гнилье трясти.
Бабка вздохнула. Долго молчала.
– Гнилье-то гнилье… А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.
– Начинается! – недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью – нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. – Чего ты опять?
Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.
– А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-от, матушка…
– Ну и… придет – значит, придет: чего об этом говорить раньше время?
Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.
– Дак чего приснилось-то?
– Да ничего… Так я: утро вон хорошее, я и… радый.
– Ну, ну… И радуйся, пока молодой. Старость придет – не взрадуесся.
– Ничего! – беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. – Мы еще… сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!
И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.
Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.
– Здравствуй! – сказал Моня.
– Здравствуй! – не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».
«Переживешь, – подумал Моня. – Молодой еще».
– Зашел сказать свое «фэ», – продолжал Моня, входя в ограду.
Инженер опять посмотрел на него.
– Что еще за «фэ»?
– Как ученые думают насчет вечного двигателя? – сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы… И смотрел на инженера снизу. – А?
– Что за вечный двигатель?
– Ну, этот – перпетум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать…
– Ну? И что?
– Как сейчас насчет этого думают?
– Да кто думает-то? – стал раздражаться инженер.
– Ученый мир… Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?
– Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.
– Значит, сняли проблему?
Инженер снова склонился к мотоциклу.
– Сняли.
– Не рано? – не давал ему уйти от разговора Моня.
– Что «не рано»? – оглянулся опять инженер.
– Сняли-то. Проблему-то.
Инженер внимательно посмотрел на Моню.
– Что, изобрел вечный двигатель, что ли?
И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку… Как палку в муравейник воткнул:
– Изобрел.
Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню… Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку – тоже отчетливо, не без ехидства сказал:
– Поздравляю.
Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак – и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми – это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его – чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.
– А что дальше? – спросил Моня.
– В каком смысле?
– Ну, ты поздравил… А дальше?
– Дальше – пускай его по инстанции, добивайся… Ты его сделал уже? Или только придумал?
– Придумал.
– Ну вот… – Инженер усмехнулся, качнул головой. – Вот и двигай теперь… Пиши, что ли, я не знаю.
Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.
– Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы… Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?
– Нет, – жестко сказал инженер. – Неинтересно.
– Почему?
Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.
– Парень… ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился…
– Полтора года.
– Вот видишь… Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком… Что, неужели веришь в этот свой двигатель?
– Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу – бредятина! – изумился Моня, чувствуя, что – все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.
– И узнавать не хочу.