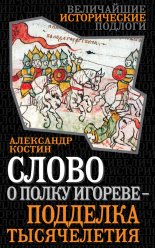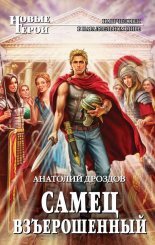Последняя весна Курочкин Виктор

Анастас колотил палкой по ставням и кричал:
– Эй, Стеха! Чего закупорилась? Не вишь – утро? Ставни открой!
Удары раскатывались по селу, а старый пустой дом гудел и ухал, как огромный чугунный котел.
Потом Анастас поднялся на крыльцо и обалдело уставился на новый тяжелый замок, висевший в кованых пробоях двери.
– Откуда такой замок взялся? Кажись, у меня такого и не было. Разве что Стеха купила.
Анастас принялся искать ключ. Он обшарил щели и дырки в дверях, перещупал пазы бревен, перевернул полусгнившие ступени крыльца. Когда все было ощупано, обшарено, перевернуто вплоть до кирпичей под окнами, Анастаса взяла оторопь.
– Куда же она его запрятала? Разве что в собачьей будке посмотреть. – И он пошел в сад.
В былые времена, когда он был молод и когда еще был жив беззлобный и брехливый «дворянки» Полкан, будка служила надежным семейным тайником для ключа. Но пес давно издох, будка давно сгнила и Анастас давно состарился.
Старик бродил по саду меж одичавших кустов смородины и крыжовника. Он забыл про ключ: теперь его одолевали другие мысли. Он негодовал на жену Стеху, на сына с невесткой за то, что они своей беспечностью и бесхозяйственностью погубили дивный сад. Пышную бесплодную яблоню и полузасохшую грушу он скверно выругал, грозился начисто вырубить буйный вишенник. Но злость и обида скоро прошли, их сменила тупая усталость. Дойдя до колодца, он присел на источенный червями трухлявый сруб.
На старика снизошло небытие. Последнее время оно все чаще и подолгу одолевало Анастаса. Сердце еще качало кровь, но уже не способно было чувствовать. Он неподвижно сидел на срубе и широко раскрытыми глазами смотрел на мир. Видел ли он что-нибудь – трудно сказать.
Стояло бабье лето, ясное, безмолвное и грустное, по утрам знобкое, днем жаркое, а ночью холодное. Прозрачная паутина, словно сети, опутала длинный забор. На дуплистой липе с блекло-зеленого листка плавно спускался паук. Дружная семья коренастых одуванчиков расцветала вторым цветом, и он был ярко-желтый, как само солнце.
Голоногая с хитрыми зелеными глазами девчонка пролезла сквозь тын, подпрыгивая, подбежала к колодцу:
– Дедушка Анастас, айда завтракать!
Старик не пошевелился и продолжал смотреть в одну точку. Девочка пососала палец, потопала босыми, красными от холодной росы ногами, потом присела на корточки и заглянула в глаза Анастаса. Они были круглые, оловянные и смотрели не мигая, как у слепого. Девочке стало страшно. Она вскочила и со всех ног бросилась от колодца. Но, добежав до забора, остановилась и, постояв немного, вернулась назад. Старик сидел в прежней позе. Девочка, замирая от страха, с какой-то отчаянной решимостью дернула Анастаса за рукав рубахи:
– Дедка, пойдем домой!
Анастас вздрогнул и удивленно посмотрел на девчонку:
– А? Чего ты говоришь-то?
Девочка подпрыгнула и засмеялась:
– Зову, зову, а ты как глухой. Пора завтракать. Картошка стынет, и мамка ругается, – радостно, без передышки сыпала она и тянула Анастаса за руку. Он едва поспевал за ней и широко, бессмысленно улыбался.
Они вышли из сада, обогнули дом с наглухо заколоченными окнами, и тут Анастас решительно заупрямился:
– Куда ты меня, пострел, тянешь? Вот ведь дом-то мой.
Девочка всплеснула руками:
– Ой, какой же ты смешной, дедушка!
Анастас повернул назад, к крыльцу своего дома. Девочка догнала старика, вцепилась в подол рубахи и заревела.
Анастас остановился:
– Ну, ну, не плачь, глупая. Экая глупая.
– Зачем ты меня пугаешь? – глотая слезы, сказала она. – Небось и картошка остыла, и мамка ругается.
– Ну коли так, идем же скорее, – охотно согласился Анастас и опять направился к своему дому.
– Да не туда! – закричала девчонка и сердито топнула ногой. – У, какой упрямый, как бык!
– Как не туда? – удивился старик. – Вот ведь мой дом.
– А вот и нет. Теперь ты у нас живешь.
– У кого – у вас?
– У нас. У папки моего, Ивана Лукова.
Старик махнул рукой:
– Эва что придумает. В чужом доме жить. А свой на что?
– Там теперь никто не живет…
– Как «никто»? А я… А баба моя… Сын мой, Андрей Анастасьич. Эка ты глупая девка-то. – Старик привлек к себе девочку и подолом рубахи вытер ей мокрый нос.
Она прижалась к Анастасу. Он гладил ее всклокоченные волосы и как мог успокаивал.
– И совсем не глупая. И совсем не глупая, – всхлипывая, говорила девочка. – Ты сам все забыл. Все, все на свете, и бабушка твоя померла.
– Кто – «померла»? – переспросил старик.
– Твоя бабушка Степанида. Совсем недавно ее похоронили.
– Похоронили Стешу? Вона что… – Анастас поднял вверх голову и перекрестился.
– Пойдем, дедушка Анастас.
Она тихо потянула старика за руку, и он покорно поплелся за ней…
Анастас Захарович Засухин страдал провалом памяти. Болезнь то внезапно наваливалась на Анастаса, то так же внезапно оставляла его. Первый раз она посетила Анастаса пятнадцать лет назад, после того как он сжег колхозную ригу со льном. По этому случаю Засухина вызвали в прокуратуру к следователю. Перепуганный насмерть Анастас, до этого не имевший никакого понятия ни о судьях, ни о прокурорах, внезапно все забыл и на вопрос следователя: «Расскажите, как было дело?» – ответил вопросом: «Какое еще дело?»
Следователь улыбнулся:
– Ты мне не строй злоумышленника. Рассказывай, как спалил ригу.
Анастас обалдело уставился на следователя:
– Какую еще ригу?
– Обыкновенную ригу, колхозную, со льном, – пояснил следователь.
– Да нешто я ее спалил? – удивленно протянул Анастас.
– Точно, спалил, и головешек не осталось.
– Вона что… А я-то что-то и не припомню.
– «Не припомню»… Забавный тип ты, Засухин. Прямо по Чехову жаришь, – засмеялся следователь и, резко оборвав смех, принял строгий вид. – Вот что, дорогой мой, о том, что ты спалил ригу, всем известно, и доказательств не требуется. Понятно?
– Так-так, – подтвердил Анастас.
Следователь откинулся на спинку стула. Высоко вскинул брови и показал Анастасу палец.
– Мне важно знать, был ли умысел или простая небрежность. – Следователь описал пальцем круг и продолжал: – Умысел бывает косвенный и прямой. Понимаешь, Засухин?
– Так-так, – заулыбался Анастас, следя, как тонкий палец следователя мелькает перед его носом.
Улыбку Анастаса следователь почему-то принял за насмешку. Он густо покраснел и резко сменил добродушный тон на грубый:
– Ты мне не прикидывайся. А говори прямо. Нарочно спалил ригу или так, по халатности?
– Чего ты мне говоришь-то? Кто кого спалил? – наивно переспросил Анастас и окончательно восстановил против себя следователя, который, в сущности-то, и не желал старику зла.
Следователь вел порученное ему уголовное дело. Он был молодой, горячий, в своей работе превыше всего ставил объективность и беспристрастность. Дело о поджоге он относил к делам бесспорным и пустячным, отлично видел, что обвиняемый – не преступник: просто недоразвитый колхозник; знал, что и ригу он сжег без умысла: уснул и сам чуть не сгорел вместе с ней; и был уверен, что наказание ему будет условное. Следователь и сам бы мог внести в протокол нужные ему показания, и, конечно, обвиняемый, не читая, подписался бы под ними. Но где тогда объективность? И ради этой объективности он добивался от Анастаса одного только слова «уснул». Ему очень хотелось подсказать это слово Анастасу. Но не мог: мешала беспристрастность. И он продолжал допрашивать Анастаса. Доведенный до бешенства его ответами: «Какое дело?..» и «Да нешто это я?..» – следователь арестовал старика и, провожая его в камеру, сказал:
– Подумаешь сутки-другие – как миленький заговоришь.
Прошли сутки, другие, третьи – Засухин не заговорил «как надо». Его направили на судебно-психиатрическую экспертизу.
В больнице к Анастасу внезапно вернулась память, и он сказал то заветное слово, которого так упорно добивался молодой следователь. А в суде опять забыл.
Суд не был так щепетильно объективен, как следователь, и чтобы поскорее развязаться с затянувшимся делом, приговорил Анастаса к условному наказанию. В колхозе условное осуждение расценили как чистое оправдание. «Придуривался, придуривался и вылез сухим. Вот уж придурок так придурок», – долго судачил народ. Кличку «придурок» он носил лет пять, пока колхозники не убедились, что у Засухина и в самом деле не все дома. На общем собрании, когда решался вопрос о распашке залежных земель, Анастас Засухин неожиданно для всех заявил, что давно пора заняться «черным переделом».
В период провала памяти Анастаса одолевало тупое безразличие ко всему. Когда же она возвращалась, Анастаса охватывала бурная деятельность.
Засухин находился в полном сознании, когда гроб с его Стехой опустили в могилу. Он первым бросил горсть земли, низко поклонился и сказал: «До скорой встречи, Стеша». А на поминках произошел конфуз.
Перед первой скорбной стопкой Анастас что-то хотел сказать, но, не найдя слов, тяжко вздохнул, выпил и, не закусывая, долго сидел, качая головой из стороны в сторону. Налили по второй. Анастас неожиданно взбодрился:
– Нам жить, а Степаниде Мироновне гнить!
Гости потупились, а пышная, грудастая жена сына, приехавшая из города на похороны, поморщилась и сказала мужу:
– Андрей, не давай ему больше. Да и сам не нагружайся.
– Батя, хватит тебе. – Андрей хотел взять из рук отца бутылку.
– Эх, сынок, горе-то какое, а ты – «хватит». Анастас до краев налил стопку и, тряхнув головой, крикнул: – Гости дорогие! Выпьем за Степаниду Мироновну! Нехай ей там легко гнить, а нам тут весело жить!
Захмелевшие гости дружно выпили. И так перед каждой стопкой Анастас возбужденно продолжал выкрикивать: «Нам весело жить, Степаниде Мироновне гнить». А потом запел высоко и нестройно: «Снеги белые пушистые…» – и, резко оборвав песню, вскочил и топнул ногой:
– А ну, Стеха, выходи!
Все онемели. А Анастас бил каблуком, хлопал себя ладонями по груди и коленям и продолжал настойчиво вызывать свою Стеху…
Утром, после поминок, Андрей с женой, Зинаидой Петровной, под руки привели Анастаса в дом соседа Ивана Лукова и положили в темном углу за печкой на узкую железную кровать. Анастас покорно лег на тугой соломенный матрац, заложил руки за голову. Сноха стащила с Анастаса валенки, накрыла старика одеялом и сказала:
– Здесь ему будет хорошо.
Анастас, пристально и нежно смотревший на сына, пошевелился, перевел глаза на сноху и тихо ответил:
– Куда ж еще лучше. И печка рядом.
Андрей присел к отцу на кровать. Анастас положил на плечо сына руку. Андрей поежился, поспешно вытащил из кармана сигаретницу… И пока он курил, Анастас ласково гладил плечо сына. Молчание было всем в тягость. Иван Луков и его жена Настя не поднимали глаз от полу и только изредка переглядывались. Зинаида Петровна рассматривала обстановку колхозной избы. Она была слишком простой: пестрые занавески на окнах, стол, десяток стульев, самодельный платяной шкаф, никелированная кровать с горой подушек, приемник «Заря».
«Боже мой, какая убогость», – подумала Зинаида Петровна и, тронув Настю за локоть, как бы извиняясь, сказала:
– Ему у вас будет очень хорошо. Комната теплая. – Она хотела сказать «уютная», но постеснялась и сказала «теплая».
Настя, исподлобья бросив злобный взгляд на Засухину, отрезала:
– Какая уж есть.
– Да, да, очень милая, очень милая, – поспешно заверила Зинаида Петровна и обратилась к мужу: – Андрюша, нам пора.
– Успеешь! – резко ответил Андрей и крепко сжал руку Анастаса. – Отец, ты будешь жить здесь. Понимаешь.
Анастас пристально смотрел на сына.
– У соседа, Ивана Лукова. Понимаешь?
Анастас, не отвечая, продолжал разглядывать сына.
– Что же ты молчишь, отец?
Анастас приподнял голову и улыбнулся наивно, по-детски:
– Чего ты говоришь-то?
– Ты, отец, будешь жить здесь, у Ивана Лукова, – повторил Андрей.
– Эва, у чужих людей жить. А свой-то дом на что? – возразил Анастас.
– Так надо, отец.
– Ну коли так надо, тогда что ж, поживу, – нехотя согласился старик.
– Ну вот и молодец, – обрадованно подхватил Андрей, – а через год мы тебя заберем в город. Понимаешь?
Анастас кивнул головой, пожевал губами и тихо спросил:
– Старуха-то моя разве уж померла?
– Да, отец.
Анастас отвернулся к стене и натянул на голову одеяло.
Когда Андрей с Зинаидой Петровной выходили из дому, Настя плюнула им вслед и сказала:
– Бесстыжие охломоны!
– Шаромыжники! А ну их… – добавил Иван и крепкими матюками обложил Засухиных.
Через полчаса Анастас сидел за столом между старшей дочерью Луковых Раей и младшей Лидочкой. Он хлебал из общей алюминиевой миски мясной наваристый суп, хлебал и похваливал.
Супруги Луковы, приняв в дом Анастаса, с первого же дня зачислили его равноправным членом семьи. Это означало для Анастаса: ешь, пей, спи. Надо будет – выругают или пожалеют; о каких-либо привилегиях или особом внимании и не мечтай. Они твердо верили, что особое внимание не только балует, но и унижает человека.
Настя днями пропадала на молочной ферме, Иван – в строительной бригаде. Старшая дочь училась и после уроков помогала матери на ферме. Лидочка совсем была мала: она первый год ходила в школу.
Несколько дней Анастас пластом лежал на койке, не отрываясь смотрел в потолок и что-то шептал про себя.
Лидочка прибегала из школы, всплескивала ладошками, качала головой и, как взрослая, говорила нараспев:
– Надо же подумать – все лежит. И как тебе, дед, не надоест лежать?
Анастас слушал, улыбался, поглаживал бороду.
– Вот еще, улыбается, как маленький! – нарочито возмущенным голосом выкрикивала Лидочка и, подскочив к Анастасу, принималась тормошить его: – Вставай, вставай, а то пролежни належишь. Да ну вставай, дед, обедать будем!
При слове «обед» старик поднимался, опускал на пол ноги. Лидочка усаживала деда за стол, потом доставала из подпола отпотевшую крынку с молоком.
Как-то Лидочке вздумалось накормить Анастаса щами. Длинной кочергой она подцепила в печке полуведерный чугун со щами и опрокинула его. Перепуганная насмерть Лидочка не знала, куда спрятаться. Она очень боялась матери, у которой был вспыльчивый характер и хлесткая рука.
Когда Настя пришла с работы и увидела в печке перевернутый котел, она позеленела от злости и, вытащив из веника прут, бросилась искать дочку. Заглянула под кровать, слазила в подпол, на чердак, обшарила все углы в сенях, во дворе и, не найдя, пообещала расправиться с ней, как только явится домой.
Начало смеркаться. Прибежала с фермы Рая, вскоре пришел с работы и отец. Пора было ужинать. Лида не являлась. Настя забеспокоилась. Уже совсем стемнело, когда Луковы отправились искать дочку. Поиски были долгими и шумными: вся деревня поднялась на ноги. Настя, обезумев, носилась по улице, истошным голосом вызывала Лиду. Она вначале грозилась запороть ее до смерти, потом начала умолять и клясться, что ей ничего не будет, а потом заревела на всю деревню дурным голосом.
Была глубокая ночь, когда Луковы вернулись домой ни с чем. Настя неутешно плакала. Молчаливый Иван грубо прикрикнул на нее и приказал собирать ужин. Настя, глотая слезы, накрыла стол и пошла будить Анастаса. Откинув одеяло, она радостно заголосила.
– Ах ты, негодная овца! Что же ты со мной делаешь?!
Под боком Анастаса, свернувшись, безмятежно посапывала Лида.
Так между старым и малой завязалась дружба. Лида отца не боялась. У него хоть на голове пляши, слова не скажет. Зато матери под горячую руку не попадайся. И Анастас явился для нее надежной защитой. Когда после очередной проказы Лида пряталась за спину Анастаса, Настя ее не трогала, а только грозила:
– Ну, погоди, выпорю, так выпорю – живого места не оставлю.
Прошла неделя. Анастас не выходил из дому. Почти все время лежал в своем углу, уставясь в потолок, вытянув поверх одеяла длинные вялые руки… И вдруг в то утро пропал…
Лидочка разыскала старика в саду и привела домой. Настя резко отчитала Анастаса:
– Ты куда ушел без cпpoca, а? Кто тебе такую волю дал? А?
– Как куда? Гулять, – невозмутимо ответил Анастас.
– Какой гулена нашелся! Ты посмотри только на себя. Срам. А рубаха-то, рубаха! Словно ее корова жевала. Лида, достань-ка из комода батькину красную рубаху.
Напяливая на Анастаса рубаху, Настя продолжала пилить старика:
– И зачем я навязала тебя на свою шею? Потому что дура, вот зачем. Ты думаешь, велика мне радость– твои двадцать рублей? Да разве это деньги? Тьфу!.. Я сама на ферме много больше выгоняю.
– Мамка, хватит ругаться, – укоризненно протянула Лида.
– Я не ругаюсь, правду говорю. А правду никому не побоюсь в глаза сказать, – отрезала Настя и критически осмотрела наряд Анастаса. – Не очень-то чтоб очень. Ну да не на свадьбу… Разве что воротник сузить.
В широкой Ивановой рубахе Анастас утонул. Торчала лишь круглая, как клубок шерсти, голова с маленьким скомканным лицом. Настя подшила воротник, застегнула пуговицы и, запрятав подол рубахи старику в штаны, погрозила пальцем:
– Взяла я тебя из жалости. А коли так – соблюдай порядок… дисциплину. А будешь нарушать мою дисциплину, так я быстро распоряжусь – в багаж и на станцию. Пусть с тобой в городе культурные нянчатся, а у меня, запомни, не богадельня.
Анастас слушал, улыбался, и трудно было понять, чему он радовался. Тому, что его приютили из жалости, или тому, что на нем новая красная рубаха, которая старику очень нравилась.
На другой день с утра он опять околачивал палкой дощатые ставни. На третий день – тоже. И все чаще и подолгу пропадал в саду. К нему возвращалась жажда деятельности. Он вдруг принимался окапывать давно одичавший куст крыжовника и работал до тех пор, пока его взгляд случайно не останавливался на куче дров. Он бросал лопату и шел укладывать в поленницу дрова. Но и это дело быстро забывал и начинал заделывать дупло старой липы. Липа была ровесница Анастасу и готовилась при первом сильном ветре свалиться. Сердцевина у нее сгнила, и ствол при ударе гудел, как труба. Эта работа тоже скоро останавливалась из-за консервной банки, которая случайно попадала старику под ноги. Анастас поднимал банку, вытряхивал из нее мусор и радовался как ребенок:
– Эх, банка хороша! Как раз для червяков на рыбалку.
В нем пробуждалась хозяйственная жилка, и хотя занятия старика были наивны и бесполезны, в них проглядывали проблески сознания. И медленно возвращалась память. Луковы ни в чем не ограничивали старика и предоставили ему полную свободу. Они, по-видимому, считали, что чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, хотя потом и раскаивались.
Старая полудикая груша, родившая мелкие, как орех, и страшно кислые плоды, наполовину высохла. Анастас решил ее малость окультурить. По лестнице с ножовкой в руках он влез на грушу и энергично принялся спиливать отмершие сучья. Старику помогала Лидочка: она подбирала сучки и складывала их в кучу. Груша была начисто обрита, оставался один небольшой сучок. Анастас, бросив на землю ножовку, потянулся к сучку и, потеряв равновесие, опрокинулся с лестницей. Когда Лидочка подбежала к нему, Анастас лежал на спине.
Иван Луков перебирал пол в колхозной бане, когда прибежала посиневшая от страха Лидочка и, уткнувшись в колени отца, заголосила:
– Дедка Анастас разбился!
Невозмутимый Иван только крякнул и, поставив дочку на ноги, корявой, как дерюга, ладонью вытер ее мокрое лицо.
Когда Иван распахнул калитку в сад, Анастас сидел, привалившись спиной к стволу груши. Иван подошел к нему и долго в упор разглядывал старика. Анастас смотрел на Лукова, и в глазах его, обычно тусклых и пустых, стояла безысходная тоска.
Иван опустился на колени, вытащил коробку с махоркой, скрутил толстую, как сигара, цигарку, глубоко затянулся и, выдохнув дым в лицо Анастаса, спросил:
– Мостолыги-то целы?
– Кажись, целы, – пробормотал Анастас.
Прошло добрых пять минут, пока Иван накурился; он раздавил о каблук окурок и наконец, собравшись с мыслями, сказал:
– Проверься хорошенько. Если что, так враз машину и в больницу наладим.
– Проверялся… ничего. Только вот в плече да… в затылке гудёт.
– Дюже гудёт?
Анастас болезненно сморщился:
– Не так чтоб дюже, а гудёт.
– Тогда ничего. Погудёт и бросит, – заверил Иван, одной рукой подхватил под мышку лестницу, другой – Анастаса.
Старик хоть и медленно, но твердо переставлял ноги. Проходя мимо дома со слепыми окнами и тяжелым замком на дверях, Анастас мельком взглянул на него и, растягивая слова, спросил:
– У тебя живу-то, что ль?
– Ага, – ответил Иван.
– Так-так… – Анастас остановился, потер лоб, потом затылок. – Это, значит, так Андрей распорядился?
Иван задумался; осторожно опустил Анастаса на землю, сел рядом.
– Она.
– Так-так… Выходит, что она всему голова.
– Голова баба. Крепкая голова.
Иван Луков никогда ничему не удивлялся и ни о чем не сокрушался, на жизнь смотрел просто и практично. Он был от природы грубоват. Но грубость его не перерастала в пошлость и не была оскорбительна. Она служила ширмой, за которой Луков скрывал свою простоватость и безволие. Настя еще девкой раскусила характер Ивана и женила его на себе. Сразу же после свадьбы он попал под каблук горячей и упрямой жены. Настя командовала мужем как хотела, а он, хотя и ворчливо и нехотя, во всем подчинялся. Дочери тоже учились у матери командовать отцом, хотя и любили его больше, чем Настю.
Иван решил, что уж если Анастас в таком возрасте упал с дерева и не рассыпался, значит, старик крепкий и выживет без врачей. Настя же решила по-своему и наутро прогнала Ивана в больницу за доктором.
Доктор выслушал, выстукал Анастаса, сказал что-то непонятное и уехал, предупредив, что если старику будет хуже, немедленно везти в больницу.
Анастасу не было ни лучше, ни хуже. Теперь он находился в полном рассудке, но говорил мало и с передышками. Кашлять старику было трудно, и он только кряхтел, слабо и жалобно. Настя уговаривала старика сообщить о болезни сыну. А когда он наотрез отказался, она сама украдкой отослала в город письмо.
Ответ пришел скоро. Зинаида Петровна посылала Луковым тысячу теплых приветов, униженно просила приглядеть за домом и беречь сад. О старике она вспомнила в конце письма, пообещав, что если ему будет совсем плохо, то Андрей обязательно приедет. Настя расценила ответ так, что старик им вовсе не нужен и если они и приедут, то разве что на похороны. Глубоко задетая за живое, Настя стремительно прошла за печку к Анастасу, но, увидев торчащую из-под одеяла голову, обросшую белыми мягкими волосами, круглые грустные глаза, бессильные тонкие руки, смогла выдавить одно только слово: «Дедушка…» Злость мгновенно остыла. Настя подоткнула под бока Анастасу одеяло и, смяв в кулаке письмо, тихо вышла из дому.
Анастас старался болеть как можно тише. Он с горькой обидой сознавал, что уж если стал в тягость родному сыну, то каким же неприятным, ненужным грузом он лег на плечи чужих людей, бескорыстно приютивших его, никудышного старика. Анастас, давно потерявший веру в Бога, теперь горячо, до слез умолял Его вернуть ему здоровье. И оно медленно, нехотя возвращалось к старику.
Когда Иван с Настей уходили на работу, а девочки в школу, Анастас с трудом и оханьем сползал с койки, добирался до приемника, включал его и, подвинув стул к окну, садился, облокотясь на подоконник. И потому, что слух жадно ловил голоса приемника; и потому, что, сидя в этой теплой, насквозь пропахшей ржаным хлебом и кислыми щами избе, он явственно ощущал, как разгуливает ветерок на улице; и потому, что чуть теплое солнце все еще золотило пожухлую стерню полей, а под окнами куст сирени с темно-зелеными листьями все еще нежился, перед тем как его хватит осенний морозец, – старик сознавал, что ему тоже очень хочется жить, и чувствовал, что он обязательно будет жить и что силы вот-вот вернутся к нему.
Первой приходила из школы Лидочка. И сразу, с порога, начинала выкладывать Анастасу последние новости.
– Дедка, ты знаешь, на крыше клуба ставят антенну. Ужасть какую высокую, даже макушки не видно!.. – захлебываясь от радости, кричала Лида.
– А зачем она, эта антенна? – интересовался Анастас.
– Для телевизора. В клуб телевизор новый привезли, и говорят, очень дорогой. Мы с тобой будем, дедушка, ходить на телевизор. Правда, хорошо, когда есть телевизор?
– На что ж еще лучше, – соглашался Анастас. Лида, не дав деду поговорить о телевизоре, сообщала очередную, не менее важную новость:
– Степку из школы выгнали. Так и надо ему! Взял, дурак, оборвал с кустов перец и давай девчонок по губам мазать; меня тоже два раза мазнул. Ужасть как жгло.
– Пороть стервеца надо за такие дела.
– Теперь пороть, дедушка, запрещено.
– А что же с ним делать?
– Воспитывать, воспитывать! – хлопая в ладоши, кричала, припрыгивая, Лидочка. – А нашу Райку в газете пропечатали. Вот потеха: учится хуже всех, а ее в газету.
– Не может быть такого, – сомневался Анастас.
– Зато она хорошо работает на ферме. А теперь производственная учеба – выше школьной… вот! – пояснила Лида. – А я все равно не пойду на ферму… хоть убей.
– А куда же ты пойдешь? – спрашивал Анастас.
Лидочка, подпирая кулачком щеку, задумчиво глядела в потолок.
– Я еще сама точно не решила. Не знаю, что лучше. Или в детском саду ребятишек нянчить, или яблоки караулить. – И, спохватившись, решительно заявляла: – Ты, дед, сиди тихо и не мешай мне уроки делать.
Она вытряхивала из сумки на стол книжки с тетрадками и вместе с ними недоеденный кусок пирога, а потом взбиралась с ногами на стул, наваливалась грудью на край стола и, высунув язычок, пыхтя, выводила острые, как частокол, буквы. Стол был высок для Лиды. На нем ели, шили, гладили и долгими зимними вечерами играли в карты. Анастас думал: вот как поправится, смастерит для Лидочки удобный столик.
Вечером после ужина Анастас шел в свой угол, валился на жесткий матрац и, заложив руки за голову, шумно вздыхал. Иван подвигал к койке табурет, садился и собирался с мыслями, чтобы завести с Анастасом умный, дельный разговор. Но мысли в его голове ворочались тяжело, неуклюже, как жернова. И он никак не мог придумать, с чего же начать. Анастас первым начинал нужный разговор, над которым так мучительно думал Луков:
– Строиться тебе надо, Иван Нилыч.
Иван, сделав последнюю глубокую затяжку, выдыхал вместе с дымком:
– И то надо. Лес-то у меня давно заготовлен.
– Хороший лес?
– Ничего лес-то. Ладный лес-то. На избу с кухней.
– Плотников будешь нанимать аль сам?
– И сам, и плотников. – И после долгого молчания добавлял: – А тебя, Анастас Захарыч, буду просить. Уважь, сосед, пусти в свой дом пожить, пока строюсь.
– Эва какой разговор. Да хоть завтра перебирайся и живи, – обрадованно говорил Анастас.
Луков удовлетворенно крякал и сворачивал толстую, с оглоблю, цигарку. Анастас улыбался и, хитро подмигивая, спрашивал:
– Деньжат-то небось припас на стройку?
– Ничего, хватит. В этом году мы неплохо вкалывали с Настюхой.
– Сколько же на трудодень-то пришлось? – любопытствовал Анастас.
– Ох-ха-ха! – раскачиваясь, хохотал Иван. – Отстал ты, Захарыч. Теперь у нас как на производстве: поработал – и хрустики на бочку. Денежная оплата. Настя, подай-ка мне расценку, – приказывал Иван.
Листая толстыми, неуклюжими пальцами тоненькую книжицу расценок колхозных работ, Луков, широко улыбаясь, пояснил:
– Вот тут, как в стекло, смотришь и видишь, за что вкалываешь. Полюбопытствуй, Захарыч!