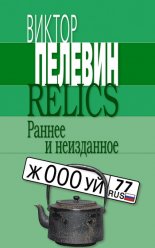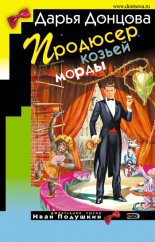Девятный Спас Брусникин Анатолий
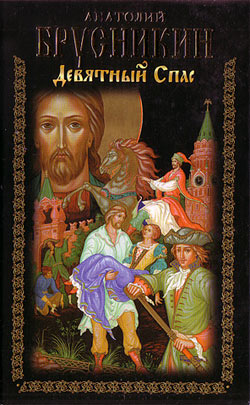
С гехаймратом Ромодановский разговаривал, уже сидя в дорожной карете, в которой ему предстояло за полтора дня преодолеть больше двухсот вёрст. Вернуться он собирался завтра, поздней ночью. Автоном Львович сказал, что к тому времени как раз добьётся от Штрозака и Быка полного признания и представит кесарю на усмотрение: как дальше быть. Уехал Фёдор Юрьевич, и остался Зеркалов полновластным распорядителем розыска и всей Преображёнки.
Времени у него, стало быть, на всё про всё было — день да полдня. Мало. Но Автоном управился, поспел.
Проводив начальника, он сразу пошёл в тюрьму, где тайно, без свидетелей, поговорил с обоими арестантами.
Штрозак и Бык слушали гехаймрата недоверчиво. Чтоб один из главных царских палачей желал соединиться с заговорщиками? Не может того быть! Тут какая-то Преображенская каверза.
Пришлось послать за Агриппой. Тогда ганноверец с пятидесятником, наконец, поверили.
Каждому Зеркалов растолковал, что от него требуется. Указания были ясные, подробные, дельные. Перечить и спорить никто из внимающих не пытался. Всем было понятно, кто теперь в заговоре главный.
Автоном Львович прикинул, на скольких помощников он может рассчитывать. Штрозак с Фролом чужие, их использовать нужно с осторожностью. Журавлёв свой, но ему не разорваться. Придётся вовлечь в комплот главного шпига.
Этого долго уговаривать не понадобилось. Человечишко сметливый и алчный, Юла враз сообразил, какой стороны надо держаться. Тысячу рублей серебром посулил ему Зеркалов, для шпига деньги невообразимые, для будущего первого министра — пустяк. Войско у Автонома Львовича составилось в итоге такое.
Двое агентов со своим интересом: Бык и посольский секретарь.
Двое «зрячих» помощников, кому известна суть: Яха с Юлой.
Трое помощников «слепых»: Попов, мастер Илья Иванов и Микитенко.
Обращение с сими последними требовало особенной тщательности. Они могли принести много пользы, но — чутье подсказывало — здесь таилась и опасность для всего великого замысла.
Всех живущих на свете, кроме сына (который, может, и не человек вовсе, а ниспосланный ангел) Зеркалов делил на две породы: кого мог под себя подломить и кого не мог. Особи второго вида ему встречались всё реже, ибо мало кто умел устоять против силы, которая с годами созрела в Автономе Львовиче.
Троица, которой предстояло стать орудием в затеянной гехаймратом игре, составилась из людей очень разных, однако в каждом из них гехаймрат чувствовал тревожную неподатливость.
Гвардии прапорщик Попов, перекрещённый фрязин, казался ему слишком ушлым и удачливым, такой из всякой воды сухим вылезет. Опасное качество.
Бывший казак, а ныне прапорщик Микитенко был несгибаемо прям, под себя не подломишь.
А наибольшое беспокойство вызывал посадский мастер, самый непонятный из всех. Откуда взялся? Как завладел иконой? Человеческого ли происхождения богатырская силища, что чувствуется в каждом его движении?
От всех них следовало избавиться — быстро и чисто. Но перед тем использовать на потребу делу.
Важно было поскорей развести приятелей поврозь, потому что втроём они являли собою трудносокрушимое единство. Почему это так, Автоном Львович объяснить не мог, но своему острому нюху привык доверяться.
Исходя из этих соображений и построил всю диспозицию.
Попова отправил к англичанам, уже предупреждённым Штрозаком, что и как надо делать. Живым оттуда ушлеца не выпустят.
С Микитенкой тоже получилось по задуманному. Как и думал гехаймрат, от арестного задания бесхитростный прапорщик отказался и был приставлен начальствовать над пожарной командой. Там-то Яха его и упокоит. Главный же расчёт, самый тонкий, Зеркалов строил на мастере. Не было у Автонома Львовича большой веры в стрелецких пороховщиков. И правильно, что не было. Илейка, слазив в подкоп, сказал, что взрыв приготовлен негоже, терем может устоять. Этого допустить было никак нельзя. Вот пускай, раз такой умный, сам Ромодановского и подорвёт, а из-под земли мастеру не выйти, об этом позаботятся Юла с Быком.
Под искусным руководством Зеркалова всё устроение заговора обрело совершенство и надёжность часового механизма, звонко отбивающего полночь.
Первый удар курантов. Ромодановский возвращается из поездки по монастырям в Преображёнку, где гехаймрат успокаивает начальника: всё-де идёт своим чередом. Князь-кесарь отправляется на Большую Никитскую спать-почивать.
Второй удар. По знаку наблюдателей Илья поджигает фитиль. Ромодановский взлетает в небеса, мастер навеки остаётся в недрах земли.
Третий удар. Стрельцы поджигают Москву с двух концов. В ночной суматохе Яшка кончает Микитенку.
Четвертый. Колокола бьют набат, на улицы высыпает чернь.
Пятый. Увидев, что власти нет, толпа кидается громить всё подряд.
Шестой. Гехаймрат Зеркалов собирает в Преображенском все, какие есть, войска и уводит их охранять дворец Алексея Петровича.
Седьмой. Смутьяны под водительством стрельцов сжигают ненавистную Преображёнку. Это пускай. Все секретные архивы к тому времени будут уже вывезены и запрятаны в надёжное место, для дальнейшей Автонома Львовича пользы.
Восьмой. Дав иностранцам на Кукуе как следует напугаться, Зеркалов с царевичем и верными воинами явится к ним на защиту. Если чернь сгоряча сунется бить басурман — отведает картечи.
Девятый. Наследник пошлёт августейшему родителю срочное донесение о московском бунте и своём осадном сидении. Пускай народишко в городе погуляет и попьянствует. За кукуйскими палисадами да с пушками оборониться от вольницы будет не трудно.
Десятый удар грянет, когда царь, сорвавшись из армии, кинется выручать свою столицу и цесаревича.
Одиннадцатый удар курантов выйдет самым громким: когда Фрол со товарищи взорвут Петра на пароме ли, на мосту ли, иль просто на дороге. Так или иначе, живым длинноногий чертяка до Москвы не доберётся.
Ну и последний, полунощный удар: усмирение пьяного сброда и воцарение законного государя Алексея Второго.
А правителем при новом царствовании станет Автоном Зеркалов. Будет он для Алексея спасителем и чудодеем, для московских иностранцев — защитником, для дворян — восстановителем порядка, для Англии с Австрией — миротворцем, кто развяжет руки шведскому королю.
И ещё одно, важное. Эта мысль явилась Зеркалову последним блистательным озарением.
Для вящего укрепления своего позициона при новом государе нужно женить Алексея на двоюродной сестрице, Василисе Милославской. Сосватал же в своё время Артамон Матвеев, первый министр, свою воспитанницу Наталью Нарышкину за государя. И потом через царицыну постель владел не только дневными, но и ночными помыслами монарха.
В ночь, предшествующую «курантной», Автоном Львович провёл с племянницей задушевный разговор.
Беседовали у неё в светелке, после того как все исполнители получили задания и отправились кто куда.
Сел Зеркалов рядом с девушкой на постель, по-родственному. Обнял за плечо, улыбнулся улыбкой приязненной и сердечной, какую раньше приберегал только для сына.
— Ну вот, доченька, и настало время рассказать тебе всю правду…
Она смотрела на него с удивлением и чуть ли не страхом. Никогда раньше он её рукой не касался, никогда таким голосом не говорил.
— Что удивляешься? Что «доченькой» назвал? Ты для меня давно дороже родной дочери, да и у тебя сызмальства, кроме нас с Петей, на свете никого нет. Так ведь?
Она кивнула, что-то в её лице дрогнуло, смягчилось. Знать, удалось нащупать верную струнку.
— Думаешь, легко мне было являть тебе внешнюю суровость? А когда пришлось на целых десять лет держаться от тебя вдали, то-то сердце от тревоги разрывалось. Хоть и знал, что ты жива, здорова, обихожена. О том мне еженедельно докладывал мой верный раб Нифонт-безносый, приставленный тебя оберегать. А ты, поди, решила, забыл тебя дядя Автоном? Эх ты, глупенькая…
Он любовно погладил её по гладким волосам и даже преуспел блеснуть слезой. От этакой невидали Василиса снова испугалась. Чувствительно пошмыгав носом, Зеркалов посуровел.
— Знай же: тут тайна великая, страшная. Открыть её до времени я тебе не смел. Ныне же вижу, что ты выросла умная, сильная. Полюбил я тебя теперь уже не по долгу, а по сердцу…
Здесь княжна не выдержала:
— Сказывай, в чём дело! Что ты, дядя, всё ходишь вокруг да около?
Материн нрав, подумалось Зеркалову. Ну да ничего, твои коготки против моих, как медь против стали.
— Не дядя я тебе. Хочу, чтоб стала мне дочерью, по закону и по душе, но родства меж нами нет. Ты особа царской крови!
И гладко, словно по-писаному, заплёл косицу: прядка лжи на прядку правды, а в оплетение — красная лента из сказочного украшательства, на которое юные девы столь падки.
Рассказал о Софье, которая была не беспутной девкой и похитительницей власти, как болтают ныне, а истинно великой и мудрой правительницей, кому он, её ближний стольник, служил верой и правдой. Расписал красу и таланты Василия Голицына, павшего от завистнических козней. Трогательно поведал о роковом амуре меж царевной и её министром.
У Василисы от сопереживания задрожали губы. А когда услышала, что она — плод той прекрасной тайной любви, вскочила и схватилась рукой за сердце. Щёки пылают, глаза горят. Впервые Автоном подумал: а пожалуй, девка-то недурна. Откормить — красавицей будет. Чем не царица российская? Но повести не прерывал ни на миг.
Доверила-де Софья накануне своего падения преданному стольнику три главных сокровища: новорожденную дочь, священную царскую икону и бочонки с золотой казной. Но напали на Зеркалова лютые враги, всего этого лишили, и сам он единственно чудом жив остался.
Больше всего убивался не из-за Спаса и, тем более, не из-за ста тысяч цехинов, а из-за царственной малютки, которую уж не чаял повстречать в этой жизни. Находясь в дальней ссылке, терзался сей мыслию каждый день. А как только вырвался из опалы, устремился на поиски.
Когда же нашёл её у князя Матвея, живую и невредимую, возблагодарил Господа и поклялся, что более никогда не оставит драгоценное дитя своей заботой.
— Я догадывалась! — всхлипнула в этом месте Василиса. — Я чувствовала, что я у тяти не родная! Всё мерещилось, что он на меня с опаской смотрит!
— Ещё б ему не смотреть на тебя с опаской. Не я один тебя разыскивал. Враги Софьи Алексеевны о тебе знали и хотели извести. Помнишь, как тебя ночью пытался убить злой карла? Он был подосланный врагами, втёрся в моё доверие, чтоб до тебя добраться… Потому и оставил я тебя одну в Сагдееве, чтобы отвлечь вражеское внимание.
В свои замыслы Зеркалов её посвящать не стал. Это было ни к чему. Пока было довольно, чтоб девчонка прониклась, сколь многим она обязана своему благодетелю и как прочно они повязаны. Чтоб потом, остыв от слёз, она не засомневалась в правдивости рассказа, Автоном Львович дал ей письмецо, якобы найденное в бумагах Матвея Милославского. При этом внутренне улыбнулся: нечасто бывает, чтобы подделка способствовала доказательству совершеннейшей истины.
— Собираюсь подать прошение, чтоб ты числилась моею законной дочерью и носила имя Зеркаловых, — торжественно сказал он. — Будешь мне дочь, а я тебе отец. Это укроет тебя от вражьих происков. Заодно избавишься от скверной фамильи, которой все шарахаются. — И поспешно прибавил, когда у неё вдруг вытянулось лицо. — А про Сагдеево не сомневайся, оно останется в твоём приданом…
И всё равно на её лице читалось смятение. С чего бы? Предложение со всех сторон было выгодным. Девка она острая, неужто не понимает? Наверное, опасается, не будет ли на прошение отказа. Не объяснять же, что оно будет подано уже новому царю, который своему спасителю ни в чём не заперечит. Однако Василиса, оказывается, тревожилась не о том.
— Что ж, Петруша станет мне братом? — спросила она с трепетанием голоса. — Не хочу я этого!
Автоном Львович заморгал, сам на себя поражаясь. Как это он, старый знаток человечьих душ, проглядел очевидное? Девчонка-то, оказывается, сохнет по Пете!
Ещё не решив, хорошо это или плохо, Зеркалов по привычке сразу принялся выискивать, какую из этой неожиданности можно извлечь выгоду. И выискал.
Ай да сынок, ай да тихоня! Вот и на упрямицу ключик сыскался. Тут предвещались самые разные многообещающие варияции. Но это ещё успеется. Главным плодом ночной беседы была уверенность, что девка с Зеркаловыми связана крепко, не сорвётся. Вот и ладно.
В череду мыслей и планов, теснившихся в многоумной голове гехаймрата, вторгся тройной звон часов, стоявших в углу кабинета.
Задумавшись, Автоном Львович перестал следить за временем, а между тем уж пробило три часа. Где же взрыв, первый удар гишторических курантов? Неужто сорвалось?
Князь-кесарь из своего монастырского объезда заехал в Преображенку совсем ненадолго. Был он злой, усталый. Сколько ни пугал архимандритов, сумел из них вытрясти серебра, золота, парчовых риз лишь тысяч на сто, меньше трети требуемой суммы. Прогневается государь, скажет, одряхлел Ромодановский. Впервые не сдюжил, подвёл…
— Ну, а ты чем порадуешь? — хмуро спросил Фёдор Юрьевич помощника. — Закончил розыск иль нет?
Зеркалов пообещал к завтрему закончить и обо всём доложить, а князь-кесарь тому был рад. Как ни крепился старик, а всё же и у него сила не бездонная. Поехал к себе, спать. С тех пор почти час прошёл.
Пора уже Ромодановскому было отправиться в тартарары, а на Москве по-прежнему тихо!
И здесь содрогнулся несокрушимый Автоном Львович, почувствовав дыхание бездны.
Не надев парика и шляпы, простоволосый, побежал через тёмный двор к ермитажу, где Петя со вчерашнего дня колдовал над иконой.
Сына Зеркалов застал не за работой. Тот сидел на лавке, закрыв лицо руками, и к вошедшему не повернулся. Мольберт стоял, завешенный тряпкой.
Но гехаймрату сейчас было не до копии и не до Петиной хандры.
Автоном Львович бросился на колени перед Девятым Спасом, воздел руки и, глядя прямо в лучезарные очи Христа, взмолился:
— Господи, да сбудется всё так, чтоб вышло во благо мне, сирому рабу Твоему, а пуще того сыну моему Петюше!
И дошла до слуха Вседержителя страстная молитва. С яузской стороны, где Москва, докатилось глухое, раскатистое эхо.
Глава 10
Спас Чёрны Слёзы
Недотыкомка серая
Всё вокруг меня вьётся да вертится,
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?
Ф. Сологуб
Ждал знака и Алексей Попов, с раннего вечера томившийся на английском посольском подворье, в подвале. Всё шло гладко, согласно придуманному плану. Даже лучше.
Посланник Витворт, подготовленный своим секретарём, отнёсся к позднему возвращению «лейтенанта фон Мюльбаха» без подозрений. Днём Алёшка свободно отлучался в город и даже побывал у властительницы сердца, которая, с одной стороны явила непреклонность, с другой же подсказала путь к своей благосклонности: пиши, пиит, вирши — тем и преуспеешь.
Поэтому чем себя занять, было. Мечтательно щурясь на свечку, новопроизведённый майор сочинял чувствительную оду о жестокой царице Клеопатре, искавшей наслажденья в мучительстве влюблённых в нея мужей. Дело двигалось бойко.
Главное же, ради чего Алёшка был заслан к англичанам, уже исполнилось. Ещё вечером пришёл Штрозак, позвал к резиденту, а по дороге шепнул: боясь, как бы не опередил австрийский посланник, сэр Чарльз саморазоблачительный репорт уже составил и вручит посланцу немедля. Пара лучших коней стоят под седлом. Бумаги готовы. Как только грянет взрыв, можно отправляться в дорогу.
То же самое сказал курьеру и Витворт. Он был всё такой же чопорный и холодный, но несколько раз Алексей поймал на себе брошенный искоса, особенный взгляд. Видно, и англичанин пребывал в волнении. Ещё бы! Весь его карьер, а то и жизнь, поставлены на кон. Пальцы, которыми резидент засовывал в потайную шкатулку тонкий листок, подрагивали.
— Удачного пути, лейтенант, — сказал он на прощанье. — Герр Штрозак сообщит, когда вам отправляться в путь. Скачите что есть мочи…
Поколебавшись, подал руку. Лёшка, тоже поколебавшись, её пожал. Не очень-то приятно рукопожатствовать с человеком, которому роешь яму. Даже если это враг отечества.
Со шкатулкой за пазухой Попов сделался покоен относительно задания и предался стихосложению с чистым сердцем. Не заметил, как наступила ночь.
В подвал его посадили, чтоб был подальше от лишних глаз. Место, однако, было чистое и сухое, канделябр на целых шесть свечей. В третьем часу ночи наведался Штрозак. Сказал, что уже скоро, и предложил подкрепиться перед дорогой.
Секретарь поставил на стол пинту чёрного пива, колбасы, солёных бисквитов. Потчуя, нашёптывал:
— Витворт ни о чём не догадывается. Это я убедил его составить отчёт заранее. Там всё подробнейше описано, господин гехаймрат будет доволен… Пейте, пейте, это пиво нам поставляет пивоварня Адамса, лучшая в Москве.
Пиво и впрямь было недурное. Как любят англичане, с горчинкой.
Забрав пустую кружку, Штрозак вышел. А Попову пришла в голову хорошая мысль: пока есть время, не почитать ли, что резидент в своей грамотке написал? Мало ли что секретарь говорит, а вдруг там изложено одними обиняками да экивоками? Тогда весь операцион псу под хвост. Как открывать хитрый ларец, Алексей запомнил.
Пластинку, где левое крылышко бабочки, отодвинуть, на её место поставить верхнюю, потом справа, слева, ещё раз справа, теперь сбоку…
Прислушиваясь, не спускается ли кто по ступенькам, Попов достал мелко сложенную бумажку и развернул. Листок был пуст. Ага, писано невидимыми чернилами. Слыхали про такое.
Он подержал донесение над свечкой. Буквы не проступили. Странно.
Посмотрел на свет, понюхал, даже лизнул. Бумага как бумага.
И сделалалось Алексею тревожно. У посланника на письменном столе лежал целый ворох всяких бумажек. Неужто Витворт от душевной тряски, иначе именуемой нервёзностъю, перепутал листки? То-то выйдет оказия!
Хорошо, Алёша вовремя догадался посмотреть. Однако как поправить дело? Не скажешь ведь, что открыл шкатулку…
В отчаянных положениях, вроде нынешнего, голова у сыщика работала быстро. Он свернул бумажку, уложил обратно, поставил на место все хитрые пластиночки, кроме одной, самой первой.
Замысел был такой: объяснить Штрозаку, что нескладный резидент ошибся. Пускай секретарь скажет, что ларец-де закрыт неплотно, да предложит его отворить и затворить сызнова. А там уж его дело устроить так, чтоб посланник понял свою оплошность…
Если Витворт не станет этого делать или опять вложит пустышку, значит, почуял западню, и тогда всю игру нужно менять.
Времени до взрыва оставалось мало, мешкать было нельзя.
Алёша взлетел по ступенькам вверх, но на самой последней споткнулся — ни с того ни с сего вдруг закружилась голова. Вот некстати!
Он постоял несколько мгновений, опершись рукой о стену. Головокружение не проходило. Наоборот, усиливалось.
Усилием воли майор стряхнул дурноту и шагнул в тёмный двор, где снова был вынужден остановиться.
Это ему и помогло. Если бы вылетел из подвала с разбега, как собирался, его наверняка услышали бы двое посольских лакеев, по-английски «валетов», что стояли чуть поодаль, вполголоса переговариваясь.
Оба были при оружии: с саблями, с пистолетами за поясом. Это понятно — сегодняшней ночью жди погромов. Повалит голытьба чужеземцев бить, и кто не готов к обороне — пеняй на себя.
К слугам подошёл кто-то третий, заговорил. Штрозак! Вот кстати.
Зажав ноющие виски, Попов сделал шаг вперёд — и замер. Дуновение ночного ветра донесло слова:
— … and then kill the Muscovite, — наказывал валетам секретарь. Какого это московита он велит им убить? Похолодевший сыщик вжался в стену и напряг слух.
Штрозак продолжал:
— Я дал шпиону сонного зелья. Минут через пять или через десять он свалится и захрапит. Даже если не упадёт, всё равно будет, как сонная муха. Кремни из его пистолетов я вынул, шпагой махать у него не хватит сил. Сразу после взрыва прикончите его.
— Не понимаю, сэр, — ответил один из слуг. — Почему было сразу не дать ему яду? Меньше возни.
— А если взрыва не будет? Мало ли что? Зачем нам труп правительственного агента? И без того неприятностей хватит.
На лбу у Попова выступили ледяные капли. Тело сотрясалось от озноба.
Ах, Штрозак, змей злохитростный! Обманул гехаймрата! Прикинулся, что наш, а сам всё выдал резиденту! Потому и листок пуст…
Мысли начинали путаться, ноги отказывались держать деревенеющее тело. Он сказал, пять-десять минут?
Прорваться бы за ворота, поднять крик. Может, неподалёку окажется караул.
Но рука, схватившаяся за эфес, дрожала. Чёртов Штрозак был прав — шпаги не удержать. Хватаясь за стену, Попов кое-как спустился обратно в подвал.
Выблевать отраву! Это единственное, что могло сейчас спасти. Он сунул в рот пальцы.
Захрипел, зарычал, но содрогания в нутре не случилось. Алёшка всегда гордился, что крепок желудком. Сколько вина ни выпьет — всё ему нипочем. Вот теперь через крепость желудка и пропадал.
Пав на колени, он согнулся в три погибели, исторгая горлом натужные стоны. Чуть не весь кулак запихнул в горло. Никак! Пропал Лёшка-блошка, вконец пропал.
И Никитин ждал знака, но, в отличие от пиита, неспокойно. Хотя всё, что можно было приготовить, сделал. Где именно заговорщики запалят Москву, было неизвестно, поэтому свою команду он держал под Васильевским спуском, близ реки. Бочки наполнены водой, голландские пожарные пумпы смазаны и многократно проверены — качают исправно. Людей Митя отобрал самых расторопных, все трезвые, каждому назначено своё дело: есть повозные и насосные, есть багорные и ведёрные, есть топорники и крышелазники. Войско своё Никитин поделил на две равные части, потому что поджогов будет тоже два. Одну команду поведёт он сам, для начальства над второй из Преображенского прибыл сержант Журавлёв.
На Беклемишевской башне поставлены двое дозорных: один глазастый, другой зычноголосый. Лишь первый узрит пламя, второй заорёт вниз, куда скакать.
Дмитрий молился, чтоб злодеи не запалили Остожье, где Сенной рынок. Займётся — не потушишь. Ещё тревожился о Зарядье, где дома стоят тесно и много народу сгореть может. Поэтому и расположился поближе к опасному месту. Заранее решил, что отправится туда сам, а Журавлёву принялся объяснять, как лучше тушить горящие стога сена. Однажды, во время Ногайского похода, ему случилось с казаками гасить пылающую степь, да ещё в бурю. Тут главное — головы не потерять, когда сверху начнут сыпаться огненные хлопья.
Но длинноногий сержант, хоть не отходил от командира ни на шаг, указания слушал невнимательно. Дмитрия это злило. Преображенец ему вообще сильно не нравился. Ухмыляется чему-то, рожа дерзкая, скрипит на каждом шагу, словно несмазанная телега, и ещё дух от него противный.
Ночью ливень прошёл, недолгий, но сильный. Никитин дождю обрадовался — дерево отсыреет, дома не так быстро займутся. Встал под струями, задрал лицо, упрашивая небо, чтоб не жалело влаги.
И остальные пожарные стояли на своих местах. Подумаешь, побрызгает водой. Намокнешь — высохнешь. А Журавлёв, едва закапало, вжал голову в плечи и побежал прятаться под стреху башни. Пока не кончило лить, оттуда не вылезал. А потом старательно обходил лужи, словно боялся ботфорты запачкать. Притом были они такие грязные, что от лужи только чище бы стали.
— Не терплю мокроты, — сказал он, вновь приклеившись к Дмитрию. — Вот говорят, в европских землях штука такая есть, «ширм» называется. Кожа промасленная на спицах, раскрываешь над головой — дождь не в дождь, сухо. Ты, прапорщик, человек нерусский. Видал такую штуку?
Тьфу на него! С минуты на минуту Москва запылает, а он чёрт-те про что спрашивает.
— Поди, проверь упряжь, — велел ему Митя, чтобы отвязаться. — И подковы у лошадей!
Время тянулось томительно. На Фроловской башне ударили новые куранты голландской работы: бумм, бумм. Два часа уже. Ждать становилось совсем невмоготу.
Но тут Митя вспомнил, как отец в детстве рассказывал ему о своих ратных походах. Покойный Ларион Михайлович был настоящий витязь без страха и упрёка, но своими боевыми подвигами никогда не бахвалился. Если и заводил разговор о войне, то вспоминал только что-нибудь смешное или поучительное, что могло сыну пригодиться в будущем. Именно такое Дмитрию сейчас и припомнилось. Как говорил отец, страшнее всего не само сражение, когда о себе забываешь, а ожидание перед сечей. Изведёшься весь, с белым светом сто раз распрощаешься, раньше смерти помрёшь. И он, Ларион, придумал от того страха верное средство. Когда оружие было проверено, воины построены и оставалось только ждать приказа «в бой», он доставал из седельной сумки филозофическую книгу, без которой на войну не отправлялся. От этого и подчинённым спокойнее делалось, и сам умиротворялся.
Филозофической книги у Дмитрия, положим, не было. Однако имелся дикционарий политесного обхождения, подаренный Василисой Матвеевной, прекраснейшей из дев.
Никитин велел зажечь факел, вынул из-за пазухи драгоценный дар и стал учить экспрессии, без которых невозможно обходиться современному дворянину. Выбирал те, что могли пригодиться в беседе с Нею.
Некоторые слова были красивые. «Поимейте мизерикордию» сиречь «сжальтесь». Либо «шагрень» — «грусть-тоска». Другие Мите не понравились из-за неблагозвучия: «херц-шмерц» (сердешная мука) или, того хуже, «фудамур» (любовно безумство).
Так или иначе, отцовский завет оказался хорош. За наукой Никитин позабыл о волнении и очнулся, лишь когда по ту сторону Кремля, прорвав ночную тишь, прогремел гулкий удар.
Встрепенувшись, Дмитрий спрятал книжку поближе к сердцу. Вскочил в седло, взял в руку длинный багор и задрал голову кверху. Началось! Ну-ка, что там дозорные? Куда скакать?
Рядом, у стремени, возник Журавлёв. Он неотрывно смотрел на начальника, должно быть, ожидая приказа. Правую руку зачем-то засунул в левый рукав.
— Сейчас, сейчас, — успокоил помощника Митя, поглядев сверху вниз.
Высунувшаяся меж туч луна осветила молодцеватую фигуру всадника, который в своей пожарной каске и с багром в руке был похож на сказочного витязя.
— А-а-а! — вдруг сдавленно выкрикнул сержант и попятился.
— Ты что, Журавлёв?
Преображенец и раньше казался Дмитрию странен, теперь же, похоже, вовсе спятил.
Сержант отступал всё дальше, бормоча:
— Ты?!..Ты?! Изыди, провались!
Вот не ко времени!
Никитин спешился, подошёл к припадочному, желая его успокоить. Однако вышло ещё хуже.
— Чашник… — пролепетал безумец. — Мёртвый чашник! По мою душу! Сызнова…
И, повернувшись, побежал на негнущихся ногах.
— Стой ты, чёрт! Опомнись! Нам пожар тушить!
Сержант с треском и скрипом несся по дощатой мостовой, мимо глухих заборов. Насилу Митя его догнал. Схватил за плечо, развернул к себе лицом. Влепил ладонью хорошую оплеуху, чтоб привести в чувство.
— Успокойся, не то связать прикажу!
Глаза у Журавлёва дико вращались, из перекошенного рта вырвалось:
— Изыдь, откуда взялся! Сгинь!
Правая рука дёрнулась из левого рукава, в ней сверкнул нож. Острый клинок ударил Никитину прямо в сердце. Удар был так силён, что Митя опрокинулся навзничь.
Слишком поздно всё уразумевший и прозревший Ильша в ярости на собственное тугодумство шмякнул затылком о стену. Удар был такой силы, что в глине осталась вмятина. А голове ничего, голова была крепкая.
Только лучше было б её, тупую, всё-таки расколошматить — так на так погибать. Илья стукнулся ещё раз, да ещё. Пропадал он, пропадал! Как глупый карась в ухе. Ну как же было не докумекать, что кременной мужик Фрол нипочём не может преображенцам отдаться, хоть на ломти его всего настругай! А раз Юла, червяк пролазный, с Быком заодно, то здесь не иначе как большая измена. Без Зеркалова эта козня никак обойтись не могла…
Теперь-то мозги у мастера шевелились резво, да что проку? Поздно. Ничего не исправишь.
Цепь держит крепко, замок разомкнуть нечем. Фитиль шипит, огонёк ползёт к бочке. Сейчас шандарахнет. Полетит князь-кесарь вместе со своим теремом прямёхонько в направлении луны-матушки, и бес бы с ним, кровопийцей. Но и здесь, в подкопе, всё в кашу перемелется. Жалко и обидно гибнуть зазря, ради чьей-то подлой пользы.
От горьких мыслей, от злобы на свою дурь, Ильша снова треснулся затылком со всей мочи. Аж в черепе загудело, а в шею кольнуло что-то острое. Он пощупал — уколол палец, до крови.
Это же Василисина булавка, которой она своего лыцаря пожизненно пришпилила! Правда, недолгой у него, дурака, оказалась после этого жизнь…
Вынул Ильша дорогой подарок, чтоб последний раз полюбоваться бирюзой в цвет Василисиных глаз. Поглядел на заколку, поморгал, сказал себе:
— Так это ж, тово-етова…
Свободной рукой почесал всё ещё гудевший затылок. Пощупал замок на поясе.
Дык булавкой, ежели согнуть, замок, чай, открыть нетрудно будет?
Но и после этого мастер ещё колебался. Пальцы никак не желали гнуть милый дар.
А пропитанный масляным составом шнур прогорел уже больше, чем на две трети. Времени оставалось едва-едва.
Хоть и жалко, согнул Ильша заколку крючком, стал шуровать в скважине. Замок на поясе был собственного сочинения, отмычкой так просто не откроешь, даже зная секрет. Никак не получалось подцепить язычок, а фитилёк-то не мешкал — знай себе потрескивал, подбирался уже к самой бочке.
Наконец щёлкнуло. Замок раскрылся, цепь упала наземь.
Добежать до выхода из подкопа Ильша теперь не доспел бы. Ноги вдесятеро резвей, чем у него, и те бы не донесли.
А только зачем бегать? Недаром говорят: в ногах правды нет.
Перед глазами у теряющего сознание Алексея всё плыло, раздваивалось. Он уже не мог удержать равновесия, даже стоя на четвереньках. Завалился боком на землю, однако всё ещё совал кулак в глотку, пытался вызвать рвотную судорогу.
Бедру, на котором Попов лежал, было больно, что-то в него врезалось. Это мешало сосредоточиться на единственно важном, что могло сейчас спасти Алексея. Он сунул руку в карман, нащупал бутылочку. Что это?
В недоумении отвернул крышку, нюхнул — ну и гадость!
Сквозь заполошное метание мыслей вспомнилось: это бальзам для убеления кожи, Василиса дала. До чего ж, однако, противен! С души воротит. Ах!
Осенённый спасительной идеей, Лёшка жадно, до капли влил в себя гадостную мазь на птичьем помёте. И благое событие свершилось. Гвардии прапорщика, а армейским чином майора в сей же миг преобильно, неостановимо вытошнило.
От нутряного рыка и желудочного сотрясения он и не услышал дальнего грома, прокатившегося над спящей Москвой. До подвала, правда, шум донёсся глуховато, не отчётливо.
Минуту спустя на лестнице раздались шаги. Это спускались слуги — кончать шпиона. Опоенного московита они застали сидящим на земле. Вид у него был нехороший, а одежда смотрелась и того хуже.
— Слабое у русских брюхо на портер, — сказал старший валет. — Ишь, облевался весь.
— Давай его не прирежем, а удавим, — предложил второй. — Тут и без крови вон сколько грязищи.
Попов поднёс к лицу руку. В глазах больше не двоилось, пальцы не дрожали. Шпага по-прежнему была на боку. Удавить хотите? Ну-ну.
Никитин лежал на раскисшей после дождя земле. Из левой стороны груди у него торчал нож. Сверху над зарезанным, растопырив руки, стоял сумасшедший сержант. Над головой убийцы сияла луна.
Когда человек с ножом в сердце сначала шевельнулся, а потом сел, у Журавлёва вырвался вопль ужаса. Сержант отпрыгнул назад и чуть не упал.
Оглушённый падением, но не чувствующий ни малейшей боли Митя потрогал костяную рукоятку. Она не шелохнулась.
— Чёрт полоумный! — ахнул Никитин. — Ты мой дикционарий попортил!
Но безумец ничего не слышал, не понимал. С истошным воплем он ринулся наутёк. Рассвирепевший Митя за ним.
Оглянувшись на преследователя, сержант, видно, понял, что ему не убежать. Свернул в сторону, отчаянно подпрыгнул, с кошачьей ловкостью ухватился за верхушку забора, подтянулся — и в следующее мгновение, верно, перевалился бы на ту сторону, но не тут-то было. Налетевший сзади Никитин крепко ухватил Журавлёва за коленки.
— Не уйдёшь! — И, обернувшись в ту сторону, где горели факела, крикнул. — А ну, ребята, сюда! Преображенец ума решился!..
Но здесь Мите показалось, что и он сам, вслед за сержантом, повредился в рассудке.
Беглец рванулся, что было сил, и оказался по ту сторону изгороди.
У Никитина в руках остались два ботфорта вместе с торчащими из них ногами.
Наверное, он тут же и сомлел бы от такого жуткого наваждения, но в это время с верхушки Беклемишевской башни донёсся крик: