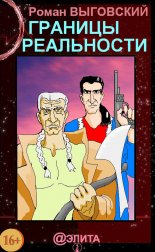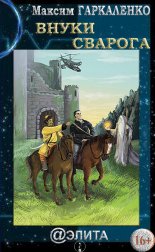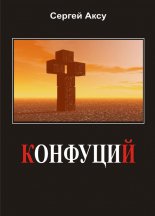Невинность Кунц Дин
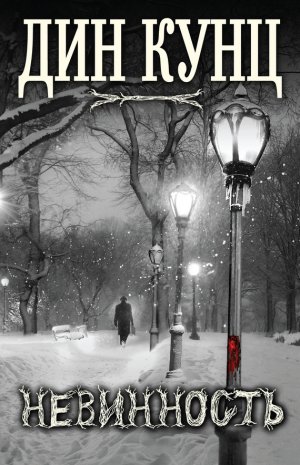
Читать бесплатно другие книги:
Профессор Джо Рид попадает в ужасное положение: от него уходит девушка, преследуют наёмные убийцы, н...
Роман «Внуки Сварога. 2030 год» – первая книга запланированной трилогии в жанр постапокалиптической ...
В романе-фэнтези «Дорога цвета собаки» с большим драматическим накалом, лиризмом и всечеловеческой м...
Она очень горька, правда об армии и войне.Цикл «Щенки и псы войны» – о солдатах и офицерах, которые ...
Она очень горька, правда об армии и войне.Цикл «Щенки и псы войны» – о солдатах и офицерах, которые ...
Культовая книга о писательстве от состоявшегося писателя. В остроумной манере Энн Ламотт рассказывае...