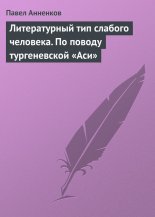Карл Маркс. Любовь и Капитал. Биография личной жизни Габриэл Мэри
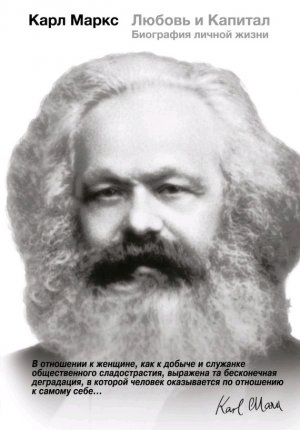
Затем Маркс тщательно исследует религию. Фейербах полагает религию сосудом, который человек создает, чтобы хранить в нем добродетели. Однако Маркс видит в религии лишь отражение страданий человечества. Он называет религию наркотиком, призванным облегчить боль, которую испытывает человек в огромном мире, чувствуя свое бессилие и ничтожность перед мирозданием. «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа» {21} [16].
Пытаясь поставить человека в центре мироздания, Маркс начинает критиковать все и вся; сам он называет это «безрассудной критикой всего сущего, неосторожной до такой степени, что уже не страшны ни результаты ее, ни неминуемое столкновение с властью…» Он говорит Рюге, что именно по этому пути должна пойти их газета. Рюге и Фробель, поразмыслив, приходят к выводу, что такая газета может существовать лишь в одном городе.
В Париже {22}.
Часть II
Семья в изгнании
5. Париж, 1843
Мы не представляем миру никакой новой доктрины, не утверждаем: се – Истина, на колени перед ней! Мы лишь вырабатываем новые принципы существования мира, опираясь на принципы старые…
Карл Маркс {1}
На протяжении всей истории было несколько моментов, когда Париж становился буквально центром новой вселенной – 1843 год относится к таким моментам. Каждый, кто жил в Париже в то время, участвовал в Истории, все было политизировано до предела. Сторонники реформ из Франции, Германии, России, Польши, Венгрии, Италии смешались с художниками, поэтами, композиторами, писателями и философами, которые все более тяготели в своем творчестве и идеях к реальному, а не идеальному миру {2}.
Аристократы древних родов встречались с революционерами (с весьма противоречивым и темным прошлым) в роскошных салонах или на собраниях тайных обществ, где обсуждали, как превратить царства – в нации. Политические беженцы блистали на банкетах в ресторанах и кафе Правого Берега, где их принимали, словно принцев крови. Военные покидали службу, чтобы примкнуть к оппозиции, – и это считалось доблестью; впрочем, модницы и кокетки горько сетовали об их отказе от пышных мундиров.
Таково было время короля Луи-Филиппа в Париже, куда, словно магнитом, тянуло радикалов со всей Европы.
Во время Французской революции 18-летний Луи-Филипп сам поучаствовал в свержении монархии, после чего много путешествовал по Англии и в особенности – по совершенно новому рассаднику идей равенства – Соединенным Штатам. Таким образом он впитывал самые современные политические веяния и, напитавшись идеями, в 54 года не вызывал особой ярости у оппозиции, да и она его не раздражала – до тех пор, пока не вмешивалась в его бизнес. Он учился на ошибках своих предшественников и прекрасно понимал, что либерализм жизненно необходим не только для его собственной безопасности и его трона, но и для того, чтобы процветал его личный бизнес и пополнялась государственная казна. В результате Париж этого периода буквально сияет в своем великолепии, богатстве и пышности. На одно платье из модной коллекции идет 250 ярдов знаменитого кружева Шантильи и индийского кашемира, а стоит оно 10 000 франков – это в десять раз больше годового дохода целой рабочей семьи {3}. Однако Париж – это еще и дом родной для проповедников самого радикального толка и левых взглядов (иногда их, впрочем, повсюду сопровождают женщины, одетые в подобные платья), которые яростно пророчат скорый конец всему этому бесстыдному расточительству. По словам Фридриха Энгельса, Париж был именно тем местом, где «европейская цивилизация достигла своего полного расцвета» {4}.
Женни и Карл приехали в город вечного праздника – и после долгой и утомительной поездки оказались в самом центре этого карнавала. Они приехали в Париж, потому что здесь была свобода; потому что здесь можно было писать и говорить то, что думаешь, не опасаясь цензуры… однако вполне возможно, что их несколько удивило то, как выглядит эта самая свобода. В Пруссии они лишь предполагали, как это может быть, и верили в это, не зная по сути. Теперь же они видели всю эту суету своими глазами: то, как буржуазия откликнулась на призыв государства «обогащайтесь»; то, как легко декларировались повсюду самые различные «-измы» – либерализм, социализм, коммунизм, национализм. Все эти идеи, движения и термины были рождены здесь, в Париже – и выплескивались в остальную Европу {5}.
Ни Карл, ни Женни еще никогда не бывали так далеко от дома – и до такой степени «за границей». Тем не менее оба пришли к выводу, что Париж – это их город.
Почти сразу погрузились они в парижскую жизнь. Женни, как и ее мать, обожавшая театр, оперу, шумное общество, в особенности полюбила эту нескончаемую оперу-буфф, разыгрывающуюся на тенистых бульварах французской столицы. Здесь все – от непомерно узких брюк и элегантных пальто мужчин до вычурных дамских нарядов и причесок – предназначалось для привлечения внимания, внешнего эффекта. На этих улицах, по ироничному наблюдению Женни, словно бы шли бесконечные брачные игры; казалось, что обеспеченные классы не думают ни о чем, кроме любви. И одновременно совсем рядом, на узких улочках, да и в самих домах богачей, жили, трудились, обслуживали сияющий Париж те, кто в один прекрасный день станет причиной его падения. Эти бедняки кипели ненавистью, но пока наверху ее никто не замечал – настолько велика была иллюзия безопасности и незыблемости общества, привыкшего помыкать себе подобными.
После долгих и тоскливых лет в Трире, когда постепенно, год за годом, уходила ее молодость, Женни с восторгом окунулась в ту жизнь, о которой она мечтала. С мыслями о будущих доходах Маркса от газеты эта жизнь казалась еще ярче и безоблачнее. Карл кипел идеями для книг, которые он напишет, а она переведет; Женни ждала ребенка; они оба были в Париже, и революция представлялась романтичным праздником. Даже ее преданные бойцы предпочитали модную одежду.
Дочь тихого Рейнланда с жадностью вдыхала атмосферу большого города и чувствовала себя совершенно опьяненной ею.
Незадолго до приезда Марксов в Париж сюда уже переехал Рюге – в специальном семейном экипаже, с женой, целым выводком детей и увесистой копченой телячьей ногой – про запас. Он был богат исключительно в смысле счастливой семейной жизни – но стеснен в средствах; зная, что Марксы тоже экономят буквально на всем, он предложил объединиться в небольшую семейную коммуну вместе с еще одной парой – поэтом Георгом Гервегом и его женой Эммой. Консервативный и добропорядочный Рюге занял два этажа в довольно скромном доме на рю Ванно, расположенной между набережной Сены и бульваром Сен-Жермен. Трое мужчин должны были стать сотрудниками «Ежегодника», редакцию планировали разместить в том же доме – а женщины могли бы сообща вести домашнее хозяйство {6}.
Поначалу это предложение Карл и Женни встретили с энтузиазмом, радуясь тому, что будут жить в чужом городе вместе со своими соотечественниками. Однако очень скоро этот план рухнул. Годы спустя сын Гервегов, Марсель, писал, что его мать оценила обстановку с первого взгляда и почуяла надвигающиеся проблемы: «Как могла фрау Рюге, милая маленькая саксонская домохозяйка, поладить с умной и амбициозной фрау Маркс, далеко превосходившей ее интеллектом?» Гервеги не стали дожидаться обострения обстановки и быстро отказались от идеи совместного проживания {7}, а Маркс и Женни прожили с семьей Рюге две недели – и переселились в другой, более элегантный дом на той же улице, чтобы начать самостоятельную семейную жизнь.
Доктор Карл Маркс и его жена быстро влились в парижскую жизнь, войдя в либеральные и радикальные круги, где впервые состоялось их представление обществу в качестве семейной пары. Маркс гордился своей Женни, чья красота была заметна даже среди эффектных и ярких парижанок, не говоря уж о ее уме и интеллекте. С самых первых дней их брака Маркс признавал жену интеллектуально равной себе, и это вовсе не было преувеличением со стороны влюбленного молодого мужа: Маркс всегда был беспощадно правдив в оценке чужого ума и не стал бы полагаться на суждения Женни, если бы не считал ее на самом деле умной женщиной {8}. На самом деле за всю жизнь подобной высокой оценки и искреннего уважения Маркс удостоил еще лишь одного человека – Фридриха Энгельса, ставшего альтер эго самого Маркса и его ближайшим соратником. Но Энгельс был только другом и коллегой – Женни была еще и его любовью.
В частной, интимной жизни Маркс был нежным, любящим и добрым человеком; его часто называли душой компании – пока дело не касалось бессонных ночей, проводимых им за работой, или периодов болезненного беспокойства за свою работу.
В публичной же жизни он был яростным спорщиком, зачастую высокомерным и заносчивым, совершенно нетерпимым к тем, кто рискнул с ним не согласиться. Эпизоды его не вполне трезвых дебатов с коллегами в Бонне, Берлине и Кельне зачастую оборачивались отнюдь не только словесными битвами. У него не было времени на соблюдение светских условностей; для того, кто проповедовал значимость человеческой личности, Маркс был удивительно нетерпим ко многим личностям, столкнувшимся с ним в реальной жизни. Споры бодрили его – но в то же время и отвлекали от самого главного, от того, что он любил больше всего в жизни. Счастливее всего он чувствовал себя за работой, среди своих книг (он называл их «своими рабами»). Маркс был интровертом, который, несмотря на все свое сопротивление этому, притягивал к себе людей, очаровывая и увлекая их своим несомненным лидерством и уверенностью в себе. Богатый русский либерал Павел Анненков называл Маркса «воплощением демократического диктатора», который вызывал бесконечное уважение, несмотря на свою неуживчивость и неряшливый вид {9}.
Женни, напротив, была признанным авторитетом в отношениях с обществом. Ее спокойное благородство и изысканность манер успокаивали тех, кого уже успевал напугать ее необузданный муж. Только рядом с ней Маркс становился на людях почти таким же, каким бывал только дома: веселым, остроумным, порою даже фривольным. Бешеный дикарь становился ручным в нежных руках его жены.
Женни исполнилось 29, а Марксу 25, когда они прибыли в Париж. Среди немецких эмигрантов имя Маркса – кельнского журналиста и публициста – было достаточно известно, но Париж того времени стал убежищем для куда более знаменитых сыновей Германии. Георг Гервег был одним из них. Несколькими месяцами ранее Фридрих Вильгельм назначил ему личную аудиенцию – вскоре после того, как сам же и запретил последнюю книгу Гервега по политическим мотивам. Император хотел убедить Гервега примкнуть к правительству в деле культурного возрождения Пруссии, однако поэт смело ответил, что является прирожденным республиканцем и потому не может служить короне. После этого он был последовательно изгнан из Пруссии, Саксонии, Швейцарии, и в конце концов добрался до Парижа {10}. Как и ожидалось, слава его росла с каждым новым актом о выдворении. По пути во Францию он женился на дочери богатого берлинского торговца шелком (шафером на их свадьбе был будущий анархист Михаил Бакунин) и мечтал стать поэтическим голосом Новой Германии {11}.
Как и Маркс, Гервег собирался писать для газеты Рюге. Обе пары были недавно женаты и потому быстро сдружились. Вскоре Маркс узнал, что его талантливый и очень привлекательный внешне друг известен всему Парижу своим вольным отношением к любви. На тот момент любовницей Гервега была графиня д’Агу, писавшая романы под псевдонимом Даниэль Стерн и имевшая троих детей от своего предыдущего любовника, венгерского композитора и пианиста Ференца Листа. Графиня содержала один из самых популярных и известных салонов в Париже. Среди ее близких друзей были Жорж Санд, Шопен, Энгр и Виктор Гюго {12}.
К середине XIX века разница между художниками, наподобие этих, и радикально настроенными оппозиционерами-политиками, вроде Маркса, была размыта. Художники в значительной степени оторвались от богатых патронов-меценатов, которые раньше щедро платили за стихи и картины {13}. Теперь же «работники умственного труда», как называл их Маркс, испытывали нужду и голодали так же, как и простые рабочие. Столкнувшись с близкой перспективой нищеты, все эти романтические непонятые гении постепенно политизировались. Один писатель заявил, что художники – это универсальные партизаны, прирожденные борцы, чьи работы следует считать в первую очередь политическим инструментом {14}.
Оказавшись в этом «полусвете творческих личностей», Маркс и Женни легко приняли и оправдали поведение Гервега как нечто, что невозможно было – особенно для Женни – даже и представить в консервативной, обывательской Германии. Как бы там ни было, Маркс всю свою жизнь подходил к оценке поэтов с отдельным стандартом. Его дочь Элеонора писала, что Маркс называл их «странными рыбами, которым позволено плыть своими собственными путями. К ним нельзя подходить с обычными мерками или даже с мерками, по которым судят выдающихся людей» {15}.
Примерно в это же время один немецкий доктор знакомит Маркса и Генриха Гейне. Гейне удалился в изгнание, когда Карл был еще мальчиком, однако он всегда незримо присутствовал в жизни Маркса, и не только как литературный кумир, но еще и как дальний родственник со стороны матери. Хотя Гейне был на двадцать лет старше Маркса и так же склонен более заводить врагов, нежели друзей, они сошлись очень быстро и тесно. Гейне говорил, что им всегда «достаточно было лишь нескольких слов, чтобы понять друг друга» {16}.
В юности Гейне был очень привлекателен; первое впечатление, которое он производил, – мягкость. Она проявлялась в нежных чертах лица, разрезе больших глаз, неизменно длинных волнистых волосах. Однако к тому времени, как с ним познакомились Маркс и Женни, он выглядел уже куда более драматично. Ему диагностировали блуждающий паралич лицевого нерва, который в 1843-м поразил левую часть его лица; он боялся ослепнуть. Гейне только что женился на своей любовнице Матильде (неграмотной француженке, 15 годами его младше, понятия не имевшей, кем на самом деле был ее сожитель) накануне поединка, который должен был проиграть (он этого не знал {17}).
Однако это существование на грани жизни и смерти, казалось, только и питает его поэтический дар. Критики описывали его как «чудовищно эгоиста», но на самом деле он был крайне чувствителен и не раз плакал в присутствии Маркса из-за плохих отзывов о его стихах (в таких случаях Маркс поручал его заботам Женни, которая своей добротой и мягким юмором умела успокоить поэта и вернуть ему уверенность в своих силах). Гейне, без преувеличения, стал членом семьи Маркс, и они ежедневно навещали друг друга {18}. Эти отношения были очень важны для обоих; поэт все глубже вникал в политику, а Маркс с его помощью становился более зрелым писателем – и мужчиной. Впрочем, Матильду Маркс искренне ненавидел, подозревая, что она и ее компания, состоящая из сутенеров и проституток, просто вытягивали из слабохарактерного Гейне деньги и силы {19}.
Газету Рюге, которая должна была выходить ежемесячно на французском и немецком языках, планировали выпустить в ноябре 1843, однако возникли проблемы с финансированием и подпиской. Рюге не смог привлечь ни одного французского подписчика. Вообще, единственным иностранным подписчиком стал русский, Михаил Бакунин, в то время также живший в Париже. Рюге поручает Марксу подыскать французских авторов и интересуется, должны ли они привлекать к работе женщин-авторов – Жорж Санд и Флору Тристан. Маркс был знаком с обеими, но достоверных сведений о том, смог ли он уговорить их сотрудничать с «Ежегодником», нет. В конечном итоге ни эти дамы, ни любые другие французские авторы в газете так и не публиковались. Германия жадно впитывала французскую философию, но сами французы, кажется, не хотели иметь с немцами ничего общего, считая, что немецкая философия возилась с проблемами, которые сами они уже разрешили в 1789 году {20}.
В результате этих потрясений Рюге заболел, стал крайне раздражителен – и выпуск газеты был отложен до февраля 1844 года. Когда «Ежегодник» наконец вышел (под редакцией Маркса) – это была уже скорее целая книга, включавшая стихи Гервега и Гейне, полемическую переписку Рюге, Маркса, Фейербаха и Бакунина, статьи Бакунина, Мозеса Гесса и бывшего редактора газеты, эмигранта из Баварии Ф.К. Бернайса; а также две статьи Маркса и его молодого соавтора, немца, проживающего в Англии, – Фридриха Энгельса. Тираж газеты составил тысячу экземпляров.
Рюге, истинный умеренный демократ по убеждениям, сердился на Маркса за его радикализм и неотшлифованный стиль его статей {21}. (Рюге стал первым критиком стиля Маркса, впоследствии многие будут упрекать его в использовании слишком длинных и громоздких фраз, слишком сложных аллюзий, бессвязных аргументов и совершенно очевидном равнодушии к читателю – Маркса совершенно не волновало, поймут ли то, что он пытался сказать.) Женни вспоминала, что газета, на которую она так рассчитывала в качестве их обеспеченного и успешного будущего, «стала их несчастьем с первого же выпуска» {22}.
Своего читателя во Франции «Ежегодник» не обрел, а через границу с Германией тираж не пропустили. Рюге и Фробель урезали финансирование, а затем обрели плоть и кровь страхи Женни, что ее мужа не пустят обратно в Германию. Прусские власти получили предписание арестовать при пересечении границы Карла Маркса, Рюге, Гейне и Бернайса по обвинению в государственной измене {23}. Среди статей, которые прусские власти нашли предосудительными, были две, которые Маркс начал писать во время медового месяца. Одна содержала критику философии Гегеля, другую Маркс озаглавил «О еврейском вопросе». Обе статьи явились результатом того периода, который Маркс провел в Берлине и Кельне, однако несли на себе и отчетливый отпечаток французского влияния, особенно в части обсуждения нового по тем времена понятия «пролетариат». Произведено оно от латинского слова proletarius, означавшего «низший класс, не имеющий никакой собственности»; этот термин Маркс применял в отношении жертв социальных реформ и угнетения. Однако имелись в виду не те, кто исторически считался бедняками; пролетариат XIX века – это те, кто когда-то был в состоянии себя обеспечивать, но стал жертвой экономических и промышленных подвижек, в частности – в результате замены людского труда на машинный, использования более дешевой рабочей силы женщин и детей, снижения заработной платы, сокращений, увеличения количества рабочих часов без увеличения оплаты и т. д. {24}.
В своей критике Гегеля Маркс утверждал, что одна голая теория не способна питать революцию, но пролетариат с его грубой силой и гневом, порожденным социальной несправедливостью, вооруженный интеллектуальным оружием в виде новой философии – способен {25}. «Голова этой эмансипации – философия, ее сердце – пролетариат» {26}.
Размышляя над «еврейским вопросом», Маркс рассматривает религию не с точки зрения богословия, а как социальную и политическую величину. В начале XIX века евреи в Германии занимались в основном торговыми и финансовыми сделками, селились на определенных территориях, хоть и не закрепленных за ними законодательно, но отведенных государством – все это помогало им сформироваться как общности. Однако с 1816 года, когда родной отец Маркса был поставлен перед выбором – остаться евреем или стать полноценным членом общества, перейдя в христианство, – евреи в Пруссии не имели одинаковых прав с остальными гражданами В начале 40-х годов права и роль евреев в обществе вновь подверглись пересмотру.
В своей работе Маркс утверждал, что религия используется государством для решения повседневных задач, будь то христианство на политической арене или доминирование евреев в торговле, а также размышлял, что может означать свобода от религии, если не рассматривать этот вопрос в русле теологии.
Маркс говорит, что евреи, заняв нишу своей основной деятельности – финансы, – стали необходимым условием самого существования государства, и заключает, что изгнание евреев из ниши коммерческой деятельности (каковую он считал сущностью иудаизма) и тем самым лишение их выгоды – спровоцирует социальную революцию в Германии, о которой Маркс так мечтал. Государство не сможет выстоять, если рухнет один из важнейших его столпов – финансирование; государство, которое Маркс и его единомышленники презирали, падет {27}.
Две статьи Маркса в «Ежегоднике» затрагивали совершенно разные темы, но одинаково касались будущего Германского союза, и обе прогнозировали его развал. В этих статьях Маркс зашел дальше, чем во всех работах кельнского периода, когда приходилось высказываться с оглядкой на цензуру. В Париже никаких цензурных ограничений не существовало, и тон статей Маркса стал намного резче, в них явно обозначилась тенденция к революционной пропаганде.
К этому времени Женни находилась на седьмом месяце беременности, а финансовое положение семьи было по-прежнему нестабильным. Отношения Маркса и Рюге заметно испортились из-за излишне радикального тона статей Маркса, кроме того, они часто спорили по поводу Гервега. Рюге чувствовал отвращение к поведению Гервега. Он называл его распутником и потаскуном, говоря, что тот «поддался и продался соблазнам Парижа, его магазинам, богатым салонам, цветочным киоскам, экипажам и девицам». Его приводили в ужас отношения Гервега с графиней д’Агу, и он обвинял поэта в легкомыслии и лени. Во время одной из таких обличительных тирад Маркс молча выслушал его и тихо ушел, но дома сочинил открытое письмо, в котором гневно и пламенно защищал гений Гервега и назвал Рюге недалеким, узко мыслящим обывателем и филистером {28}. Впрочем, вполне возможно, что истинной причиной их разногласий все же были деньги. Рюге отказывался платить Марксу обещанное жалование и вместо денег предложил забрать часть тиража бесполезной, как ему казалось, газеты.
Отказ Рюге платить взбесил Маркса не только потому, что у него не было других источников дохода, а ему вот-вот предстояло стать отцом, но и потому, что он знал о наличии у Рюге средств, вырученных на железнодорожных акциях {29}.
Положение Карла и Женни грозило стать безвыходным, однако Георг Юнг и бывшие акционеры «Rheinische Zeitung» два раза присылали Марксу суммы, которые он мог бы заработать в качестве соредактора «Ежегодника», – это было сделано, по их словам, в знак признательности за совместную работу в Кельне {30}. Это поступок, в свою очередь, вызвал резкое раздражение Рюге и побудил его пожаловаться Фробелю на то, что Маркс и Женни живут не по средствам. «Его жена подарила ему на день рождения хлыст для верховой езды стоимостью в сотню франков – а наш несчастный дьявол не умеет ездить верхом и не имеет лошади! Он вечно хочет иметь то, на что падает его взгляд: экипаж, дорогую одежду… луну с неба» {31}.
Другое письмо Рюге содержит ядовитое описание еще одной «мании», якобы владеющей его бывшим коллегой. Рюге характеризует Маркса как «циничного и жестокого, грубого, высокомерного человека… Эта своеобразная личность хороша в роли ученого и философа, но совершенно невыносима и разорительна в качестве журналиста. Он много читает, он работает с необычайной интенсивностью… но ничего не доводит до конца, обрывает сам себя на полуслове и с головой погружается в свои любимые книги» {32}.
За год раскол между двумя бывшими друзьями стал окончательным. Даже и по прошествии времени Маркс не пощадит Рюге – «невежа с лицом хорька» станет самой короткой и оскорбительной харктеристикой бывшего друга {33}.
Первенец Маркса и Женни родился 1 мая 1844 года. Маленькая Женни, или Женнихен, получила свое имя в честь матери, но унаследовала от отца черные глаза и волосы {34}. Ни у Карла, ни у Женни не было никакого опыта в обращении с грудными младенцами. Женни выросла в доме, где всегда было полно слуг, а детей почти сразу после рождения передавали кормилицам и нянькам. Маркс же так давно ушел из семьи в самостоятельную жизнь, что вел себя так, будто бы был единственным ребенком в семье, хотя у него было семеро братьев и сестер.
Их богемные приятели в Париже, просыпающиеся в 5 часов вечера и до 5 утра проводящие время в кафе, салонах и ресторанах, тоже ничем не могли помочь молодым родителям, так что Карл и Женни справлялись с малышкой Женнихен по мере способностей, пока девочка не заболела, и довольно тяжело.
Помощь пришла с неожиданной стороны: от Генриха Гейне. 46-летний поэт, страдающий от паралича, никогда не имевший собственных детей, однажды пришел к ним и обнаружил молодых родителей близкими к безумию, у постели корчившейся в судорогах малютки. Гейне принялся командовать. Велел вскипятить воды и искупал девочку в горячей ванне {35}.
Женнихен поправилась, но ее родители все никак не могли прийти в себя. Было решено, что Женни с ребенком отправится в Трир, где ее мать могла бы помочь ей с малышкой в эти самые сложные первые месяцы. Одетая в дорожный плащ и шляпку с пером, с ребенком на руках, Женни села в дилижанс и отправилась домой, оставив Маркса в Париже одного. Чем дальше на восток они уезжали, тем больше Женни беспокоилась. Они не прожили в браке и года, и молодая женщина боялась, что ее Карл падет жертвой «необузданных страстей и соблазнов французской столицы» {36}. Женни уже хорошо усвоила, что Париж был тем местом, где легко исполняются практически любые желания.
Ей не стоило волноваться. Маркс был очень занят в ее отсутствие, но отнюдь не другими женщинами. Пока Женни отсутствовала, он с головой погрузился в мир тайных обществ – и начал свои первые реальные исследования экономики.
6. Париж, 1844
Пять человек слушали и не понимали, а пятеро других не понимали, но говорили.
Александр Герцен {1}
Безработица для Маркса означала свободу: теперь он мог вернуться к обучению. Его классными комнатами стали маленькие кафе, освещенные газовыми рожками, винные погребки и крошечные конторы, переполненные мужчинами, почти не видящими друг друга в клубах сизого сигарного дыма. Здесь не было лекций – здесь шли дискуссии, шумные собрания, привлекавшие внимание любопытных прохожих. Заглянув сюда, можно было услышать пламенные речи на всех европейских языках и увидеть, как мужчины кричат друг на друга, иногда даже не понимая собеседника, но обсуждая одни и те же темы: достоинства социализма, коммунизма, национализма, либерализма и демократии. Надо ли брать власть силой? Восстанавливать ли после этого государство из руин – или обратиться к правящему классу с требованием кардинальных социальных перемен, неотвратимость которых видит каждый, – и монархии должны смириться с этим процессом. Здесь были те, кто поддерживал растущую роль буржуазии и промышленников, кто видел надежду человечества в технических и научных достижениях, ускоряющих производство; в сокращении расходов на производство основных товаров и в открытии новых рынков сбыта. Раздавались и другие голоса, призывавшие к осторожности. Эти люди говорили о том, что упомянутые достижения таят в себе даже большую опасность для трудящихся, чем монархия, которую буржуазия высокомерно считала бессильной и полностью исчерпавшей себя. Промышленниками двигала обыкновенная жадность, жажда наживы – и ради нее они были способны жертвовать целыми поколениями рабочих.
Однако все стороны, участвующие в этих дебатах, видели необходимость введения новых форм правления в Европе. Природа общества изменилась. Абсолютные монархии с их деспотичными правителями, кровавыми приспешниками и подобострастными придворными выглядели архаично и неестественно, словно персонажей пьесы вырядили в костюмы прошлых веков – однако они нешуточным образом сдерживали социальный и экономический прогресс. Да, все те, с кем общался Маркс, признавали необходимость отмены монархии как формы правления, расходясь лишь в вопросах тактики и способов смены режимов {2}.
В марте, перед отъездом Женни в Трир, Маркс принял участие в банкете, на котором обсуждались эти проблемы. За столом сидели несколько человек – каждый из них вскоре станет активным действующим лицом грядущей революционной драмы, которая будет разыгрываться по всей Европе на протяжении ближайших тридцати лет. Идеи, предложенные ими, были противоречивы, разнообразны и в разной степени сложны, однако все эти люди уже давно сформировались как личности {3}. Двое из собравшихся значили в жизни Маркса очень многое: Михаил Бакунин и Луи Блан.
Бакунин был сыном русского графа. Он владел громадным поместьем и пятью сотнями крепостных. Мать его происходила из знаменитого рода Муравьевых, ее близкий родственник был повешен в 1825 году за участие в восстании против царя. Бакунин должен был стать военным, однако в 21 год оставил военную службу и решил посвятить себя научной деятельности. В 1840-м он оказался в Берлине, где примкнул к русскому кружку младогегельянцев, куда входил и его близкий друг, писатель Иван Тургенев {4} (ему принадлежит авторство термина «нигилизм» {5}). Высокий, долговязый Бакунин ходил повсюду в грязной студенческой фуражке поверх нечесаной гривы вечно сальных черных волос. Он был настоящим человеком действия, неуемным в своих аппетитах, всегда готовый яростно броситься на защиту своих идей или идей своих друзей. Странно замкнутый с женщинами (поговаривали, что он страдает импотенцией), он тем не менее оказывал на них почти гипнотическое воздействие, и женщины всех сословий буквально тянулись к нему {6}.
Ко времени приезда в Париж Бакунин уже приобрел репутацию революционера, который больше доверяет собственным инстинктам, а не разуму {7}. Он был на 4 года старше Маркса, однако, по его собственному признанию, куда менее развит в интеллектуальном смысле. С самого начала отношения между ними были несколько напряженными. Как замечает один писатель, «между русским аристократом и сыном еврея-адвоката стояла не только разность темпераментов; их разделяла громадная пропасть в традициях и идеях, на которых они выросли и возмужали» {8}.
Десятилетия спустя Бакунин писал в воспоминаниях о том времени: «Мы виделись довольно часто, так как я весьма уважал его за науку и страстную и серьезную приверженность делу пролетариата, хотя и постоянно смешанную с личным тщеславием. Я с жадностью искал разговоров с ним, всегда поучительных и возвышенных, когда они не вдохновлялись мелочной злобой, то, что случалось, увы, слишком часто. Однако никогда между нами не было полной откровенности. Наши темпераменты не выносили друг друга. Он называл меня сентиментальным идеалистом, и он был прав; я называл его вероломным и скрытным тщеславцем; и я был тоже прав…» {9} [17]
Луи Блан, которому в 1844 году исполнилось 33 года, был одним из самых знаменитых социалистов Франции, особенно популярным в среде наиболее образованных рабочих. Физически и интеллектуально он был полной противоположностью Бакунину. Блан был ростом с 8-летнего ребенка, однако у него при этом были железная воля прирожденного лидера и могучий интеллект, позволившие ему стать признанным лидером рабочего движения {10}. В 1840 году он опубликовал две книги: «Организация труда», в которой он призывал к рабочему контролю в условиях демократического государства, и «История Десятилетия» – критика правления Луи-Филиппа. В 1843 году он основал оппозиционную газету «La Reforme», которая выступала за отмену монархии в пользу республики, всеобщее избирательное право, гарантированную занятость рабочих и защиту прав трудящихся {11}. Блан, как и Бакунин, будет неоднократно встречаться с Марксом на протяжении нескольких лет, и, как и в случае с Бакуниным, их встречи всегда будут заканчиваться бурными спорами.
Когда все эти мужчины собрались за одним столом, в Европе еще не было никаких международных организаций, под эгидой которых могли бы проходить такие встречи. Отчасти это происходило из-за разобщенности, из-за того, что проблемы каждой страны были уникальны, а отчасти потому, что никакой оформленной оппозиции в то время еще не существовало – пока будущие союзы и организации существовали лишь в мозгу этих самопровозглашенных лидеров. Однако постепенно в Париже, в этом плавильном котле людей и идей, превозмогая разность языков и традиций, начинала оформляться новая идеология, начинался разговор на общую для всех тему. Основными темами обсуждений новых европейских реформаторов были: либерализм, радикализм, национализм и социализм.
Либералы мечтали о демократическом правительстве, в которое попадали бы по личным заслугам, а не по праву рождения. Они ратовали за то, чтобы право голосования было у тех, кто владеет имуществом и достаточно образован. Кроме того, они хотели свободы слова, печати и собраний, а также защиты прав собственности. Они даже были не против сохранения монархии – при условии принятия конституции.
Радикалы – те же либералы по взглядам, однако они монархию решительно отвергали, тяготея к республиканской форме правления и выступая за активное проведение социальных реформ. Также они считали, что избирательное право должно быть более широким.
Националисты также придерживались либеральных взглядов (особенно немцы и итальянцы), однако главной их целью было национальное самоопределение, объединение страны на основе единого языка и традиционной культуры, отечественной истории и искусства.
Социалисты во многом отличались от своих товарищей по оппозиции.
Социализм возник во Франции в ответ на растущую мощь буржуазии и бизнеса. Его приверженцы выступали против неравенства в праве на собственность, которую они считали инструментом в руках тех, кто стремился к личному обогащению и пытался исключить из политической системы людей труда. Социалисты в целом поддерживали демократию как противовес монархии и феодализму, однако полагали, что одни только демократические принципы устройства государства не способны защитить права трудящихся в условиях растущей индустриализации {12}.
Все эти «-измы», впрочем, существовали в основном в теории и не могли быть применены на практике, поскольку теоретики не опирались на широкую поддержку масс и оставались, образно говоря, полководцами без армии. Причина этого была относительно проста: рабочий класс, который, по мнению Маркса, мог бы стать такой армией, с подозрением относился к умникам из среднего класса и их непонятным идеям. С таким же подозрением относился к ним и сам Маркс. В дискуссиях доминировала идея блага для всего человечества – но интересы отдельного человека никого особенно не интересовали. Кроме того, в идеях этих революционеров-интеллектуалов прослеживалась одна и та же тенденция: замена одного господствующего класса или доминирующей элиты (дворянство) на другой (буржуазия). Это означало, что тирания и эксплуатация в отношении человека труда никуда не денутся.
Наконец, ни в одном из этих движений Маркс не видел главного, с его точки зрения: реального понимания того, что нарождающаяся индустриально-экономическая система Европы серьезна больна (в отличие от нее, проблемы монархии были совершенно очевидны) и что без понимания этого никакие значимые социальные изменения невозможны. Маркс признавал, что и сам не знал ответов на все эти вопросы – но он, по крайней мере, их искал! {13}
Нашел же он их с помощью двух немцев, проживавших на улице Ванно.
Август Герман Эвербек и Герман Маурер были членами тайной организации Союз справедливых, созданной в Париже в 1836 году крайне радикально настроенными беженцами из Германии, в основном пролетарского происхождения {14}.
Союз – наполовину пропагандистская, наполовину тайная организация – придерживался принципов французского коммунизма, выступая за уничтожение частной собственности, поскольку именно в этом видел самый верный способ изменения основ общества {15}. Маркс посетил эти собрания немецких рабочих и их французских единомышленников – и ушел под большим впечатлением, впечатленный их приверженностью идеалам борьбы, что так отличало их от интеллектуалов-социалистов. Маркс писал: «Братство людей для них – не просто фраза, это факт их жизни, и весь их грубоватый облик дышит благородством». Кроме того, Маркс замечает на их лицах печать усталости и отчужденности, как у людей, чей тяжелый труд никогда не оплачивался соразмерно усилиям; эти люди не получают достойной компенсации за то, что производят, и все продукты их труда принадлежат исключительно хозяевам предприятий {16}.
Вдохновленный этой встречей, Маркс возвращается к книгам, которые он читал в тот год – трудам французских и английских экономистов. Он заполняет своими заметками блокнот за блокнотом. Эти заметки – со следами засохшей яичницы и пролитого кофе – станут «Экономическо-философскими рукописями 1844 года», трудом, который так и не был завершен, но лег в основу всех последующих работ Маркса.
Изучение трудов «буржуазных экономистов», как называл их Маркс, привело его к выводу, что эти ученые опирались на твердую убежденность, будто экономические системы работают в соответствии с непреложными законами, исключая из этого поля влияние человеческой личности и отвергая контроль человека над этими системами. Эти экономисты верили, что бизнес, развивающийся без государственного вмешательства, растет, принося человечеству исключительно пользу. Однако Маркс видел и слышал совершенно обратное, и потому занялся демифологизацией буржуазной экономической науки, описывая реальный мир труда при капитализме со всеми его противоречиями {17}.
В «Рукописях» Маркс разбирался с понятиями заработной платы, аренды, кредитов, прибыли, частной собственности как противопоставления общей, коммунистической собственности, исследовал отношения между капиталом и трудом; в этот период он снова обращается к философии Гегеля.
Он обнаружил, что главная составляющая экономической системы деньги (а в более широком смысле – то, что на них можно приобрести) становятся движущей силой существования современного человека, извращая любые аспекты его отношений с другими людьми и даже его собственную самооценку. Богач преображается внутренне, когда понимает, что может купить все, что захочет.
«Я уродлив – но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его отпугивающая сила, сводится на нет деньгами… Я скудоумен, но деньги – реальный ум всех вещей, – как же может быть скудоумен их владелец? Кроме того, он может купить себе людей блестящего ума, а тот, кто имеет власть над людьми блестящего ума, разве он не умнее их?.. Итак, разве мои деньги не превращают всякую мою немощь в ее прямую противоположность?» {18} [18]
Между тем труд, благодаря которому богач получает свои деньги, по сути дела, грабит работающего: «Он создает дворцы, но также и трущобы для рабочих. Он творит красоту, но также и уродует рабочего. Он заменяет ручной труд машиной, но при этом отбрасывает часть рабочих назад к варварскому труду, а другую часть рабочих превращает в машину. Он производит ум, но также и слабоумие, кретинизм как удел рабочих» {19}.
Маркс стремится объяснить, каким образом развивались эти уродливые отношения. Он помещает человека в систему, при которой крупные промышленники, буржуазия – контролирующие прибыль и распоряжающиеся ею по своему усмотрению – низводят рабочего на самый примитивный уровень, заставляя его продавать свой труд по самой низкой цене, которую он даже не назначает сам – за него это делает владелец недвижимости или промышленник. Маркс приводит пример – это как если бы человек продавал мешок кукурузы, но вместо того, чтобы назначить за него соответствующую цену, брал за него только то, что хочет заплатить покупатель. Продавец, таким образом, утрачивает контроль над истинной ценой своего товара – именно это происходит с рабочим в системе новых индустриальных отношений. Он становится отчужденным субъектом, никак не участвующим в распределении собственности и прибыли, а все преимущества и выгоды достаются покупателю, капиталисту, который платит рабочему самый минимум, достаточный лишь для выживания.
Теории Маркса, без преувеличения, стали яркой вспышкой, проливающей свет на очень многое. Для него самого мир открывался по-новому. Он другими глазами смотрел на усталые, опухшие от голода лица бедняков, которые пришли в город в тщетных поисках работы, но не могли найти место, способное обеспечить им хотя бы выживание (французы немедленно придумали название этому явлению – пауперизм).
Заработная плата рабочих упала до уровня 20-летней давности, а жизнь все дорожала, прожиточный уровень за год вырос на 17%. В 1844 году началась широкомасштабная нехватка продовольствия – но столы богачей продолжали ломиться от деликатесов {20}. По Франции прокатилась волна громких скандалов, когда выяснилось, что чиновники правительства собственноручно создали дефицит бюджета и общий дисбаланс экономики, сконцентрировав огромные средства в руках нескольких избранных {21}. Маркс был свидетелем тому, что никакого свободного рынка, который с таким восторгом описывали буржуазные экономисты, не существует, рынок управляется капиталистами, богачами – и исключительно в пользу богачей.
Хотя еще два года назад в Кельне Маркс называл коммунизм несбыточной утопией, сейчас он начинал понимать, что именно эта идея способна оздоровить общество. Люди могут и должны стремиться к богатству, но богатству общему, принадлежащему всем. Люди должны работать – но так, чтобы работа приносила выгоду им самим, а не собственнику производства. Маркс описывает коммунизм как «действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он – решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение» {22}.
Друг Маркса, Гейне, сказал как-то, что боится, как бы коммунизм не уничтожил искусство и красоту, на это Маркс отвечал: «Если я не могу опровергнуть предпосылку, что все люди имеют право есть, я должен принять и все, что из этого следует» {23}.
Французские и немецкие рабочие в Париже, считавшие себя коммунистами, верили, что единственный способ разрушить полностью коррумпированный новый экономический порядок – это революция; никакие переговоры и договоры об ослаблении эксплуатации были невозможны, поскольку собственникам было что терять. Промышленный феодализм (как его иногда называли) шел по пути своего исторического предшественника и действовал исключительно с помощью насилия.
Маркс соглашался с ними: «Для того чтобы отменить частную собственность, идеи коммунизма вполне достаточно. Фактически, это и есть главная задача коммунизма – реальное уничтожение частной собственности» {24}.
В самый разгар экономических изысканий Маркса, словно по заказу, началась эскалация насилия. До Парижа дошли слухи о восстании в Силезии, одном из прусских регионов. Для Маркса и его товарищей это было явным предзнаменованием более серьезных событий.
4 июня 1844 года, почти обезумев от страданий и безысходности, группа силезских ткачей двинулась к дому двух братьев-фабрикантов, чтобы потребовать повышения заработной платы. Толпа яростно скандировала: «Вы все злодеи, вы адские трутни, вы мошенники и слуги сатаны в человеческом обличье. Вы сожрали все, чем владели бедняки. Наши проклятия будут вам расплатой!»
Мужчины, женщины и дети получали на фабриках этих братьев такие мизерные зарплаты, что многие рабочие попросту голодали. В требованиях им было отказано, и разъяренные ткачи ворвались в дом фабрикантов. Братьям удалось скрыться целыми и невредимыми, но рабочие разрушили и сожгли дом. На следующий день число участников восстания выросло по меньшей мере до 5000 человек. Они громили частные дома и фабрики, ломали станки, грабили конторы тех, кто столько лет их обворовывал и отказывал даже в еде. Фабриканты обратились к правительству, на подавление беспорядков была отправлена прусская армия. Солдаты стреляли в толпу восставших, было убито 35 человек. Вооруженные лишь булыжниками и топорами, эти люди заставили солдат отступить, но на следующее утро подошло подкрепление, и бунтари были рассеяны. Кто успел – бежал из Пруссии, остальные были арестованы.
Восстание ткачей стало первым относительно организованным выступлением пролетариата в Германии, и хотя оно окончилось поражением, Маркс воздавал ему должное: оно стало подтверждением его теории о необходимости столкнуть страсть и ярость пролетариата, экономику и государство.
Движущей силой этого восстания стала не абстрактная идея или символ, вроде религии, национальной принадлежности или царского трона, как часто бывало в прошлые века, – но нечто куда более реальное и важное: хлеб. Особенно же потрясла и возмутила Маркса буржуазия, против которой и поднялись ткачи: в его глазах именно буржуазия стала врагом будущего. Контролируя несметные средства, она контролировала и правительство, даже императора, – собственно, то же самое происходило во Франции {25}.
Воодушевленные происходящими дома событиями, 200 с лишним «парижских немцев» (среди них Маркс, Гервег и Гейне, последний уже успел написать две поэмы, посвященные силезским ткачам) начали собираться на митинги по воскресеньям. Это происходило в парижском винном кабачке на авеню де Венсенн. Французские полицейские осведомители и провокаторы докладывали, что на этих сборищах обсуждаются планы убийства монархов, террор против богачей и церкви и «прочие ужасные вещи» {26}. Маркс также довольно часто встречался с Бакуниным и другими либеральными русскими дворянами, которые проводили много времени в Париже, и мог попытаться убедить их вложить часть средств в общее революционное дело {27}. Наконец, в июле 1844 года Маркс был представлен знаменитому французскому анархисту Пьеру-Жозефу Прудону, самоучке из рабочей среды, который так лихо ответил в своей книге 1840 года на собственный вопрос «Что есть собственность?» – «Собственность – это воровство» {28}. Прудон заявлял, что не собирается предлагать новую систему, а просто требует положить конец любым привилегиям; справедливость, по его словам, превыше всего.
Однако Маркс называл работу Прудона «эпохальной». Он говорил, что Прудон – первый человек, кто наглядно показал: социальные болезни присущи системе, основанной на частной собственности. Хотя два эти человека часто беседовали, иногда ночи напролет, о коммунизме, Маркс говорил, что по большей части он учил Прудона немецкой философии, которую тот не смог освоить самостоятельно, поскольку не знал языка {29}.
Тот Маркс, который в этом же году писал для «Германо-французского ежегодника» Рюге и был обвинен за эту статью в государственной измене, мог считаться незрелым юнцом по сравнению с Марксом, который летом 1844 года начинает писать для газеты «Vorwarts!». Базирующийся в Париже еженедельник на немецком языке был единственным в Европе изданием немецкой оппозиции, неподконтрольным цензуре {30}. В реальности он финансировался на средства прусского оперного композитора Джакомо Мейербеера, который познакомился с социалистами, коммунистами и их более умеренными либеральными союзниками через графиню д’Агу и получил личные указания от прусского императора Фридриха Вильгельма выявить немецких революционеров в Париже, дав им возможность печататься, и тем самым разоблачить их. Главным редактором стал друг Маркса, Бернайс, однако его помощником был назначен Адальберт фон Борнштедт, австрийский шпион и провокатор, состоящий на службе у прусского императора.
Вполне возможно, что Маркс и его товарищи знали, на кого работают Мейербеер и Борнштедт, однако попросту решили использовать шанс быть опубликованными. Да и шпионы в их окружении были столь же привычны, как алкоголь и сигары, и иногда приносили интересные сплетни {31}.
Генрих Борнштейн, который основал газету, хотя и не финансировал ее, вспоминал, что в составе редакторского отдела каждую неделю собиралось от 12 до 14 человек – в его собственной квартире, расположенной на рю де Мулен, на правом берегу Сены, к северу от Тюильри. «Кто-то сидел на кровати или на сундуках, другие стояли или расхаживали по комнате. Все они ужасно много курили, а спорили всегда громко и страстно. Открыть окна было нельзя – возле них сразу собралась бы толпа зевак, привлеченная этим страшным шумом – поэтому через некоторое время вся комната заполнялась плотной завесой сизого дыма, и вновь вошедший вряд ли мог кого-то узнать в этом смоге». В этих встречах принимали участие Маркс, Гейне, Гервег, Рюге, Бакунин, поэт Георг Веерт и коммунист Эвербек. Никому из авторов не платили жалованья {32}.
Писем Маркса Женни в Трир за этот период не сохранилось, однако в ее письмах легко читаются страх и тревога за их будущее; возможно, именно об этой тревоге упоминал много лет назад отец Маркса. В письме, датированном 21 июня, Женни, кажется, с искренним удовольствием подробно расписывает свой обычный день и стремится подчеркнуть все признаки благополучной жизни.
«Со всеми я держусь гордо, и моя внешность и манеры полностью оправдывают это гордое поведение. Во-первых, я элегантнее всех, и кроме того, никогда еще в своей жизни я не выглядела такой здоровой и цветущей, как теперь. Мнение об этом единодушно». Описав неожиданную и теплую встречу с матерью и сестрами Маркса, Женни добавляет: «Удивительно, как успешность и благополучие меняют отношение к тебе людей; вернее, в нашем случае – видимость благополучия». Однако всех близких по-прежнему волнует главный вопрос – где и когда Маркс сможет получить приличное место, и Женни много раз упоминает, что этот же вопрос мучает и ее саму. «Родной мой, меня часто тревожит наше будущее, как ближайшее, так и более отдаленное, и я думаю, что буду наказана за проявленные мной здесь высокомерие и гордость. Если ты можешь, успокой меня в этом отношении. Здесь так много говорят о постоянном доходе»[19].
Женни изо всех сил старается быть сильной, пока ее муж уходит все дальше по выбранному им опасному пути. Повод быть сильной у нее есть – их дочь. Впервые за долгие годы сердце Женни разрывается между двумя одинаково любимыми существами – мужем, оставшимся в Париже, и ребенком, которого она в Париже чуть не лишилась. Она называет Женнихен «самым нежным свидетельством нашей любви» и сходит с ума от тревоги за хрупкое здоровье девочки. «Если бы мы только могли продержаться, пока наша малышка не подрастет…»
Пункт за пунктом чередуются в письмах Женни новости и страхи, однако в конце концов она, кажется, смиряется с тем, что выбор Карла был неизбежен и правилен, и говорит, что все было бы хорошо, если бы он только писал статьи, избегая при этом злого или раздраженного тона: «Ты прекрасно знаешь, какой эффект могут оказывать твои статьи. Пиши – но как бы между делом, небрежно и легко, с твоим обычным тонким юмором». Тем же, кто сомневается в правильности такого решения (возможно – отчасти и себе самой), она говорит: «О, вы, ослы, можно подумать, что сами вы неколебимо стоите на твердой земле! Где сейчас можно найти столь твердый фундамент? Можно ли не видеть повсюду признаки грядущей катастрофы, подрыва устоев общества, колебания опор, на которых возведены его храмы и рынки?» {33}
Примерно через месяц после того, как Женни написала эти слова, заколебались и основы Пруссии. После кровавого восстания ткачей в Силезии страну вновь начало лихорадить после неудавшегося покушения на Фридриха Вильгельма IV. Исполнителем – по словам Жени – двигала не политика, а голод. В письме мужу Женни описывает неудавшегося убийцу: «Этот человек, подвергаясь постоянной опасности голодной смерти, три дня тщетно нищенствовал в Берлине – таким образом, социальное покушение на убийство! Если когда-нибудь дело начнется, то оно начнется именно с этой стороны – здесь самое уязвимое место, и этой угрозе подвержено и немецкое сердце»[20]. И все же Пруссия не обращает внимания на приближающуюся опасность: «Все колокола звонили, пушки палили, и благочестивая толпа шествовала во храм, чтобы воздать хвалу небесному богу за то, что он столь чудесно спас бога земного» {34}.
Маркс опубликовал это письмо Женни в газете «Vorwarts!» 10 августа 1844 года, подписав его «Немецкая Женщина». Первая публикация Женни появилась через три дня после того, как ее муж сделал свой собственный вклад в развитие этой самой радикальной из немецких газет {35}. Вскоре после этого газета привлекла повышенное внимание прусских властей, и без того находившихся в состоянии боевой готовности после покушения на императора. Пока имперские шпионы держали сотрудников и авторов газеты под наблюдением, власти не предпринимали против них никаких действий, но все изменилось, когда «Vorwarts!» опубликовала статью, в которой цареубийство было названо единственным способом доказать, что император Пруссии – обычный человек, а не избранник небес.
Прусское правительство надавило на французское, которому тоже вовсе не хотелось, чтобы Франция прослыла убежищем для тех, кто призывает к убийству монархов {36}.
Против главного редактора Бернайса было сфабриковано и выдвинуто обвинение, по которому он был на 2 месяца заключен в тюрьму; остальные сотрудники начали готовиться к возможным обвинениям и изгнанию из страны {37}.
В этой напряженной атмосфере Женни готова вернуться в Париж. Между 11 и 18 августа она пишет, что скоро будет рядом с ним и «весь этот ад закончится». Ее письмо переполнено любовью к «дорогому отцу моей маленькой куколки», к ее «хорошему, сладкому черному лохматику» – и она спрашивает его: «Карлхен, долго ли наша куколка будет исполнять роль соло? Боюсь, я боюсь, что, когда мама и папа окажутся вместе, будут жить по принципу имущественной собственности, соло превратится в дуэт» {38} [21].
Женни всегда будет вставать на сторону мужа, когда ему будет грозить опасность. Если он будет в оппозиции, она будет сражаться за него, если в опасности – защищать его. Все страхи насчет их финансов мгновенно растворились перед лицом более серьезных бед.
Через несколько дней после получения ее письма Маркс знакомится с человеком, который станет еще одним его защитником на всю жизнь – с Фридрихом Энгельсом.
7. Париж, 1845
Я вообще не понимаю, как можно завидовать гению. Это настолько своеобразное явление, что мы, не обладающие этим даром, заранее знаем, что для нас это недостижимо; но чтобы завидовать этому, надо уж быть полным ничтожеством.
Фридрих Энгельс {1} [22]
Энгельс путешествовал и направлялся из Англии домой, в Германию, но по дороге решил ненадолго остановиться в Париже. Маркс знал его заочно, как автора блестящей, по его мнению, статьи о политической экономии, которую Энгельс написал для Рюге меньше года назад. Энгельс в свою очередь слышал о Марксе-тиране, главном редакторе «Rheinische Zeitung» в Кельне, чьи труды он очень уважал.
Они встретились 28 августа 1844 года в кафе «de la Regence» – и проговорили подряд десять дней и ночей {2}. Это кафе близ Лувра было отличным местом для их первой встречи: оно было известно едва ли не всей Европе в качестве своеобразного клуба шахматистов, где они оттачивали свое мастерство.
В свои 23 года Энгельс был высоким, стройным, белокурым, очень аккуратно одетым, спортивно сложенным молодым человеком. Он очень любил женщин – и лошадей. По настоянию своего отца – богатого фабриканта – в 17 лет он бросил учебу, чтобы войти в семейное дело. Называющий себя бизнесменом и «императорским прусским артиллеристом» {3} Энгельс был, казалось, полной противоположностью приземистого, большеголового, смуглого и вечно растрепанного Маркса – во всем, кроме любви к выпивке и довольно ядовитого юмора {4}. Однако если Маркс был весь на виду, то Энгельс был более сложным человеком.
С одной стороны, он был вполне светским человеком, беспечным холостяком, любившим посещать собачьи бега, и ценителем изысканных вин. Но одновременно он был и страстным революционером, взял в любовницы ирландскую революционерку, простую девушку с фабрики, и, еще будучи подростком, написал ряд весьма резких статей на социальные темы, в частности – о результатах нерегулируемой индустриализации в его родном Бармене. Этот юный революционер сам представился Марксу тем августом в Париже, и Маркс с готовностью принял и понял все стороны этого экстраординарного характера.
Натура Энгельса представляла собой редкую комбинацию – человек идеи и человек действия. Он мог писать замечательные статьи, обладал замечательным красноречием и живым умом, – но при этом был и хорошим бизнесменом, прекрасно знавшим всю подноготную промышленности: от апартаментов фабриканта-хозяина до рабочих цехов. Он понимал социальные, политические и экономические последствия существующей промышленной системы, потому что сам жил и работал внутри нее. Он стал посланником материального мира, однажды постучавшим в дверь Карла Маркса, чтобы заполнить пробелы в его теоретических исследованиях.
Что касается самого Энгельса, то в 26-летнем Марксе он увидел столь могучую личность и огромный интеллект, равных которым никогда ранее не знал. Хороший солдат ищет хорошего командира – и Энгельс нашел для себя такого человека.
Позднее он довольно скромно описал их историческую встречу в Париже: «Выяснилось наше полное согласие во всех теоретических областях, и с того времени началась наша совместная работа» {5} [23]. На самом деле он попросту стал спасителем семьи Маркс. Он не только предоставлял фактический материал для статей Маркса, но еще и материально обеспечивал существование всей его семьи.
Энгельс был старшим из восьми детей в семье и являлся наследником процветающей текстильной фирмы, основанной в долине Вупперталя еще в XVIII веке его прадедом. К тому времени как Энгельс превратился в подростка, этот район Рейнской земли считался в Германии самым развитым в промышленном отношении. Река Вуппер была сильно загрязнена промышленными отходами фабрик, принадлежавших семейству Энгельс. Его семья принадлежала к наиболее радикальной ветви христианской церкви; любые радости жизни, увеселения и легкомыслие решительно осуждались, Священное Писание считалось незыблемым каноном, по которому следовало жить, так же незыблемо было мнение христианской общины, к которой принадлежала семья. Едва став самостоятельной личностью, молодой Фридрих принес немало беспокойства своим родителям, прежде всего своим бунтарским духом {6}. В письме к жене Фридрих Энгельс-старший выражает серьезную озабоченность неповиновением своего 15-летнего сына, который отказался признать свою вину даже после серьезного наказания. Кроме того, отец нашел в его столе «грязную книжонку, которую он взял в общественной библиотеке, историю о рыцарях XIII века… Пусть Бог исправит поскорее его характер… Я часто опасаюсь за этого превосходного во всех прочих отношениях мальчика…» {7}
Во время обучения в гимназии Эльберфельда Энгельс проявил интерес и – в отличие от Маркса – истинный талант к стихосложению. Первые его стихи были напечатаны, когда Фридриху исполнилось 17, и тогда он искренне надеялся стать литератором {8}. Однако его отец мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, и потому вынудил его бросить учебу. Энгельса отправили в Бремен, промышленный город, в качестве ученика на фабрике, и именно там сын фабриканта начал свой революционный путь. Некоторые из его ранних мятежных выходок стали притчей во языцех для всего города {9}. Он подговорил своих сверстников на спор отрастить усы – что считалось в обществе неприличным. Дюжина юнцов это и сделала – и они все вместе отпраздновали «юбилей усов» {10}. Сестре он хвастался, что оскорбляет «обывателей» не только демонстрацией своих усов на концерте, но и тем, что пришел в обычном пальто и с «голыми руками», в то время как все приличные молодые люди были одеты во фраки и белые перчатки. «Дамам, кстати, очень понравилось… Самое же замечательное, что три месяца назад меня здесь не знал никто, а теперь знают все» {11}. Однако реальным и серьезным его протестом стали статьи. «Письма из Вупперталя» он подписал вымышленным именем, взяв псевдоним «Фридрих Освальд». Как он сам описывал этого персонажа – «философ, коммивояжер, путешественник». «Письма» произвели фурор и стали сенсацией. Опубликованы они были в 1839 году, в одном из периодических изданий Гамбурга, и их тут же расхватали либеральные газеты по всей Германии {12}. В письмах рассказывалось о жизни рабочих, которые начинают работать уже в возрасте 6 лет, трудятся в душных, темных помещениях, вдыхая не столько кислород, сколько угольную пыль и чад. «Удел этих людей – мистицизм или пьянство. Этот мистицизм в той грубой и отвратительной форме, в которой он там господствует, неизбежно порождает противоположную крайность, и в результате получается, что народ там состоит только из «добропорядочных» (так зовут мистиков) и беспутного сброда» {13} [24].
Ужасающая нищета преобладала среди низших классов, в частности среди рабочих на фабрике в Вуппертале; сифилис и легочные заболевания были распространены повсеместно; в Эльберфельде из 2,5 тысяч детей школьного возраста 1,2 тысячи лишены возможности получить образование, ибо растут на заводах и фабриках, начиная работать с малых лет, поскольку работодателю невыгодно брать на их место взрослого и платить ему вдвое больше. Однако у фабрикантов гибкая совесть – и смерть одного ребенка не отправит душу истинного пиетиста в ад, особенно если он посещает церковь два раза в день по воскресеньям…
Ибо прекрасно известно, что самые жестокие фабриканты – как раз пиетисты; они использовали любую возможность, чтобы снизить заработную плату рабочим – например, под предлогом того, чтобы не давать им деньги на выпивку {14}.
«Освальд» также выступает за освобождение женщин, что, по его словам, будет главным шагом на пути к всеобщей свободе {15}. (Хотя не исключено, что Энгельсом двигали менее альтруистические соображения, и в освобождении женщин от рабского труда он усматривал, скорее, сексуальную свободу.)
Что касается чистой политики, то в письме другу Энгельс заявил, что ненавидит императора – им тогда был Фридрих Вильгельм III. «Если бы я не так сильно презирал это дерьмо, то ненавидел бы еще больше. Наполеон был ангелом по сравнению с ним… Чего-то хорошего я могу ожидать только от правителя, которого народ тащит за уши из дворца, в котором уже все окна разбиты летящими камнями революции» {16}. Он отвергает и дворянство – результат «64 династических браков» {17}.
Энгельс вернулся домой в Бармен в 1841 году и почти сразу отправился в Берлин, чтобы год отслужить в армии. Такова была официальная версия, неофициально же он отправился в Берлин, чтобы быть поближе к университету и младогегельянцам, чьи работы он читал в Бремене. Энгельс примкнул к новому поколению младогегельянцев, к крылу, известному как «Свободные». Они горячо приветствовали его, поскольку он уже опубликовал 37 статей, и все в группе были наслышаны о легендарном «Фридрихе Освальде» и его атаках на фабрикантов {18}.
Одним из тех, кто в ту пору оказывал самое сильное влияние на Энгельса, был друг Маркса Мозес Гесс, первым поддержавший идеи коммунизма. Гесс считал, что революция неизбежна и начнется она во Франции, Германии и Англии одновременно. Франция – родина революции политической мысли, Германия – центр философской мысли, а Англия – место сосредоточения мировых финансов {19}. Как нарочно, именно в Англии случится следующая остановка Энгельса в его большом путешествии длиною в жизнь…
В 1837 году семья Энгельсов объединяет капитал с братьями Эрмен в Англии, чтобы открыть ткацкие фабрики в Манчестере. Отец Энгельса посылает туда старшего сына, чтобы он продолжал осваивать семейный бизнес. Фридрих будет работать в конторах Эрмен&Энгельс в Виктория-Миллс, в городе, который в то время по праву считается промышленным центром всего мира. Подобрать место лучше вряд ли возможно – и для Энгельса-бизнесмена, осваивающего законы экономической системы, и для Энгельса-революционера, размышляющего над тем, как эту систему разрушить {20}. По дороге в Англию Энгельс заезжает в Кельн, чтобы встретиться с редактором «Rheinische Zeitung» Карлом Марксом. Однако Маркс принимает его крайне холодно, ибо презирает «Свободных» младогегельянцев, и тот визит очень краток и скомкан {21} (до такой степени краток, что когда эти двое встретятся в Париже, это можно будет с полным правом считать их первой встречей).
Когда Энгельс приехал в Манчестер в ноябре 1842-го, накануне своего 22-летия, город только-только приходил в себя после забастовки рабочих, вызванной очередным сокращением заработной платы. Атмосфера очень напряжена. Рабочие всегда были самой угнетенной частью населения, и все же по английским законам у них было право на свободу собраний, что давало им проблеск надежды на некоторое улучшение своего положения {22}. Однако добиться этого улучшения было непросто. Один из современников писал о Манчестере так: «Нет на свете другого города, где разница между бедными и богатыми так бросалась бы в глаза, а барьер между ними был бы так же труднопреодолим» {23}. Энгельсу это, впрочем, удается – с помощью 19-летней ирландки Мэри Бернс {24}. Мэри работала на фабрике Энгельса вместе со своим отцом и 15-летней сестрой Лидией (или Лиззи). Не вполне ясно, как именно они с Фридрихом познакомились, случилось ли это на фабрике или нет – некоторые биографы утверждают, что он встретил ее, когда она торговала апельсинами в Сайенс-Холл, знаменитом центре, где социалисты читали свои лекции и где проходили манчестерские митинги. Но где бы ни произошла их встреча, Энгельс явно был очарован тем, что его друзья называли «дикой красотой Мэри», а также ее остроумием и врожденным умом. Этот союз имел для Энгельса судьбоносное значение. Мэри познакомила его с «Маленькой Ирландией» и другими рабочими районами Манчестера, куда уважающие себя джентри не совались даже для того, чтобы собрать плату за аренду {25}. Энгельса ужаснуло полное отсутствие санитарии; это была выгребная яма, пропахшая мочой, повсюду гнили и разлагались останки животных, через каждые 20 шагов торчали вонючие свинарники, а «грязные лужи были настолько глубоки, что по ним невозможно было пройти, не утонув по щиколотку». В домиках с земляными полами было одна-две комнаты. Энгельс вспоминал: грязь и вонь были настолько ужасающими, что для «человека любой степени цивилизованности было бы попросту невозможно жить в таком кошмарном месте» {26}.
И тем не менее это были дома тех самых рабочих, которые работали на фабрике его отца и десятках других похожих фабрик. И это были те самые рабочие, чьим трудом ковалось успешное будущее фабрикантов. Энгельс сделал тогда вывод, что единственная разница между рабами древности и современными рабочими состояла в том, что рабов продавали на всю жизнь, а рабочие продавали себя изо дня в день {27}. Однако, как и сами рабочие, молодой человек увидел проблески надежды, озарившие этот мир страданий. Энгельс считал, что положение рабочих «постепенно внедряет в их умы мысль о необходимости социальных реформ, благодаря которым машинный труд будет использован не против них, но им в помощь» {28}.
Мэри также представила его ирландским и английским революционерам-радикалам {29}. Один из них, британец Джордж Джулиан Гарни – поразительный «стройный молодой человек с выражением почти мальчишеской незрелости на юном лице, говоривший на прекрасном английском языке» {30}.
Протест и гнев разгорались в душе внешне безобидного молодого прусского промышленника буквально после первых же недель, проведенных в Манчестере. Находясь в фабричной конторе своего отца, Энгельс пишет статьи в английские либеральные газеты, в которых описывает положение рабочих в Германии – а в Германию посылает письма со своими наблюдениями и выводами о положении рабочего класса в Англии. В 1842 году Маркс публикует пять его писем в «Rheinische Zeitung», однако без подписи автора. Статьи в Англии подписаны настоящим именем – «Ф. Энгельс» {31}. К 1843 году «уличное» образование Энгельса серьезно дополнено внимательным чтением английских работ по экономике, политике и истории. Результатом этих изысканий становится 25-страничная статья «Наброски к критике политической экономии», редактором которой станет Маркс и которую напечатают в газете Рюге в Париже в начале 1844 года. Эту статью можно считать самым первым «марксистским» разоблачением только зарождающейся капиталистической системы. В ней Энгельс писал, что тот, кто владеет машинами, создает экономику – и социальный хаос, поскольку участие в цикле перепроизводства сопровождается сокращениями; они, в свою очередь, влекут за собой понижение заработной платы, что провоцирует социальный кризис и обостряет классовые конфликты. Облегчающие труд технические достижения не облегчают положение самого рабочего и служат лишь увеличению прибыли. Людей увольняют из-за внедрения техники, а те, кто остается на своих рабочих местах, вынуждены работать все интенсивнее и интенсивнее, чтобы восполнить недостаток рабочей силы. В этой системе прибыль капиталиста напрямую зависит от потерь рабочего {32}.
К моменту их встречи в августе 1844 года Маркс и Энгельс приходят к одинаковым выводам – с разных сторон. Именно поэтому они соглашаются, что наилучший способ борьбы сейчас – это пропаганда. Энгельс планирует вернуться в Германию и написать книгу о периоде, проведенном в Англии (знаменитое и ставшее классическим трудом «Положение рабочего класса в Англии»), в то же время Маркс начинает работать над книгой о политической экономии, основанной на его исследованиях за последний год. Прежде чем уехать из Парижа в сентябре, Энгельс пишет 15-страничный политический памфлет, соавтором которого становится и Маркс: в нем они смело атакуют позицию некоторых их бывших союзников. Во вступлении Маркс и Энгельс описывают этот памфлет как своего рода катарсис, после которого они намерены предпринять ряд конкретных и позитивных шагов к созданию работ философской и социальной направленности. Этот памфлет станет их первой совместной работой. Маркс назвал его «Святое семейство, или Критика критической критики» {33}.
Женни приезжает в Париж и находит Маркса за работой – он пишет свою часть памфлета. Она не застает нового друга ее мужа, так вдохновившего Маркса, но Карл буквально потрясен рассказами Энгельса о манчестерских фабриках и его подробным описанием «изнутри» того, как вся эта система работает. Маркс еще больше утверждается в мысли, что любая социальная теория не может существовать, не опираясь на опыт реальной жизни. Бруно Бауэр становится его легкой мишенью – потому что примерно в это же время утверждает в одной из статей, что история является той силой, которая направляет людей, а не наоборот. Также Бауэр пишет, что участие народных масс в Великой французской революции подпортило и исказило идеи, которые этой революцией двигали, и в конечном итоге привело к ее поражению. Наконец, Бауэр соизволил критиковать Прудона… {34}
Маркс надеялся, что памфлет будет опубликован достаточно быстро, чтобы успеть вступить в полемику с Бауэром – и заработать немного денег. Последнее обстоятельство – вместе с деньгами, присланными Юнгом в июле из Кельна, – дало бы им с Женни возможность пережить финансовый кризис в семье {35}. Деньги им понадобятся. В любой момент Маркса могут арестовать или выслать из страны, если прусское правительство сможет убедить французскую сторону начать преследование редакции «Vorwarts!» во главе с Бернайсом. Маркс пишет статью под жесточайшим давлением – и кажется, что всё против него. Работа над дополнением к 15 страницам Энгельса продлится до ноября {36}, и раздел Маркса вырастет до 300 страниц, причем большую часть будут составлять довольно бессвязные замечания о готическом романе французского писателя Эжена Сю {37}. Разумеется, Маркс очень сильно ушел в сторону от темы. Возможно, это было вызвано волнением и восторгом от встречи с Энгельсом, которого он теперь настойчиво звал вернуться в Париж в ноябре (Энгельс ответил, что не может этого сделать – он был слишком погружен в работу над книгой об английском рабочем классе, а кроме того, рисковал рассориться со своей семьей в случае отъезда, да и любовные отношения требовали прояснения) {38}. Возможно также, что Маркс просто выпускал пар после длительного напряжения. За последний год его мозг буквально переполнился идеями. «Святое семейство» временами читается как некий интеллектуальный взрыв.
В январе 45-го работа над совместным проектом все еще не завершена, не продвинулся Маркс и в своем экономическом труде. В письме к нему Энгельс интонациями очень напоминает Женни – она примерно так же пыталась уговорить своего мужа доделать начатое дело: «Постарайся закончить книгу о политэкономии, даже если там осталось много того, чем ты недоволен; это не так важно; умы созрели для такого труда, и мы должны ковать железо, пока горячо… Делай так, как обычно делаю я, – назначь самому себе дату, к которой ты должен закончить писать, и сделай все для того, чтобы труд поскорее опубликовали…» {39}
Это письмо датировано 20 января 1845 года. Видимо, Энгельс не знал о тех событиях, которые произошли в Париже. За 9 дней до этого министр внутренних дел Франции издал приказ, согласно которому члены редакции «Vorwarts!» – среди них Маркс, Гейне, Рюге, Бернайс и Бакунин – должны в течение 24 часов покинуть Париж, а затем, как можно быстрее, и пределы Франции. Изгнать «атеистов» Луи-Филиппа уговорил известный прусский ученый Александр фон Гумбольдт, передавший королю подарок от Фридриха Вильгельма – раритетную фарфоровую вазу. Французский король, желавший мира в своем государстве и собственного процветания, с удовольствием принял подарок – и отдал распоряжение выслать «неудобных» писак {40}. Как пишет Женни, полицейский комиссар явился к ним домой в воскресенье – с подписанным ордером и вооруженными полицейскими {41}.
Опасность быть выдворенными из Франции висела над их головами долгие месяцы, но по-настоящему они к этому так и не подготовились, особенно Женни. Она уже успела стать парижанкой. Ее мир помещался на улицах между площадью Сен-Жермен и Латинским кварталом. Париж был городом, в котором они с Карлом начали свою совместную жизнь, здесь родилась их дочь, здесь жили все их друзья. Она хотела остаться – и ордер предусматривал для изгнанников такую возможность: если они подпишут обязательство больше не заниматься политической деятельностью.
На это условие согласились все, кроме Маркса и Бакунина. Товарищам Маркс заявил, что «его гордости и чести претит добровольное согласие встать под надзор полиции» {42}. Вкусив свободной от произвола жизни вне Пруссии, Маркс не собирался отказываться от возможности свободно писать и говорить. Он попытался оговорить условия, на которых он и его семья могли бы остаться в Париже, – и ради этих переговоров ордер был продлен на месяц. Однако в остальном правительство Франции уступать не собиралось – как и Маркс. 2 февраля Карл Маркс и молодой журналист Генрих Бюргерс уезжали из Парижа – на расхлябанном дилижансе, сквозь мокрый снег, в Бельгию. Бюргерс оставил описание их совместного путешествия – а также свою не вполне удачную попытку поднять спутнику настроение песней. Они прибыли в Брюссель 5 февраля 1845 года {43}.
Женни, ее 8-месячная дочь и кормилица, приехавшая с ними из Трира, чтобы заботиться о Женнихен, остались у Гервегов. Каждый день к ним приходили нескончаемые посетители, чтобы обсудить их изгнание, попытаться найти способ избежать его и предложить помощь {44}. Женни писала Марксу, что Бакунин, который все еще пытался уговорить правительство позволить ему остаться в Париже, «пришел и преподал мне настоящий урок риторики и драматического искусства, изливая душу…», а немецкий журналист Александр Вайль объявил себя ее «личным защитником». Разумеется, главным образом Женни требовалась финансовая помощь. Она пыталась собрать денег, чтобы расплатиться с долгами и оплатить переезд в Брюссель. Карл оставил ей 200 франков, но за квартиру они должны были 380. 10 февраля она пишет мужу: «Не знаю, что и делать. Сегодня утром я обегала весь Париж. Монетный двор закрыт, надо сходить еще раз. Потом я была в транспортной конторе и у комиссионера аукционного зала. Нигде ничего не добилась». Посылая «тысячу поцелуев папочке от мамы и один поцелуйчик от паиньки», Женни подписывает письмо: «До свидания, дорогой друг. Жду тебя с нетерпением. Сейчас ты уже в Брюсселе. Приветствуй наше новое отечество. Прощай» {45} [25].
В течение нескольких дней ей удается продать мебель за смешную, как она пишет, сумму и покинуть Париж. Женни вспоминала: «Больная и продрогшая, под проливным дождем я последовала за Карлом в Брюссель» {46}.
Она еще не знала, что это всего лишь первый из их многочисленных переездов. Так началась жизнь семьи Маркс в изгнании.
8. Брюссель, весна 1845
Я редко встречал столь счастливые браки, в которых все радости и страдания были поделены поровну, на двоих, а все несчастья преодолевались в сознании полной и взаимной зависимости…
Стефан Борн {1}
Крошечная Бельгия была островком мирной доброжелательности в мрачном море суровых реакционных монархий. Независимой она стала всего 15 лет назад, выйдя из состава Голландии, и хотя здесь правил король, в Бельгии была конституция, которую с полным правом можно назвать самой либеральной в Европе. Если в чем-то Брюссель и проигрывал (а после Парижа он мог показаться чем-то вроде большой деревни), то по части свободы явно перегонял французскую столицу.
Все, чего король Леопольд I требовал от политических беженцев, пересекавших границу его королевства, – это просьба воздерживаться от публичной политической деятельности и пропаганды, ибо это могло раздражать более крупных и могущественных соседей маленькой Бельгии {2}. Подобные условия были неприемлемы для Маркса в Париже, но в Бельгии он на них согласился – по личным и профессиональным причинам. Не только потому, что вскоре у них с Женни должен был родиться второй ребенок, но и потому, что в день своего отъезда из Парижа он подписал контракт на книгу по политэкономии {3}.
Маркс написал два прошения на высочайшее имя, в которых называл себя «самым скромным и покорным слугой Его Величества», – он просил разрешения иметь возможность жить с женой и детьми в Бельгии и давал слово чести, что не будет «публиковать в Бельгии работ, связанных с текущими политическими процессами» {4}. Леопольд дал свое разрешение, и Марксы поселились в королевстве Бельгия {5}.
Впрочем, это не означало, что они останутся совсем без присмотра; бельгийские власти получили предупреждение от французской стороны, что на территорию Бельгии въехал активный революционер-пропагандист. В письме начальника французской полиции мэру Брюсселя говорилось: «Если до Вашего ведома дойдет, что он нарушил данное слово и предпринял любые действия, наносящие ущерб правительству Пруссии, нашего соседа и союзника, я прошу Вас уведомить меня о том немедленно…» {6}
Вскоре подозрения оправдались. В стране, правителю которой он поклялся не заниматься никакой политической деятельностью, Маркс напишет, возможно, самый революционный трактат XIX века – «Манифест коммунистической партии». Однако все это еще впереди. Пока же он изо всех сил старается сдержать данное слово.
Со своей стороны, Женни надеется, что в Бельгии они смогут вести более оседлый образ жизни, чем в Париже. Перед отъездом Маркса из Франции она снабдила его подробным списком требований к месту их будущего обитания. Забавно представлять себе Маркса – выдворенного из Франции за подготовку свержения монархии – путешествующим в дилижансе по сельской местности, со списком в кармане, где указано, на что ему нужно обратить особое внимание, например на шкафы: «Они играют важную роль в жизни домохозяйки». Маркс должен найти дом «с четырьмя комнатами и кухней, а также с чуланом, куда можно убрать лишние вещи и чемоданы… Три комнаты должны отапливаться… Наша комната не должна быть особенно элегантной. Хорошо бы обставить ее, как и твой кабинет, достаточно скромно». На себя она берет расстановку книг {7}.
Возможно, представляя себе такой дом в Брюсселе, Женни пыталась побороть шок после высылки из Франции. Воображаемый дом, патриархальный, приличный, очень буржуазно-добропорядочный, психологически защищал ее от образа стучавших в дверь полицейских с очередным ордером в руках. А возможно, нося под сердцем их второго ребенка, она просто ощущала потребность покончить с их богемной жизнью.
Однако, когда Женни приехала в конце февраля в Брюссель, она убедилась, что конца их бродячей жизни пока не предвидится. Карл так и не нашел постоянного пристанища для своей семьи. Женни, Женнихен и кормилица поселились вместе с Марксом в пансионе Буа-Соваж на площади Сен-Гудуль, в самом центре города. Крошечный по сравнению с громадным собором Сен-Мишель, возвышавшимся над ними, словно грозное напоминание о могучем враге Маркса – Церкви, пансион Буа-Соваж вряд ли мог считаться настоящим домом, о котором мечтала Женни; однако здесь было любимое пристанище всех немногочисленных беженцев, которых в Брюсселе было не так много (всего несколько сотен) по сравнению с Парижем, где немецкая община насчитывала 80 тысяч человек {8}. В этом маленьком сообществе связи налаживались быстрее и прочнее, и вчерашние попутчики становились друзьями.
В Париже общественная жизнь Марксов была наполнена ежедневными высокими драмами, политическими и личными, как и подобает большой сцене. Первые недели в Брюсселе были тихими, но и куда более насыщенными. На протяжении многих лет противники Маркса пренебрежительно называли круг его друзей «партией Маркса» – такое название предполагало бы наличие целой организации с большим количеством членов. Но такой организации никогда не существовало, и даже те, кто употреблял это определение, знали, что относится оно лишь к его семье и ближайшим друзьям. Разумеется, ближний круг его соратников в целом разделял его взгляды, однако мужчин и женщин вокруг Карла и Женни также связывала глубокая личная привязанность. Большинство этих «членов партии» и собрались впервые в середине 1840-х годов в Брюсселе.
На следующий же день после своего приезда в город Маркс отправился навестить поэта Фердинанда Фрейлиграта, чтобы извиниться перед ним за то, что Rheinische Zeitung в бытность Маркса главным редактором три года назад довольно жестко нападала на него. К этому времени Фрейлиграт (также занимавшийся бизнесом и тем очень вдохновивший молодого Энгельса) был одним из самых знаменитых немецких поэтов.
Вначале его поклонников привлекала не политика, а чистая прелесть его стихов, как и у Гервега. Фрейлиграт утверждал, что поэты не должны принимать участие в социальных вопросах, и имел публичную дискуссию с Гервегом по этому поводу. В 1842 году ему была назначена персональная пенсия от прусского императора, и «Rheinische Zeitung» осудила его за это, объявив, что Фрейлиграт продался врагам свободы {9}.
В течение следующих двух лет, пока прусское правительство становилось все более реакционным, стихи Фрейлиграта приобретали все более отчетливую политическую направленность. В 1844 году его книга «Патриотические фантазии» была запрещена. Он изменил название на «Исповедь Веры» и в предисловии отказался от императорской пенсии. Император был в ярости, книгу запретили вторично, и Фрейлиграт бежал в Бельгию. Он и его жена Ида мирно и спокойно жили в Брюсселе, пытаясь продумать свои следующие шаги, когда в Бельгию приехали Марксы. Между двумя семействами сразу установились очень теплые отношения {10}. Фрейлиграт, который был всего на 8 лет старше Маркса, называет своего нового друга «хорошим, интересным, скромным, решительным человеком» {11}.
Однако вскоре Фрейлиграты переехали в Швейцарию, и Марксы переехали из Буа-Соваж в освободившийся после их отъезда дом. В мае они снова переехали в пригород к востоку от Брюсселя, близ Порт-де-Лювен {12}. У них была 1000 франков, присланная Энгельсом, Юнгом и другими людьми, поддерживавшими их на родине, и потому они могли заплатить за аренду дома (владельцем которого был один бельгийский демократ) на рю де Альянс, в рабочем районе, где была публичная библиотека {13}. По сравнению с их квартирой на рю де Ванно в Париже, этот дом был тосклив и мрачен. Потемневшее от копоти и сажи трехэтажное здание стояло на улице, сплошь усеянной мелкими торговыми лавками и кустарными мастерскими. Но Женни, казалось, нисколько не расстраивало ее убогое жилище; постепенно вокруг них начал собираться круг друзей.
Бюргерс, журналист, ехавший с Марксом в Брюссель, поселился рядом {14}, так же как и другой немецкий журналист, Карл Хайнцен, которого Маркс знал еще по Кельну (и даже однажды взял в заложники во время хмельной вечеринки) {15}. Мозес Гесс и его возлюбленная Сибилла Пеш (неграмотная женщина, рабочая с фабрики, которую он встретил в Кельне) арендовали квартиру через два дома от Марксов {16}; бывший прусский лейтенант, социалист по взглядам, Йозеф Вейдемейер (Маркс называл его Вейвей) временно поселился у Марксов {17}. Однако самые важные друзья, по сути ставшие членами семьи Маркса, прибыли в апреле. Одна из них – Елена Демут, другой – Энгельс.
Елену в семье Маркса называли по-разному, но чаще всего – Ленхен. Она была на 6 лет моложе Женни и на 2 – Карла. Родом она была из деревни неподалеку от Трира, одна из семерых детей местного пекаря. Ленхен прислуживала в доме Вестфаленов с 11 лет и практически выросла на глазах у Женни, ее брата Эдгара и Карла Маркса, хотя в ее обязанности входило ухаживать за детьми хозяев {18}. В апреле 1845 года мать Женни отправила 25-летнюю Ленхен в Брюссель для помощи Женни, поскольку сомневалась, что та в одиночку справится и с маленькой дочерью, и с новорожденным. Каролина фон Вестфален передала дочери, что посылает самую лучшую помощницу, ближе и преданнее которой только она сама {19}. Белокурая и голубоглазая Ленхен взяла на себя управление хозяйством, тем самым дав возможность Женни спокойно доносить ребенка и помочь Карлу в его работе.
Неясно, каких политических взглядов она придерживалась до приезда в Брюссель, да и вряд ли она когда-нибудь о них говорила, однако в доме Маркса она быстро примкнула к коммунистам и социалистам из компании Маркса и Женни и начала вполне сознательно участвовать в социальной жизни. С весны 1845 года Ленхен становится фактически членом семьи, платя ей за это бесконечной преданностью. Один из современников рассказывал, что ей несколько раз делали предложение, но она всегда отказывалась выходить замуж, посвятив себя семье Маркс {20}.
Приезд Ленхен стал большой удачей: она приехала, чтобы обеспечить порядок в доме, в то время как Энгельс, казалось, явился, чтобы его разрушить. Он арендовал дом по соседству, но, судя по всему, большую часть времени проводил в доме друга {21}. С тех пор как он оставил Париж 8 месяцев назад, Энгельс успел пожить с семьей в Бармене, закончить свою книгу «Положение рабочего класса в Англии» (в которой, как он сказал Марксу, обвинил английскую буржуазию в убийстве, грабеже и других преступлениях, совершаемых в массовом порядке на фабриках и заводах, в том числе и принадлежащих отцу Энгельса) и поссориться со своим отцом. То, кем стал его сын, совершено не устраивало Энгельса-старшего, и, чтобы успокоить его, молодой человек согласился вернуться к работе на фабрике во время своего пребывания дома {22}. Однако он писал Марксу: «Мне это опротивело раньше, чем я начал работать: торговля – гнусность, гнусный город Бармен, гнусно здешнее времяпрепровождение, а в особенности гнусно оставаться не только буржуа, но даже фабрикантом, то есть буржуа, активно выступающим против пролетариата. Несколько дней, проведенных на фабрике моего старика, снова воочию показали мне всю эту мерзость, которую я раньше не так сильно чувствовал» {23} [26].
Он ушел с фабрики, сказал отцу, что не желает больше иметь ничего общего с семейным бизнесом, и вместе с Мозесом Гессом начал коммунистическую пропаганду в Рейнланде {24}. Активность Энгельса вскоре привлекла внимание полиции, и в полицейских отчетах он фигурирует как «оголтелый коммунист, выдающий себя за литератора» {25}. Отец боялся, что вслед за этим последует и ордер на арест, и, чтобы избежать позора для семьи и страданий о судьбе сына, дал ему денег на отъезд в Брюссель, что было Энгельсу очень на руку, поскольку именно туда он и собирался {26}.
Еще накануне приезда он писал Марксу, что хотел бы отставить в сторону «теоретическую болтовню» и обратиться к реальным проблемам реальных людей {27}. Его книга о рабочем классе Англии должна была быть опубликована в Германии в мае, и Энгельс сообщил, что с радостью будет перечислять полагающиеся ему роялти на счет семьи Карла, что поможет им вылезти из финансовой пропасти; самому ему с лихвой хватало денег, которые выделял ему отец {28}. В то же время он был равно готов и к работе, и к новым провокациям. По его словам, он так хорошо вел себя в Бармене, что боялся: «Всевышний прочитает мои труды и призовет меня на небеса» {29}.
Маркс был счастлив появлению такого энергичного компаньона, а Женни – рада встрече с другом своего мужа (будучи на 6 лет моложе ее, до сих пор он знал Женни только под довольно строго звучащим именем «мадам Маркс»). Если Энгельс планировал работать вместе с Марксом, ему предстояло работать и с Женни. Она по-настоящему стала «правой рукой» своего мужа – как когда-то в своих экзальтированных фантазиях о том, как он потерял руку на дуэли и не может писать. Теперь жизнь стала намного легче, потому что их дом стал центром притяжения для всех их соратников, и Марксу больше не было нужды уходить на собрания и встречи, как он это делал в Париже. Теперь все встречи проходили у них, и Стефан Борн, 23-летний немецкий наборщик, с которым они познакомились в Брюсселе, отмечал: «Я редко встречал такие счастливые браки, в которых радость и страдание были поделены поровну, а все скорби преодолевались сообща, в сознании полной и взаимной зависимости. Кроме того, я редко встречал женщин, которые были бы одинаково привлекательны и внешне, и внутренне в такой степени, как мадам Маркс» {30}.
Их маленькая колония жила в полной гармонии, каждый сочувствовал другому и, как вспоминала Женни, всегда был готов поделиться своими скудными средствами. Успех одного становился общим успехом. Они вместе обедали, вместе танцевали и вместе выпивали под роскошными хрустальными люстрами брюссельских кафе {31}. В этих кафе немцы встречали беженцев из других государств, которые рассказывали те же истории о растущей нужде и невозможности вернуться на родину.
В 1845 году казалось, что над Европой нависло проклятие. Неурожай пшеницы и картофеля первым обрушился на Ирландию, откуда перекинулся на континент, опустошая продовольственные склады. Сельские жители столкнулись с мучительным выбором: оставаться на своей земле, которая больше не могла их прокормить, или бросить все, что они нажили за всю свою жизнь, и поселиться в странных непривычных домах среди странных и непривычных людей. Любой выбор мог закончиться голодом и нуждой. Десятки тысяч европейцев эмигрировали – если у них была возможность купить билет. Только в 1845 году в Соединенные Штаты эмигрировало 100 тысяч человек, это был первый подобный рекорд в целой череде массовых исходов населения в последующие годы. Однако большинство из тех, кто оставил свою землю, так далеко не уезжали, они заполняли города Европы, постепенно превращавшиеся в огромные перенаселенные мегаполисы {32}. Дороги, соединяющие деревни и города, были забиты возами и телегами, на которых бывшие крестьяне перевозили свой скарб; по ним брели и те, чье имущество помещалось в заплечном мешке. Нехватка продовольствия спровоцировала разорение мелких фермеров {33}. Свирепствовали болезни, преступность и пороки всех мастей, включая торговлю детьми. Росла угроза массовых беспорядков, усугубленная сельскохозяйственным кризисом {34}.
Одновременно с этим коммерция по всей Европе выходила в овердрайв. Население с 1800 года выросло почти на 40%, и промышленники делали все возможное, чтобы насытить такой огромный рынок. Раньше продукты производились только в тех объемах, чтобы удовлетворить спрос, но теперь процесс производства настолько ускорился и подешевел, что жаждущие прибыли производители больше не ждали, когда их товар будет востребован покупателями. Вместо этого они создали свои собственные рынки, и если местных потребителей становилось недостаточно, то наличие новых железных дорог и пароходных линий позволяло им продавать свою продукцию по всему миру. Они полагали, таким образом, что потенциал их коммерции бесконечен. Подобный менталитет был особенно распространен в Англии, самой развитой в промышленном отношении стране мира. Обеспеченные люди больше не задавались вопросом «Что мне нужно?». Главным вопросом эпохи стало «Что я хочу?» – и разрыв между теми, кто мог себе позволить задать этот вопрос, и всем остальным населением рос с ужасающей быстротой {35}.
Развитие торговли и производства действительно создавало новые рабочие места, но новые фабрики и шахты все равно не могли обеспечить работой всех желающих, кроме того, хозяева все реже нанимали взрослых мужчин – их труд был практически вытеснен машинами и станками. Выгоднее было брать на работу женщин и детей – и платить им в несколько раз меньше. Кроме того, рабочие места, созданные на новых фабриках и шахтах, не обеспечивали даже того невысокого уровня безопасности и стабильности, к которой привыкли рабочие и их семьи. Ведь они работали на одного и того же хозяина из поколения в поколение, всегда на одном и том же месте. Их жизнь была трудна – но она была частью той фабрики, той небольшой коммуны, к которой они принадлежали. Теперь же эта жизнь – и существование семьи – зависела лишь от прихоти непонятного, зачастую совершенно постороннего человека, «мастера», который был предан исключительно хозяину.
Отдельного взгляда заслуживали и условия в фабричных цехах, где рабочие постоянно рисковали получить серьезное увечье, травму или даже погибнуть. Рабочий день длиной от 12 до 18 часов, 6,5 рабочих дней в неделю – рабочие жили, чтобы работать, и работали, чтобы выжить.
Этих несчастных – и миллионов таких же, как они, все еще не вписавшихся в новую промышленную систему, – было гораздо больше, чем людей, которые пользовались производимыми благами и прибылью. Однако ими пренебрегали с легкостью – рабочие были совершенно безликой, глухой, бессловесной, по большей части безграмотной массой. Разумеется, и среди них встречались те, кто стоял особняком, настоящие мастера, ремесленники, грамотные умные люди – портные, краснодеревщики, печатники. Они были свидетелями страданий своих братьев, чья жизнь была безжалостно скомкана и перевернута новой системой.
Были и те, кто не входил в рабочую среду, но хорошо знал о бедственном положении пролетариата – интеллектуалы, мыслители, бунтари. В кафе и тавернах по всей Европе интеллектуалы и ремесленники обсуждали множество возможных социальных изменений, направленных на облегчение жизни рабочих.
В действительности то, что помогало с такой скоростью развиваться торговле и промышленности, способствовало такому же быстрому распространению идей реформ. Уровень грамотности в Европе не превышал 50%, но жажда знаний была велика. Литература стала интернациональной, и такие авторы, как Бальзак, Виктор Гюго и Диккенс, описывавшие все общество в целом, от особняков до сточных канав, в новом реалистичном стиле, были признаны писателями мирового уровня. Их произведения взволнованно обсуждали в гостиных и клубах, где раньше знали лишь местных авторов {36}. Газеты тоже быстро перемещаются из города в город, уворачиваясь от местных цензоров, следящих, чтобы ничего из того, что местный князек-правитель хотел скрыть от общественности, не попало под типографский пресс. Даже в России, с ее самым репрессивным в Европе правителем, царем Николаем I, создавшим аж 12 цензурных департаментов, иностранные газеты все же распространялись среди граждан, которые передавали их из рук в руки {37}. Друг Маркса, Павел Анненков, говорил об этом феномене: «То, что раньше составляло привилегию высшей аристократии и правительственных сфер, отныне стало в порядке вещей среди простых граждан» {38}.
Пожалуй, наибольшую опасность в этом смысле представляли путешественники, становившиеся своего рода троянскими конями, перевозившими из страны в страну революционные идеи. В отличие от эмигрантов, которые полностью порывали со своими корнями, чтобы начать жизнь на чужбине, путешественники – а это были, как правило, образованные европейцы – переезжали из страны в страну либо по делам бизнеса, либо для продолжения обучения. Останавливаясь на короткое время в разных местах, они волей или неволей знакомились с новостями – и новыми идеями. Это перекрестное опыление привело к тому, что об американских уроках демократии уже говорили в Санкт-Петербурге, а тонкости английского бизнеса обсуждали в Милане. По всей Европе потихоньку нарастал приветственный гул – так встречали идеи коммунизма и социализма, сторонники которых обещали исправить социальные беды общества и помочь тем, кто остался без еды, крова или работы – неважно, по вине природной катастрофы или рук человеческих.
Лидеры этих групп были уже давно высланы правительствами своих стран; они встречались в чужих столицах – и в разговорах их все чаще можно было заметить, что тон изменился и обсуждаемые проблемы перестали быть национальными. Они стали интернациональными {39}.
Демонстрации протеста в то время еще редки; у рабочего класса, похоже, пока не было ни малейшего представления о том, как бороться с коварной, безжалостной и опирающейся на большие деньги промышленной системой. Однако год назад уже восстали силезские ткачи (Энгельс объявил их восстание началом активной фазы рабочего движения), и в конце марта 1845 года в швейцарском Люцерне были убиты сто человек – когда бурный политико-религиозный диспут вылился в кровавые беспорядки {40}. Для тех, кто призывал к социальным реформам, эти события стали знаковыми.
Коронованные особы по всей Европе тоже прислушивались к нарастающему гулу. Общество менялось на глазах. В прошлом основные угрозы исходили от самих монархов – войны, споры за земли, честь или религию. Однако уже с XVIII века, после революций в Америке и Франции и последовавших за ними волнений в 1830 году, угрозы стали менее очевидными, более универсальными и касались уже прав человека. Монарху все еще мог угрожать другой монарх, но все чаще опасность исходила от просвещенного дворянства его собственной страны, от буржуазного интеллигента-либерала или от лавочника в простой блузе и красном шарфе.
Европа вступала на неизведанную территорию. Относительно простая социальная структура, проверенная веками, в которой воля королей и князей была неоспорима, а все остальные члены общества были обязаны лишь беспрекословно повиноваться, рушилась на глазах. Но что придет ей на смену? На самом деле в будущее Европы можно было запросто нанести визит. Все, что для этого требовалось, – пересечь Ла-Манш. Энгельс уже бывал там, а летом 1845 года привез туда своего друга.
Карла Маркса.
9. Лондон, 1845
Мы не можем сказать, что такое удача в этом мире, сэр. Я обязан трудиться, очень тяжело трудиться, действительно тяжело, сэр, чтобы получить отдачу. А потом взять – и не получить вообще ничего. Время от времени приходится идти в короткую. Часто.
Уличный актер {1}
Весной, перед отъездом вместе с Энгельсом в Англию, Маркс начал набрасывать идеи для книги, которую они написали бы совместно, что помогло бы им окончательно уйти от «теоретической болтовни» и продемонстрировать всем раз и навсегда, что такое настоящие идеи: будь они религиозные, политические или экономические, корни их должны быть в реальном мире {2}. В частности, немецкие философы в своих работах касались лишь высоких сфер философии – по необходимости, вынужденно, поскольку правительство запрещало им обсуждать или публиковать все, что хоть как-то могло быть отнесено к повседневной, сегодняшней жизни. Даже социалисты использовали отвлеченные понятия, такие как «человечество» или «страдания» – вместо подразумевающихся «человек» или «голод». Маркс и Энгельс настаивали: теоретическая завеса должна быть снята с философии, и на передний план нужно вывести практические вопросы. В состоявшей из 11 пунктов работе «Тезисы о Фейербахе», написанной в это время, Маркс довольно лихо резюмирует: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» {3} [27]. С этим призывом к действию, а также с 1500 франков, выданных ему в качестве аванса за книгу по политэкономии (которую он еще даже не начал), Маркс присоединился к Энгельсу, и они начали готовиться к поездке в Англию {4}.
Женни решила на время отсутствия Карла вернуться в Трир вместе с Ленхен и ребенком. Она была на 6-м месяце беременности, и путешествовать ей было трудновато, но у ее матери начались проблемы с братом Женни, Эдгаром. После долгих лет проволочек он наконец сдал экзамены и стал юристом, но, казалось, не собирался остепениться или найти работу. Во время учебы в Кельне он был буквально очарован радикальными идеями – и бодро опустошал кошелек матери, утверждая, что делает это во имя грядущей революции и для искупления страданий человечества, хотя на самом деле вел чрезмерно активную социальную жизнь… в частности проводя все вечера в опере. Женни, нежно любившая брата, когда он был еще мальчиком, рассказывала Марксу, что теперь ей трудно вспомнить былые чувства. Эдгар собирался надолго приехать в Брюссель; Женни надеялась, что это легкомысленное решение несколько облегчит жизнь матери {5}. Она отправилась на восток, сев в поезд до Трира и попрощавшись с Карлом и Фридрихом, которые в июле отбыли в противоположном направлении.
Они пробыли в Англии 6 недель и почти все это время жили в Манчестере. В текстильной промышленности Англии работало почти полмиллиона человек, и город считался центром этой отрасли. Для социолога это была готовая модель индустриального мира. К приезду Маркса и Энгельса вполне обособленное традиционное текстильное производство превратилось в мощную и массовую фабричную систему. Мелкие промышленники, по старой традиции худо-бедно заботившиеся о своих рабочих с различной степенью доброжелательности, были вытеснены безликими компаниями, не имеющими никаких обязательств перед своими сотрудниками, кроме заработной платы, установленной на крайне низком уровне, что позволяло получать наибольшую прибыль. Человек перестал быть человеком – теперь это был всего лишь придаток к машине. Рабочий переставал быть даже главой собственной семьи, его жизнь всецело принадлежала фабрике {6}.
Маркс и Энгельс работали в Библиотеке Четэм, старейшей публичной библиотеке Англии. Они приходили сюда под мелким дождем, черным от сажи, и сидели среди потемневших от времени деревянных стен и витражей, изучая работы английских экономистов, таких как Дэвид Рикардо, Адам Смит, Дэвид Хьюм и сэр Уильям Петти – цитаты и отсылки к этим авторам будут встречаться потом во всех работах Маркса и Энгельса.
По вечерам они сидели в пабах, среди представителей среднего класса, или встречались с Мэри Бернс и шли в рабочие кварталы {7}, где жизнь кипела в любое время суток, особенно в субботу, когда выдавали жалованье за неделю. Когда тяжелый недельный труд чудесным образом превращался в серебряные и медные монеты, на мгновение возникала иллюзия свободы – но недельный заработок рабочий редко доносил до дома: многие управляющие выплачивали деньги прямо в пабах. Мужчины и женщины за стойками пивных тешили себя иллюзией, что их труд сейчас купит им немного счастья…
Другие несли заработанные пенсы прямиком на продуктовый рынок, работавший с 10 вечера до полуночи, чтобы купить еды. Даже с большого расстояния рынок вонял и выглядел как настоящий ад: бесконечные ряды киосков и прилавков были освещены красным светом масляных, нещадно чадящих ламп, а на прилавках лежали загнивающие овощи и вонючие обрезки мяса, которые не смогли продать владельцы «приличных» магазинов. Продавцы и посетители буквально утопали по колено в смеси жидкой глины и навоза, и все это было лишним напоминанием о том, на какой низкой ступени общества стояли обитатели рабочих кварталов {8}.
В жилом секторе стояли маленькие коттеджи, состоящие обычно из двух комнат, подвала и чердака; в каждом таком домишке ютилось до 20 человек, на улице стояли туалеты – по одному примерно на 120 человек. Зловоние было всепроникающим, дома стояли так тесно, что, казалось, даже воздух между ними проникает с трудом, и никакой ветер не может выдуть эту ужасную вонь {9}.
На фабрике работали в основном с хлопком – хлопок и носили на протяжении всего года. Шерсть была слишком дорога. Платье, первоначальный цвет которого еще можно было угадать, считалось выходным, это был признак достатка; в основном же одежда рабочих была до такой степени застирана и изношена, что никаких оттенков различить было нельзя. Рабочий не мог позволить себе шляпу, чтобы защититься от почти постоянного холодного дождя, поэтому люди носили некое подобие шапок из размокшей бумаги. Перчатки, чулки – таких слов в словарном запасе рабочих просто не было. Даже ботинки считались чем-то экстравагантным – мужчины, женщины и дети ходили босиком практически круглый год {10}.
В этом жутком мире не было места семейной жизни. Матери были вынуждены работать, им не с кем было оставить маленьких детей, и они давали младенцам опиум, чтобы те не плакали, пока мама на фабрике. Девочек, едва им исполнялось 12 лет, выдавали замуж, чтобы избавиться от лишнего рта; мальчики лет с 6 росли просто на улице – тоже из соображений экономии. Отец, который когда-то был главой семьи и заботился о тех, кого любил, сегодня конкурировал с родным сыном за место у станка, где получал жалкие гроши.
Болеть – вот еще одна роскошь, которую не могли позволить себе бедные люди, и смерть здесь считалась предпочтительнее и милосерднее, чем увечье или болезнь, потому что больной сразу становился обузой для собственной семьи, и без того раздавленной нищетой {11}. Похороны бедняков, особенно ирландцев, становились чуть ли не праздником в честь того счастливца, которому повезло уйти из этого мира. Неистовый визг скрипок, джига и выпивка помогали живым хоть на время забыть об убогости своего существования.
Если это была та реальность, которую Маркс искал, то в Манчестере он ее нашел. До поездки он фактически никогда не видел, как живут пролетарии, и вряд ли что-то могло его подготовить к картинам того унижения человека, которые он увидел в Англии. В Париже он встречался с рабочими, но только слушал их рассказы. Теперь же он погрузился в их жизнь… в прямом и переносном смысле. Звуки, запахи, образы – все было шокирующим. В конце концов, Маркс принадлежал к среднему классу, был женат на аристократке, вращался всю жизнь в культурных, образованных кругах. Хотя он и критиковал тех, кто привержен лишь теории, – но ведь и сам он был теоретиком. До этой поездки {12}.
Друзья покинули Манчестер примерно через полтора месяца и переехали в Лондон, чтобы познакомиться еще с одной стороной нового индустриального общества. Они обнаружили, что столица Англии переполнена до такой степени, что по улицам трудно ходить, однако Энгельс говорил, что, несмотря на эту толчею, здесь каждый чувствовал себя одиноким и окруженным стеной безразличия {13}.
В Манчестере богатые старались не пересекаться с бедными; город был построен так, что зажиточные граждане просто не имели возможности столкнуться с бедняками {14}. В Лондоне все было иначе. Богатые и бедные ходили по одним и тем же улицам, однако два эти вида никогда не смешивались, в социальном смысле они как бы вообще не существовали друг для друга. Бедные грабили богачей, богачи обирали бедных; первое называлось преступлением, второе – индустрией.
В Лондоне и так хватало трущоб, но из-за голода в Ирландии их количество возросло. Вновь прибывшие даже не всегда напоминали людей. Старухи-нищенки, сидящие прямо на мокрой земле в переулках Лондона, напоминали кучу грязного тряпья, и только горький табачный дым, поднимавшийся над этой кучей, говорил о том, что перед вами – человеческое существо. Дети в лохмотьях были настолько грязными, что иногда просто не было возможности угадать их возраст и пол {15}.
Некоторые эмигранты оставили в Ирландии каменные дома, но большинство знали в своей жизни лишь грязные хижины. Их кожа загрубела и стала коричневой – из-за насыщенной танином воды ирландских рек и ручьев. Они были изгоями даже среди своих – их соотечественники, успевшие обустроиться в Лондоне, ненавидели этих несчастных, потому что они соглашались работать за любую, самую мизерную плату и занимали драгоценное место под хмурым английским солнцем {16}.
В Манчестере трущобы распространялись, словно сорняки, в длину – в Лондоне они росли вверх. Бедняки набивались в четырехэтажные дома снизу доверху; каждый дюйм пространства – даже лестницы – был заселен {17}. Снимали даже не комнату – кровать; даже не кровать – место в кровати. К стенам прикрепляли гамаки – в них тоже можно было спать. Мальчики, девочки, мужчины, женщины, знакомые и незнакомые – все были сбиты в плотную массу и каждую ночь прижимались друг к другу, ища тепла и отдыха – того, что богатые получали даром {18}. Эта скученность, а также постоянная борьба за существование привели к тому, что уровень развращенности в Лондоне был неизмеримо выше, чем в Манчестере. Секс-индустрия базировалась в легендарном треугольнике: площадь Сохо, Сент-Джайлс, Стрэнд… Подражая взрослым, совсем маленькие дети произносили мерзкие слова, предлагая себя любому прохожему, кто мог дать им хоть фартинг {19}. Те, чьи семьи были изгнаны неурожаем и голодом со своих ферм, научились выживать на улице. Это был пролетариат трущоб. Общество спросило, что они могут продать, – они ответили тем единственным, что у них осталось: своим телом.
Маркс и Энгельс изучали город, встречались с немецкими и английскими рабочими, представлявшими это общество обездоленных людей. Некоторые из них были членами тайного общества Союза справедливых – Маркс уже был знаком с этим обществом по Парижу; в Лондоне организация собиралась в пабе «Красный Лев» в Сохо под более нейтральным и не вызывающим подозрений именем Просветительного общества немецких рабочих {20}. Ее лидерами были Карл Шаппер, Генрих Бауэр и Йозеф Молль. Энгельс, познакомившийся с ними еще в 1843 году, говорил, что это «первые революционные пролетарии», которых он встретил в жизни.
«Я никогда не забуду то глубокое впечатление, которое произвели на меня эти трое мужчин. Эти люди всего лишь хотели оставаться людьми» {21}.
Союз справедливых использовал Общество в качестве прикрытия для вербовки новых членов. Филиалы организации имелись в Швейцарии и Германии, а когда и на Общество пали подозрения властей, немцы стал организовывать хоровые кружки и спортивные клубы – все для того, чтобы привлечь в свои ряды новых участников {22}. К 1845 году в организации было всего лишь около 300 человек. Мало-помалу, привлекая не только немцев, группа росла, становилась интернациональной и называлась теперь Коммунистической рабочей ассоциацией. В членском билете, напечатанном на 20 языках, значилось: «Все люди – братья».
Энгельс отмечал, что в организацию входили в основном ремесленники – своеобразная аристократия рабочего класса. Многие из них и сами стремились стать хозяевами {23}.
Английское радикальное движение сторонников реформ, напротив, состояло не только из ремесленников, но и из простых рабочих. Оно существовало с 1792 года, когда лондонский сапожник Томас Харди основал Лондонское корреспондентское общество, добивавшееся избирательных прав (за это Харди попытались обвинить в государственной измене, за что по законам того времени вешали не до полного удушения, а затем четвертовали[28]). Англия раньше других стран стала промышленной, поэтому и изучение новой экономико-политической системы здесь было представлено более зрелыми трудами {24}. В 1820 году Роберт Оуэн, первый английский социалист, утверждал, что рабочие должны владеть денежным эквивалентом своего труда, в чем им отказано. С тех пор английские радикалы пытались определить качественную и количественную стоимость труда {25}. Они считали владельцев мануфактур непосредственно ответственными за эксплуататорскую систему; однако они следили за источником своего капитала и нашли таких же богатых землевладельцев и провинциальных торговцев, контролировавших работу парламента. Эти люди финансировали новую индустриальную систему, получая постоянную прибыль в денежном эквиваленте и укрепляя тем самым свою власть. До сих пор им удавалось ее удержать, но не без эксцессов {26}.
В 1830 году, когда Европа пережила восстания в Польше и Франции, рабочие в Манчестере собрались под эгидой профсоюза, чтобы настаивать на проведении политической реформы, включающей общее избирательное право. Но два года спустя, когда реформа стала законом, парламент нашел способ обойти это, узаконив избирательное право только для выборных представителей среднего класса. Таким образом, рабочие были исключены из политической системы {27}. Это было поражение – но неудача ускорила создание профсоюза. К 1833 году организация насчитывала полмиллиона членов {28}. Кроме того, рабочие впервые осознали себя частью общества, они сформировали свой собственный класс. Бронтер О’Брайен, пропагандист-радикал, озвучил их цели: «Из-за законов для избранных существует неравенство; закон для всех его уничтожит» {29}. В 1837 году английские рабочие агитаторы представили в палату общин шесть пунктов, которые стали известны на следующий год как Народная хартия. Она содержала призыв провести всеобъемлющую политическую реформу, итогом которой должна стать возможность избираться в парламент для любого английского гражданина мужского пола {30}. Однако в течение следующих пяти лет движение в поддержку Хартии сошло на нет, шесть требований неоднократно отвергались парламентом. К 1845 году чартисты активно искали возможность объединения с рабочим классом Франции и Германии, чтобы выжить {31}.
Именно в это время Маркс и Энгельс встречаются в Лондоне с лидерами английского рабочего движения, в первую очередь с Джорджем Джулианом Гарни, лидером чартистов и редактором базирующейся в Лондоне газеты «Северная звезда», и Эрнестом Джонсом, также чартистом, который станет Марксу и Энгельсу другом на всю жизнь {32}. Энгельс, выступавший еще и в качестве переводчика для Маркса, вспоминал, что в итоге этих встреч и бесед все собравшиеся пришли к выводу: чартизм, социализм и коммунизм – это проявления одной и той же, исторически обоснованной, борьбы пролетариата против буржуазии {33}.
Маркс и Энгельс многому научились у этих ветеранов революционного движения, много рассказавших своим младшим товарищам не только об истории, но и о реалиях дня сегодняшнего, о практических аспектах деятельности их организации. Карл и Фридрих вернулись в Бельгию воодушевленными, горящими новыми идеями по объединению рабочих в Брюсселе и за его пределами.
За тяжелым нравом и презрительными манерами Карл Маркс скрывал удивительную глубину чувств к своим близким, в том числе – к своему другу. Его враги могли этого и не видеть. Многие современники утверждали, что в Марксе было больше ненависти, чем любви. Однако, глядя на его жизненный путь, становится ясно, что в нем жили оба эти чувства в равной степени. Невозможно представить, что увиденное в Англии не повлияло бы на Маркса. Он вернулся в Бельгию другим человеком. Слова, которые он так хорошо знал из книг, обрели плоть и кровь, теперь это были слова живых людей, чьи лица он видел воочию. Еще один важный результат этой поездки – окрепшая дружба с Энгельсом. За год до этого они провели вместе 10 дней в Париже – но с тех пор общались только письмами либо встречались в больших компаниях. Путешествуя по Англии, они обнаружили, что их связывает не только общая идея, но и простая личная симпатия. Большинство из тех, с кем работал и общался Маркс, были старше его. За исключением Гервега и Бакунина, он всегда был окружен мужчинами другого поколения. Но с Энгельсом они говорили на одном языке, их истории были похожи, у них были сходные, хотя и не идентичные взгляды и жизненный опыт. В интеллектуальном смысле они были прекрасным тандемом, остроумным, наделенным даром предвидения, творческим (а еще – снобистским, сварливым, нетерпимым и склонным к конспирологии). Как друзья – они были сквернословы, веселые похабники, подростки в душе. Они любили курить (Энгельс – трубку, Маркс – сигары), выпивать до рассвета (Энгельс – хорошее вино и эль, Маркс – все что угодно), сплетничать (в основном о сексуальных склонностях своих знакомых) и хохотать до упаду (в основном издеваясь над своими противниками – и в случае Маркса – до слез, градом льющихся от хохота). Лучшими друзьями они возвращались в Брюссель, полные сил и новой энергии. Маркс ощущал в себе какую-то свирепую ясность, сродни откровению. Энгельс вез нечто более «земное»: свою жену, Мэри Бернс.
10. Брюссель, 1846
Для жизни нужны прежде всего пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический акт, это – производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни.
Карл Маркс {1} [29]
Женни вернулась в Брюссель, как она называла это – «в нашу колонию нищих», в конце сентября, как раз к родам. Отъезд из Трира она оттягивала до последней минуты, потому что не хотела расставаться со своей матерью. Эдгар наконец-то уехал в Брюссель, где планировал пожить несколько месяцев перед тем, как отправиться в Соединенные Штаты, чтобы попробовать свои силы в бизнесе. Каролина фон Вестфален оставалась в полном одиночестве {2}. Женни видела, как эта женщина, всегда общительная, любившая быть на виду, выходить в свет, все глубже уходит в себя и свои воспоминания. Богатство ее давно истаяло, она редко выходила в свет. Без денег, без влиятельного мужа Каролина ушла в тень того сияющего мира, который когда-то принимал ее с распростертыми объятиями. Она была 60-летней вдовой, одинокой и отверженной, как и многие другие.