Калина красная Шукшин Василий
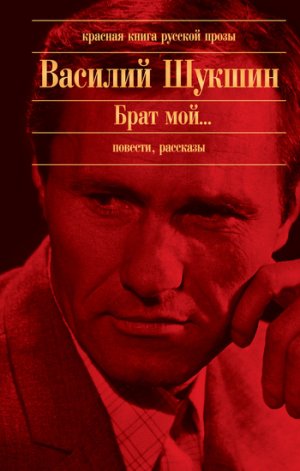
История эта началась в исправительно-трудовом лагере, севернее города Н., в местах прекрасных и строгих.
Был вечер после трудового дня.
Люди собрались в клубе…
На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:
— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!
На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора — один за одним. Они стали так, что образовали две группы — большую и малую. Хористы все были далеко не «певучего» облика.
— В группе «бом-бом», — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу, — участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.
Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством:
— Бом-м, бом-м…
В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя — Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженого. Он старался всерьез и, когда «звонили», морщил лоб и качал круглой крестьянской головой — чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе.
Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди — воля.
Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор:
— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? — спросил начальник. Он, видимо, много-много раз спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то готовые.
— Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже, надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко.
— Да это-то я понимаю… А как? Как ты это себе представляешь?
— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник.
— Товарищ.
— А? — не понял Егор.
— Теперь для тебя все — товарищи, — напомнил начальник.
— А-а! — с удовольствием вспомнил Прокудин. И даже посмеялся своей забывчивости. — Да-да… Много будет товарищей!
— А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник.
— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще люблю природу. Куплю корову…
— Корову? — удивился начальник.
— Корову. Вот с таким вымем. — Егор показал руками.
— Корову надо не по вымю выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее «вот такое» вымя? А ты выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя… Толку-то что? Корова должна быть… стройная.
— Так это что же тогда — по ногам? — сугодничал Егор вопросом.
— Что?
— Выбирать-то. По ногам, что ли?
— Да почему по ногам? По породе. Существуют породы — такая-то порода… Например, холмогорская… — Больше начальник не знал.
— Обожаю коров, — еще раз с силой сказал Егор. — Приведу ее в стойло… поставлю…
Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга.
— Корова — это хорошо, — согласился начальник. — Только… что ж, ты одной коровой и будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?
— У меня много профессий.
— Например?
Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее… как бы это сказать — меньше всего пригодную для воровских целей.
— Слесарь…
Зазвонил телефон. Начальник взял трубку.
— Да. Да. А какой урок-то был? Тема-то какая? «Евгений Онегин»? Так, а насчет кого они вопросы-то стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно в Татьяне? Что, говорю, им там… — Начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой: мол, все ясно. — Пусть… Слушай сюда: пусть они там демагогией не занимаются! Что значит — будут дети, не будут дети?! Про это, что ли, поэма написана! А то я им приду объясню! Ты им… Ладно, счас Николаев придет к вам. — Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил: — Доценты мне… Николаев? Там у учительницы литературы урок сорвали: начали вопросы задавать. А? «Евгений Онегин». Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны: будут у нее дети от старика или не будут? Иди разберись. Давай. Во, доценты, понимаешь! — сказал начальник, кладя трубку. — Вопросы начали задавать.
Егор посмеялся, представив этот урок литературы.
— Хотят знать…
— У тебя жена-то есть? — спросил начальник строго.
Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел.
— Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления.
На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная.
— Будущая, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня. Но живую я ее ни разу не видел.
— Как это?
— Заочница. — Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте. — И сам засмотрелся на милое русское простое лицо. — Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а! Это удивительно, правда? На кассира похожа.
— И что она пишет?
— Пишет, что беду мою всю понимает… Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить? Хорошие письма. Покой от них… Муж был пьянчуга — выгнала. А на людей все равно не обозлилась.
— А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник.
— Понимаю, — тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию.
— Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой… Ванька с Пресни заявишься. — Начальник недовольно оглядел Егора. — Что это за… почему так одет-то?
Егор был в сапогах, в рубахе-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе — не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности.
Егор мельком оглядел себя, усмехнулся.
— Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться.
— Артисты… — только и сказал начальник и засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов.
И вот она — воля!
Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вздохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.
— Вам плохо?
— Мне хорошо, мать, — сказал Егор. — Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться.
— Куда садиться? — не поняла старушка.
— В тюрьму.
Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и посеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора.
А Егор поднял руку навстречу «Волге». «Волга» остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался везти, Егор достал из кармана пачку денег, показал… и пошел садиться рядом с шофером.
В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору, — не поленилась перейти улицу.
— Я прошу извинить меня, — заговорила она, склоняясь к Егору. — А почему именно весной?
— Садиться-то? Так весной сядешь — весной и выйдешь. Воля и весна! Чего еще человеку надо? — Егор улыбнулся старушке и продекламировал: — Май мой синий! Июнь голубой!
— Вон как!.. — Старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня — туда же, по улице идет, где машины. У старушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту.
«Волга» поехала.
Старушка некоторое время смотрела вслед ей.
— Скажите… Поэт нашелся. Фет.
А Егор весь отдался движению. Кончился поселок, выскочили на простор.
— Нет ли у тебя какой музыки? — спросил Егор.
Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон.
— Включи. Крайняя клавиша…
Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.
— Рад? — спросил шофер.
— Рад? — очнулся Егор. — Рад… — Он точно на вкус попробовал это словцо. — Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал тебе, а третью — прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться? — Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше — где обитают слова красивые и пустые. — Умеешь, нет?
Шофер пожал плечами, ничего не ответил.
— Э-э, тухлое твое дело, сынок, — не умеешь.
— А чего радоваться-то?
Егор вдруг стал серьезным. Задумался. С ним это бывало — вдруг ни с того ни с сего задумается.
— А? — спросил Егор из каких-то своих мыслей.
— Чего, говорю, шибко радоваться-то? — Шофер был парень трезвый и занудливый.
— Ну, это я, брат, не знаю — чего радоваться, — заговорил Егор, с неохотой возвращаясь из своего далекого далека. — Умеешь — радуйся, не умеешь — сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?
Парень опять неопределенно пожал плечами.
— Вот видишь, — с сожалением сказал Егор, — а ты радоваться собрался.
— Я и не собирался радоваться.
— Стихи надо любить, — решительно закруглил Егор этот вялый разговор. — Слушай, какие стихи бывают. — И Егор начал читать — с пропуском, правда, потому что подзабыл.
- …в снежную выбель
- Заметалась звенящая жуть.
- Здравствуй, ты, моя черная гибель,
- Я навстречу тебе выхожу!
- Город, город! Ты в схватке жестокой
- Окрестил нас как падаль и мразь.
- Стынет поле в тоске…
какой-то… Тут подзабыл малость.
- Телеграфными столбами давясь…
- Тут опять забыл. Дальше:
- Пусть для сердца тягуче колко,
- Это песня звериных прав!..
- …Так охотники травят волка,
- Зажимая в тиски облав.
- Зверь припал… и из пасмурных недр
- Кто-то спустит сейчас курки…
- Вдруг прыжок… и двуногого недруга
- Раздирают на части клыки.
- О, привет тебе, зверь мой любимый!
- Ты недаром даешься ножу.
- Как и ты — я, отвсюду гонимый,
- Средь железных врагов прохожу.
- Как и ты — я всегда наготове,
- И хоть слышу победный рожок,
- Но отпробует вражеской крови
- Мой последний, смертельный прыжок.
- И пускай я на рыхлую выбель
- Упаду и зароюсь в снегу…
- Все же песню отмщенья за гибель
- Пропоют мне на том берегу.
Егор, сам оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде, сосредоточенном, устремленном вдаль, решимость, точно и сам он бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.
— Как стихи? — спросил Егор.
— Хорошие стихи.
— Хорошие. Как стакан спирту дернул, — сказал Егор. — А ты: не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка… я своих подружек встретил.
Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился.
Егор вышел из машины… Вокруг был сплошной березовый лес. И такой это был чистый белый мир на черной еще земле, такое свечение!.. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.
— Ну, ты глянь, что делается! — сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью. — Здорово! Ишь ты какая… Невеста какая. Жениха ждешь? Скоро уж, скоро. — Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее. Немедленно.
— Жми, малыш, на весь костыль. А то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет: надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь?
— Откуда!
— Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек?
— Двести.
— Беру за триста. Он мне понравился.
В областном городе, на окраине, Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами, сложно, пошел «на хату».
«Малина» была в сборе.
Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога, упорно смотрел на телефон. Сидели четыре девицы с голыми ногами… Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон… Сидел в кресле Губошлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское… Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где — курили или просто так.
Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные и тоже дранью, совсем уж некстати напоминали цветом своим весеннее небо, и от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке, тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей, — логово.
Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно:
- Калина красная,
- Калина вызрела,
- Я у залеточки
- Характер вызнала.
- Характер вызнала,
- Характер — ой какой,
- Я не уважила,
- А он пошел к другой…
- А я…
Во входную дверь негромко постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрика.
— Цыть! — сказал Губошлеп. И весело посмотрел на всех. — Нервы, — еще сказал Губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь.
Пошел рослый парень.
— Цепочка, — сказал Губошлеп. И сунул руку в карман. И ждал.
Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь… И поспешно скинул цепочку, оглянулся на всех…
Дверь закрылась.
И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с мест.
Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся.
К нему подходили, здоровались… Но старались не шуметь.
— Привет, Горе. (Такова была кличка Егора — Горе.)
— Здорово.
— Отпыхтел?
Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были не просто знакомые — была тут Люсьен (скуластенькая), был, наконец, Губошлеп — их Егор рад был видеть. Но что они?
— А чего вы такие все?
— Ларек наши берут, — пояснил один, здороваясь. — Должны звонить… Ждем.
Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее… И всего исцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости.
— Горе ты мое!.. Я тебя сегодня во сне видела…
— Ну-ну, — говорил счастливый Егор. — И что я во сне делал?
— Обнимал меня. Крепко-крепко.
— А ты ни с кем меня не спутала?
— Горе!..
— А ну, повернись-ка, сынку! — сказал Губошлеп. — Экий ты какой стал!
Егор подошел к Губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал. Весело смотрел на Егора.
— Я вспоминаю один весенний вечер… — заговорил Губошлеп. И все стихли. — В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованы — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один… Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот… горе у меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться». Тогда молодой человек…
Зазвонил телефон. Всех опять как током дернуло.
— Да? — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога. И долго слушал. И кивал. — Все сидим здесь. Я не отхожу от телефона. Все здесь, Горе пришел… Да. Только что. Ждем. Ждем. — Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем. — Начали.
Все пришли в нервное движение.
— Шампанзе! — велел Губошлеп.
Бутылки с шампанским пошли по рукам.
— Что за ларек? — спросил Егор Губошлепа.
— Кусков на восемь, — сказал тот. — Твое здоровье!
Выпили.
— Люсьен… Что-нибудь… снять напряжение, — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый, глаза очень наглые.
— Я буду петь про любовь, — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашеной головой, и с маху положила ладонь на струны. И все стихли.
- Тары-бары-растабары,
- Чары-чары…
- Очи-ночь.
- Кто не весел,
- Кто в печали —
- Уходите прочь!
- Во лугах, под покровом ночи,
- Счастье даром раздают!
- Очи, очи…
- Сердце хочет:
- Поманите — я пойду!
- Тары-бары-растабары…
Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина.
— Да? — изо всех сил спокойно сказал Бульдог в трубку. — Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает. — Бульдог положил трубку. — В прачечную звонит, сука.
Все пришли в движение.
— Шампанзе! — опять велел Губошлеп. — Горе, от кого поклоны принес?
— Потом, — сказал Егор. — Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот, вишь, тут молодые люди незнакомые… Ну-ка, я познакомлюсь.
Молодые люди по второму разу, с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой заглядывал им в глаза. И кивал головой, и говорил: «Так, так».
— Хочу плясать! — заявила Люсьен. И трахнула фужер об пол.
— Ша, Люсьен, — сказал Губошлеп. — Не заводись.
— Иди ты к дьяволу! — сказала подпившая Люсьен. — Горе, наш коронный номер!
И Егор тоже с силой бросил свой фужер. И у него тоже заблестели глаза.
— Ну-ка, молодые люди, дайте круг. Брысь!
— Ша, Горе! — повысил голос Губошлеп. — Выбрали время!
— Да мы же услышим звонок! — заговорили со всех сторон Губошлепу. — Пусть сбацают.
— Чего ты? Пусть выйдут!
— Бульдя же сидит на телефоне.
Губошлеп вынул платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев, махнул им.
Две гитары дернули «Барыню».
Пошла Люсьен… Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями — чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой…
Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом — а тоже хорошо. Хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской — неизжитое, незабытое.
— Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа, — сказал Егор вполне серьезно. Такой, верно, ждалась ему желанная воля.
— Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу, — откликнулась Люсьен. — Ах как я ее успокою! И сама успокоюсь.
— Успокой, Люсьен. А то она плачет.
— Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: «Устала? Милая… милая… добрая… Устала».
— Смотри, не клюнула бы эта голубка, — встрял в этот деланный разговор Губошлеп. — А то клюнет.
— Нет, она не злая, — серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали. На них хотелось без конца смотреть, и молодые люди смотрели, с какой-то тревогой смотрели, жадно, как будто заколачивалась в гроб некая отвратительная часть и их жизни тоже — можно потом выйти на белый свет, а там — весна.
— Она устала в клетке, — сказала Люсьен нежно.
— Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник.
— По темечку ее… Прутиком, — сказал Губошлеп. — Она успокоится.
— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!
— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то… Плачет.
— Успокоим, Егорушка, успокоим. Я же волшебница, я все чары свои пущу в ход…
— Из голубей похлебка хорошая, — сказал ехидный Губошлеп. Весь он, худой как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.
— Нет, она плачет! — остервенело сказал Егор. — Плачет! Тесно ей там — плачет! — Он рванул рубаху… И стал против Губошлепа. Гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.
Губошлеп держал уже руку в кармане.
— Опять ты за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.
— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку… Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.
— Я слышал.
— Эх-х!.. — огорчилась Люсьен. — Скука… Опять покойники, кровь… Бр-р… Налей-ка мне шампанского, дружок.
Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все.
Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку… Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.
Первым вскочил с места Губошлеп. Он был стремительный человек. Но все же он был спокоен.
— Сгорели, — коротко и ужасно сказал Бульдог.
— По одному — кто куда, — скомандовал Губошлеп. — Веером. На две недели все умерли. Время!
Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал.
— Ни одной пары! — еще сказал Губошлеп. — Сбор у Иванова. Не раньше десяти дней.
Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.
— Ты что, Горе? — спросил Губошлеп.
— Я?.. — Егор помедлил в задумчивости. — Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством.
Люсьен и Губошлеп стояли над ним в недоумении.
— Каким сельским хозяйством?
— Уходить надо, чего ты сел?! — встряхнула его Люсьен.
Егор очнулся. Встал.
— Уходить? Опять уходить… Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек?.. А, вот он. Обязательно надо уходить? Может…
— Что ты! Через десять минут здесь будут. Наверно, выследили.
Люсьен пошла к выходу.
Егор двинулся было за ней, но Губошлеп мягко остановил его за плечо. И мягко сказал:
— Не надо. Погорим. Мы скоро все увидимся…
— А ты с ней пойдешь? — прямо спросил Егор.
— Нет, — твердо и, похоже, честно сказал Губошлеп. — Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.






