БИЧ-Рыба (сборник) Кузнечихин Сергей
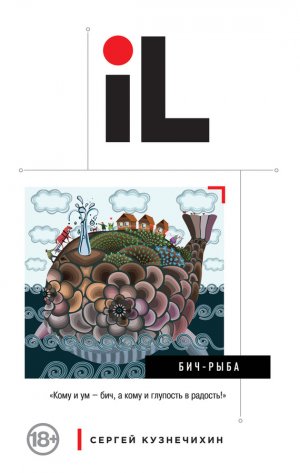
Воспользовался подсказкой.
Вышел под утро в наш общий огород и обобрал соседские яблоки. Но не сразу. Сначала я потоптался по своим грядкам, морковку подергал, три георгина сломал, а потом уже снял урожай с чужих яблонь. Бережно и тщательно. Неплохой урожай. И вместе с нашей морковкой отнес к поросенку в хлев. Сам принципиально не тронул, хотя тайнички у меня имелись, и очень надежные. Но не тот случай. Устроил хрюшке праздник и снова вернулся в огород, подошел к забору, раздвинул монтировкой пару штакетин, бросил яблоко возле лаза, а второе выкинул на тротуар. Оно, правда, в канаву скатилось, пришлось вылезать и подыскивать место, чтобы и видно было, и никто случайно ногой не поддел.
Единственное, что упустил, – забыл стереть отпечатки пальцев, но Александра Васильевна о них тоже не вспомнила.
А утром возле дыры в заборе встретилась она с моей маманей, поохали они, повздыхали, поругали поселковую шантрапу да и разошлись с миром.
Все обвинения с меня были сняты.
Для полной победы справедливости не мешало бы заставить Александру Васильевну извиниться передо мной, но сам я не догадался, маленький был еще, а подсказать эту наглую идею было некому.
Коза и капуста
Я уже рассказывал, как дед о чистоте молодежи пекся и батяня мой следом за ним вздумал нас оберегать. Все надеялся от дурной наследственности избавить. И получалось по его словам, что городских детей в магазинах покупают, а поселковых и деревенских – в капусте находят. Вроде складно. У Ваньки Голованова ни отца, ни огорода не было, потому, наверное, и поговаривали, что его в крапиве нашли. Только странное дело, Ваньку на улице Крапивником называли, а нас Капустниками никто не звал. Я возьми да и поинтересуйся у батьки – почему? Он глаза выпучил, затылок почесал, но так ничего и не придумал, а чтобы я лишнего не спрашивал, сунул мне в руки корзинку и отправил в лес крапиву щипать.
Крапивой кормили поросенка Борьку. В те годы многие держали свиней. Нам, пацанам, чуть ли не каждый день приходилось брать эту нежную травку. И ватагами ходили, и поодиночке – у кого какой характер. Но, кстати, о детишках – ни одного ребеночка в крапиве не нашли, а в какие только чащобы не забирались!
У меня до сих пор, только сала поем, сразу руки начинают чесаться, как от ожогов.
Борьки были каждый сезон новые, а коза Майка жила долго. Сначала мы держали корову. Февралькой звали. Но с сенокосом было тяжело. Косили по-партизански, на лесных полянах, подальше от глаз – земля-то вокруг колхозная. Частенько случалось, что засекут косарей, но не штрафуют, даже выговора не сделают, а потом, когда сухое сено уже в копешки сметано, – приезжают и увозят. И никому не пожалуешься. Устал батя от таких приключений, корову продали и завели козу – на нее все-таки легче наворовать.
И вот как-то в конце каникул подзывает меня батя и говорит: «Слушай, Ленчик, коза у нас разболелась, отведи-ка ты ее в деревню к дяде Грише, а он там с ветеринаром договорится».
Сам батя отвести не мог, с радикулитом маялся, а мне все равно делать нечего, и, главное, идти надо было в Новоселье, в деревню, где самые лучшие яблоки. Три километра – дорога не длинная, но одному топать все-таки скучновато, и я заманил с собой Крапивника, вдвоем и за яблоками лазить сподручнее.
За лечение Майки батя велел передать двадцать пять рублей: старыми, разумеется, но это все равно больше, чем теперешние два пятьдесят. Идем мы с Ванькой и мечтаем: вот найти бы нам такую бумажку, сразу бы купили по пистолету-пугачу, гору пистонов, а на остальные обязательно – халвы.
Мечтаем, фантазируем, и вдруг Майка наша как сиганет в сторону, да как припустится, да не куда-нибудь, а прямиком на конюшню Феди-бобыля. Вроде и больная, а носится как сумасшедшая, хорошо еще не в лес чесанула, попробуй там излови. Подбегаем к конюшне, а из ворот навстречу нам – Федя. Я же говорил, что он со своими лошадьми не расставался. Встал поперек пути, посмеивается: куда, мол, пострелята, намылились? А мы: как куда? Коза убежала. Нам не до смеха. А он знай похохатывает. Ничего, мол, страшного, успокоится, потом сама выйдет. Ну, если дядя Федя говорит, значит, так оно и есть, он любую животину, как себя, понимает. Я присел у тополя, жую травиночку, жду. А Ваньке будто муравей под рубаху заполз – ерзает, не сидится ему. Шепнул, чтобы я без него не уходил, а сам побежал за конюшню. Зачем – не сказал. А возвратился с такой ехидной мордочкой. И снова на месте усидеть не может. К Феде-бобылю пристает – не пора ли на Майку посмотреть, может, успокоилась уже? Конюх сердится, пугает, что бельма на глазах вырастут, и от ворот не отходит.
Смотрю на них, чую, что оба хитрят, а спросить не решаюсь, боюсь, что Крапивник потом засмеет.
Однако дядя Федя не обманул. Майка вышла и спокойная, и послушная. И мне как-то спокойнее стало. Один Ванька дергается. Торопит меня. Только смотрю, что Майку он не в сторону деревни погоняет, а к магазину. Я снова ничего понять не могу. Тогда он возьми да и спроси: знаю ли я, чем коза заболела. А мне откуда знать. Заболела чем-нибудь, если к ветеринару отправили и двадцать пять рублей дали. А он: «Да не надо ей уже никакого ветеринара, ее Гоша вылечил».
А Гошей звали здоровущего черного козла, которого Федя-бобыль держал на конюшне, чтобы тот своим духом ласок и хорьков отпугивал. Они ведь не только мышей ловят и кур таскают, они лошадь до смерти могут защекотать. Смелые, ничего не боятся, кроме козлиного запаха. Говорили, что Гоша этот раньше в цирке работал. Но однажды не в духе был и наподдал под зад жене начальника милиции. Та его по брюху погладить хотела. А ему не понравилось. Начальнику милиции тоже не понравилось, что его законную супругу какой-то цирковой козел боднул. Казус-то при свидетелях получился. И пришлось Гошу увольнять, потому что милиционер грозился дело на дрессировщика завести. Тут Федя-бобыль и подвернулся, купил его за бутылку «сучка». На конюшне Гоша подобрел и никого не трогал, но кое-что от цирковой жизни в нем осталось. Сунет ему «беломорину» кто-нибудь из мужиков. А он – чмок, чмок – как заправский курильщик, дым кольцами пускает. Если водкой угощали, еще смешнее исполнял – лизнет из чашки и сразу же: ме-е-е – закусить просит.
К нему-то наша Майка и чесанула. Ванька для того и убегал, чтобы подсмотреть. Тут он и растолковал мне про капусту и крапиву, и даже про аборты.
Получилось так, что двадцать пять рублей, предназначенные для ветеринара, мы сэкономили. Оттого и спешил Ванька к магазину. Да я и сам давно уже облизывался, глядя на пугач с пистонами.
Ох, и настрелялись же мы в тот день. Зашли в лесок, привязали Майку на полянке с густой травой, а сами устроили игру в пограничников. Палили, не жалея пистонов, даже по две штуки заряжали, чтобы выстрелы гремели как настоящие.
Хватило нам и на халву.
Возвратились домой поздно вечером. Батя спросил, почему так долго ходили. Я сказал, что по дороге в деревню Майка убегала четыре раза, а ее, сумасшедшую, и вдвоем не сразу поймаешь. Дурачком прикинулся.
«А когда назад вели, не бесилась?» – лениво так спросил, якобы без особого интереса.
Спокойная, говорю, прямо шелковая.
Маленький был, а хитрый, как по нотам разыграл. Батя после таких подробностей словно забыл про Майкину болезнь. А мне только этого и надо. Через неделю я уже и пугач свой прятать перестал.
Потом, уже в сентябре, когда уроки начались, заглянул к нам дядя Гриша. И зашел, видно, разговор о Майке, тут-то все и прояснилось.
Батя подзывает меня, берет за ухо и спрашивает: «Значит, убегала, говоришь, целых четыре раза?»
Пришлось выкладывать все начистоту и по порядку.
Я хнычу, батя хмурится, а дядя Гриша хватается руками за живот и от хохота чуть не плачет. Все бы ничего, да велся этот допрос во дворе, у нас там столик стоял, за ним они как раз и выпивали. А через забор от нас, я уже говорил про свое невезенье, жила учительница, Александра Васильевна. Она в это время белье вешала. Дядя Гриша возьми да и похвали меня: вот, мол, какой орел растет, даром что сопли под носом болтаются, а уже соображает, что к чему.
Александра Васильевна ничего не ответила.
Зато через два дня собралась в школе пионерская линейка, и при всем честном народе меня из звеньевых разжаловали в рядовые.
Поставили перед строем, подошла пионервожатая с опасной бритвой и отпорола с моего рукава накрепко пришитую маманей лычку. И ведь какую формулировочку подобрали – за издевательство над животными.
Сейчас я уже не помню – в четвертом классе я учился или в пятом, но до самого окончания школы я так в рядовых и проходил, ни на одну выборную должность меня после того судилища не выдвигали.
Охота на моржа
Кто-то из мудрецов, Пушкин вроде, а может и Шопенгауэр, точно не помню, сказал, что слава – это яркая заплата на грязной одежде. Им, конечно, виднее, хотя одежда, если очень грязная, она и без яркой заплаты в глаза бросается. Забавнее, когда наоборот. Ходил вроде нормальный аккуратненький человечек, а прилепили ему эту самую заплату, и понеслось… и одежда чистая вроде не к лицу, и портки через голову натягивает, и валенок вместо шляпы примеряет.
Медсестра в поселке жила. Приехала после училища. Два года уколы ставила, и никто внимания не обращал.
И вдруг по центральному радио идет объявление: «По заявке медицинского работника Веры Терликовой исполняется «Песенка Дженни».
Слышали такую песенку?
Так-то вот! Она знала, что заказывать. Попросила бы – «Марина, Марина, Марина, приди на свиданье ко мне» – не больно бы разбежались, таких просителей и в городе полно. А в «Песенке Дженни» только название простенькое, даже вроде игривое, на иностранный манер, зато слова – самые те: «Там, где кони по трупам шагают, где всю землю окрасила кровь – пусть тебе помогает, от пуль сберегает моя молодая любовь». И припев подходящий – «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его».
Как для медицинского работника такую песню не исполнить?
Не все, конечно, концерт слышали, в рабочий день случилось, но свидетелей хватило. Сам директор предприятия позвонил в амбулаторию и поздравил. Вечером в клуб пришла – сеанс на полчаса задержали. Володька-киномеханик вылез из будки и никак не мог пробиться к ней, чтобы расспросить, каким образом в передачу попала. Почтальонша потом рассказывала, что за неделю из поселка на радио восемьдесят четыре письма отправилось. И все, разумеется, с заявками. Да без толку. Там, видно, решили, что для нашего поселка достаточно Веры Терликовой. Ни одной песенки не спели. Хорошего понемногу. А водичка-то на Веркину мельницу – единственную уважили. Каждый вечер у общежития почетный караул под ее окнами. Здоровенные парни в амбулаторию толпой на уколы валят. Да припоздали чуток. Состав уже скорость набрал. Теперь уже догонять надо и на ходу прыгать, а для этого и смелость нужна, и ловкость. Нет бы раньше угадать, когда она два года подряд на танцах в углу скучала, а в будние дни готовилась поступать в институт и зубрила: уж, замуж, невтерпеж… А теперь новые правила и новые исключения. Разборчивая стала. За неполный месяц дюжину женихов перебрала.
И остановилась на инженере-конструкторе. Не сказать, что самого видного или самого ловкого выбрала, она дальше смотрела. Через год у жениха срок отработки заканчивался, и собирался он уезжать в родной город Златоуст, а может и в Лихославль, сейчас уже забыл, да какая разница – из нашего болота любая дыра с красивым названием столицей казалась. Конструктор поначалу сутулился от постоянного ожидания разговора с неудачниками. Дело понятное, могли встретить и проучить, а приезжего – сам бог велел. Но все обошлось мирно. Радио все-таки, неизвестно, какие там порядки. Короче, успокоились. У конструктора уже и спина стала распрямляться, и в кино на последний сеанс не боялся ходить. Да и поселковая шпана в те годы незлопамятной была.
Беда подкралась совсем с другой стороны.
В поселок приехали снимать кино для телевидения. Человек пять прикатило, но особенно бросались в глаза двое: оператор с тоненькими усиками и в красном берете, весь из себя приблатненный, и девица с огромной рыжей гривой, разгуливающая по улицам без платка. Не торопитесь с выводами – оператор на Верочку Терликову не позарился, а рыжая на конструктора и подавно.
Вы наверно думаете, что они приехали снимать какого-нибудь ударника семилетки?
Начальство тоже так думало.
А они направились к Лехе-пожарнику.
Мужик этот каждый день в проруби купался. Кто бы подумал, что за такую дурь в телевизор можно попасть? На поселке к нему давно привыкли, а для городских оказалось в диковинку.
Узнали.
Раскудахтались.
Прикатили.
Пока они в доме приезжих размещались, председательница поселкового совета прилетела, Никодимова Прасковья Игнатьевна. В те годы она еще сама бегала, а не к себе вызывала, молодая была, да и гости не совсем обычные. Прибежала и с порога: «Как так… почему пожарника, а не маяка производства?»
В маяках по добыче торфа Вовка Соловьев числился, он и сейчас, как я слышал, из президиумов не вылезает – железный мужик, ведь знает, что всему поселку известно, на чем держится его слава и сколько народу на эту славу горбатится, все знает и хоть бы раз покраснел. Но приезжие на Соловья не клюнули. Их такими баснями давно закормили, до оскомины наелись. Тогда Никодимова побежала к пожарнику, чтобы успеть подготовить к съемкам, научить, о чем говорить – проинструктировать, а заодно и посмотреть, есть ли у него в чем к незнакомым людям выйти, а то он и на работу, и в кино в одной и той же фуфайчонке, в пожарке выданной. Прасковья думала, что он пальто бережет, а у него такого излишества и вовсе не оказалось. Ему-то и начхать, а ответственному работнику опять суетись. Денег на покупку он, конечно, не дал. Тогда она побежала в магазин, выбрала дорогое пальто с каракулевым воротником, точно такое же, как у собственного мужа, а деньги велела высчитывать у пожарника из зарплаты в течение года. Потом ее личная портниха до утра подгоняла обнову к нестандартной фигуре неожиданного героя. Зато на съемку пожарник заявился, как заправский барин, в пальто, надетом на голое тело, и в заграничных плавках, которые люди с телевиденья привезли специально для него.
Съемку назначили на два часа. Срок сообщили только активистам под строгим секретом, но разве такое утаишь?
Никодимова пришла намного раньше операторов, чтобы порядок навести, и все равно опоздала. Народищу на водоеме собралось, аж лед потрескивал. И не только мы, пацанва любопытная, даже мужики из механических мастерских вывалили, прямо в спецовках, благо, что мастерские рядом. На этом Прасковья их и подловила: «Почему в рабочее время на улице прохлаждаетесь?»
Достала блокнотик и давай прогульщиков переписывать. А куда против блокнотика? Пацанов, конечно, этим не запугаешь, зато силу можно применить. Ванька рядом с прорубью место забил, чуть ли не с утра мерз, а она его за ушко и на солнышко, остальные сами потеснились, чтобы возле проруби достойные люди встали, ну и Никодимова со своим благоверным в их числе. Мужичонка у Прасковьи щупленький, на голову ниже ее, зато в белом кашне и при шляпе. Другие активисты тоже принарядились. Дело понятное – к фотографу идут, и то самое лучшее надевают, а здесь вся область любоваться будет, а может, и вся страна. Расфуфырились – ну и ладно, но толкаться-то зачем. Я место для знати освободить не успел, а мужик Никодимовой торопит, пихается, я поскользнулся и бултых в прорубь, не с головой, слава богу, но валенки едва не утопил. Так я же и виноватым оказался. Обидно, стою, носом шмыгаю. Мужики на Никодимова, за грудки хватают – почто, мол, ребенка обижаешь, его трясут, ну и мне пинкаря, чтобы под ногами не вертелся, не мешал справедливость восстанавливать. У Никодимова свои понятия о справедливости, ему дядя Вася Кирпичев, милиционер наш, срочно понадобился. А тот, недолго думая, за кобуру схватился. До стрельбы, к нашему пацанскому сожалению, дело не дошло, зато крику было на все лады. Ум за разум у народа заехал. Один только Леха-пожарник не волнуется. Стоит на краю проруби в плавках канареечного цвета, пузо волосатое почесывает и милиционера успокаивает: пусть, мол, всем же сфотографироваться охота.
Пока готовились, пока прицеливались, кинокамера застыла, или еще какая авария с ней приключилась, я в этой области не секу. Они, видать, тоже не самые великие специалисты, а если не к рукам, то и варежки снимать бесполезно. Бедного Леху раз пять в прорубь гоняли. Другой бы и с первого раза околел, а нашему пожарнику хоть бы хны. Здоровенный мужик был. Двухпудовкой, как детским мячиком, играл. Ручищи что бревна.
Глянула Верка на новую знаменитость и поняла, что поспешила с выбором. Конструктору сразу отставку – и все свое очарование нацелила на пожарника. Не посмотрела, что и староват он для жениха, и с женой больше десяти лет прожил. Жена, как в народе женском говорится, не стена… Да и кто она такая – обыкновенная бабенка, разве пара для человека, которого по телевизору собираются показывать? Кого из поселковых баб рядом с таким героем поставить можно? Некого, одна Верка Терликова достойна.
И загулял пожарник с медсестрой.
В то же самое время случилась в поселке кража. Была при бане забегаловка, и кто-то ее обчистил. Бандиты выдрали замок вместе со шкворнем и унесли три ящика водки. Кроме алкоголя, грешным делом, там и взять было нечего. Ночь для налета выбрали метельную, следов никаких не осталось. Дядя Вася Кирпичев покрутился возле бани в поисках вещественных доказательств, под прилавок в забегаловке залез, однако ни оторванных пуговиц, ни записных книжек, ни подозрительных окурков не нашел. Выпил три кружки пива, потолковал с мужиками – на том и успокоился.
Налет списали на заезжих бандитов.
А в народе поговаривали, что напроказничал не кто иной, как Леха-пожарник. Во-первых, замок с мясом выдрать силенка нужна. Во-вторых, никаких подозрительных незнакомцев в те дни никто не видел. А в-третьих, баня стояла рядом с пожаркой, и тот водоем с прорубью, в которую Леха лазал, как раз между ними. Ну и самое главное – пришла одна тетка белье полоскать в солнечный денек, когда вода насквозь просвечивалась, глянула в прорубь, а на дне – бутылки закупоренные.
Спустить их туда нетрудно, каждый смог бы, а кто кроме Лехи достанет?
Уравнение с одним неизвестным.
Закалочка шла по всем правилам: сначала ледяная водичка, потом огненная. О таких опытах научную статью можно писать. Но поселковый фельдшер Филипп Григорьевич Недбайло писать не любил, у него другими заботами голова была забита. И дядя Вася Кирпичев с прохладцей к писанине относился, стеснялся своей орфографии. А разговорчик по поселку свободно гулял, и трудно было его не услышать. Но Прасковья сделала вид. И дядя Вася Кирпичев увернулся. Не думаю, что со страху. Скорее всего, пожалели. Леха на поселке вроде балованного ребенка был. Редко какая гулянка без него обходилась. Он и драку всегда разведет, и помирит. Он и силушкой потешит – вытащат мужики четыре двухпудовки, свяжут канатом, а Леха выйдет и все это хозяйство зубами поднимет – и в цирк ехать нет нужды.
Короче, народ поговаривал, а власти помалкивали.
Все ждали передачу по телевизору, каждый надеялся себя увидеть, пусть даже с самого что ни есть краешку.
А влюбленным было не до сплетен. Они и трезвые словно под хмельком. Живописная парочка организовалась. Он – квадратный, как канистра, и она – стройненькая, как рюмочка. Впечатляющий дуэт. Гуляют, милуются, но про передачу тоже не забывают, боятся, как бы не пропустить.
В то время на весь поселок три телевизора было: один, неработающий, у директора школы, второй у Никодимовой, а третий у Вовки Соловьева, на него все и надеялись.
Верка Терликова о свадьбе поговаривала. Да случилось происшествие. Возвращался пожарник с гулянки и уснул на дороге. Закаленному человеку все равно где спать, никакие простуды не страшны, и все бы ничего, если бы не мотоциклист. Какая уж нелегкая занесла его ночью на дорогу? Только прокатилась коляска по сонному лицу пожарника. Пока Леха в себя приходил, мотоциклиста и след простыл. Исчез, как не было. И передних зубов как не бывало. Представляете, такой гигантский организм – и вдруг без зубов. Он целого гусака за один присест уминал, а ему великий пост устроили.
На тридцать килограммов похудел!
Но Верка держалась мужественно. Да и нельзя ей по-другому. Сама же заказывала: «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его», – на том и прославилась. А слава – обязывает. Ну и любовь, конечно.
Медсестра готовила пожарнику питательные бульоны, а народец гадал, что за дьявол сидел на мотоцикле. На конструктора не грешили – не тот характер и на мотоцикле ездить не умеет. Перебрали мотоциклистов – может, у кого зуб на пожарника имелся – не нашли. У него вообще врагов не было. Все понимали, что виноват нелепый случай. Ни мести, ни умысла… Но кто-то все-таки наехал.
Пока гадали да рядили, не заметили, как Леха зубы вставил и улыбаться начал.
А если пострадавший оттаял, то и другим дрожать бессмысленно.
Обошлось, и слава богу.
Вот тут-то мотоциклист и проболтался. Сказал по пьяной лавочке одному. Один – другому. Услышал пятый. А десятый уже и пожарнику шепнул.
И этот божий человек, который за всю жизнь пальцем никого не тронул, взял ружьецо, заявился к мотоциклисту и саданул в него глухариным зарядом из шестнадцатого калибра, а потом с повинной к дяде Васе Кирпичеву.
Мотоциклист выжил, половина заряда в мебель ушла, однако моржа нашего отправили поближе к Ледовитому океану.
Передачу про него так и не показали. Никодимова специально ездила узнавать, и ей сказали, что передача запрещена и пленка уничтожена.
А Верочка Терликова осталась в гордом одиночестве. Привезла из города пластинку с песенкой Дженни и крутила целыми вечерами. Ни на танцы, ни в кино, только на работу, и то в черном платке, а потом и черное платье купила. Конструктор, от греха подальше, сбежал в свой Лихославль или Златоуст. Другие парни тоже не отваживались. Понять их, в общем-то, нетрудно. Срок у пожарника хоть и приличный, но не бесконечный. Только пацаны бегали под окна слушать: «Там, где кони по трупам шагают, где всю землю окрасила кровь…» – военная песенка.
До хрипоты пластинку загнала. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не жена Лехи-пожарника. Пока Верочка на работе была, забралась через окно к ней в комнату и растоптала пластинку на мелкие кусочки, а патефон, между прочим, не тронула – женщины, даже потерявши голову, сохраняют уважение к дорогим вещам. Да и не виноват патефон, во всем виновата песня, песня и поплатилась.
После этого Верочка за неделю собралась, уехала и адреса никому не оставила.
Плакучие ивы
Песня у Высоцкого была, где здоровенные жлобы порубили все дубы на гробы, там еще леший поблизости промышлял и вопил своей лешачихе: «А коры по скольку кил приносил?» Я как раз и хочу спросить: что это за кора и для какой надобности лешачок таскал ее, надрывался издаля?
Для еды, говорите?
Нет, что вы, кое-какого пропитания и без коры хватало: рябчиков, зайчатинки, рыжичков, боровичков – да мало ли в лесу деликатесов?! Правда, козы осиновую кору любят. Но я не знаю, держал ли леший козу, а если и держал, то зачем ей кору из лесу таскать, проще саму в лес выпустить, и грызла бы свеженькую, на выбор.
Речь совсем о другом.
Были времена, когда за ивовую кору платили деньги, а если точнее – копейки, но в конце пятидесятых и копейкам счет вели. Взрослые мужики этим промыслом почти не занимались, разве что в случаях, когда нищета не просто за горло брала, но и пальцы сжимать начинала. Зато у подрастающих, да ранних, имелась хорошая возможность заработать первые деньги.
Работенка была не пыльная, если понимать в самом прямом смысле, – откуда в лесу пыли взяться. Но это единственный плюс, после которого тянется длиннющий ряд минусов. Ива – дерево болотное, а на болоте главный хозяин – комар, насекомое коллективное, дружное, между собою они не грызутся, всю злость для людей берегут. Кора с ивы сдирается легко, проще, чем с березы или осины, но ведь и картошку нетрудно почистить, если уху с товарищем варить собрался, а если для пюре на полковой кухне? – то-то и оно. Ободрал ствол, за второй принимаешься, а после сорок второго – сорок третий стоит. Он стоит, а тебе шевелиться надо. Потом – все, что надрал, через кусты, по кочкарнику на дорогу вытащить, потом – до дома довезти. Серьезные пацаны искали себе участки поближе к узкоколейке. И сушить старались в лесу, чтобы легче вытаскивать было. Утром на мотовозе с рабочими – туда, вечером – обратно. Полноценный взрослый рабочий день. Без перекуров, потому что пока еще некурящие были. Поработает старательный парнишка пару недель на одном месте, и остается после него внушительная делянка ободранных деревьев. Голенькие стоят. Белым-бело. Только на кончиках веток зелененькие листочки трепещут. Кажется, что ежатся от холода. Потом стволы сереют и не так бросаются в глаза, а поначалу – жутковатая картинка. Плакучими ивы совсем по другой причине назвали, но когда натыкаешься на такую делянку и перед тобой возникает скопище, напоминающее толпу скелетов с растопыренными руками… Помните, в школе учили: «Плакала Саша, как лес вырубали…»? Так и там. Только не вырубленный, а еще на корню, вроде как живой, но изуродованный. Правда, когда рожа пылает от комариных укусов, разъеденных солью пота, даже в голову не приходит, что с живых деревьев кожу сдираешь. Все эти жалостливые мыслишки появляются почему-то на чужой делянке. В нее и заходить-то страшновато, кажется, обступят тебя эти скелеты, сплетутся ветвями в хоровод и не выпустят…
Чтобы заработать на часы, приходилось упираться около месяца. А если захочется велосипед, то в одиночку не управиться, вот если на пару с братом, да еще и папаня перед баней в выходные подключится, тогда и велосипед можно осилить.
Мы с Ванькой о часах еще не мечтали, маленькие были. Ему хотелось лобзик, чтобы красивые полочки выпиливать на продажу, а я спал и видел спиннинговую катушку. Таких предметов роскоши в поселковом магазине, разумеется, не водилось, но их можно было выписать через посылторг.
Недели на две нас хватило. Откуда силенке взяться в двенадцать лет, а упорством я и сейчас похвастаться не могу. На большое болото мы, конечно, не ездили, сшибали вокруг поселка, но все равно полтора-два километра в один конец приходилось отмеривать. В первый день надрали по здоровенной вязанке. Пока на опушку выбирались, выдохлись до самого донышка. Скреби, не скреби – бесполезно, сил нет. А до поселка еще топать и топать. И оставлять страшно – мало ли кого в лес понесет, поселок-то рядом. Да не совсем. Рядом для того, кто с бидончиком за малиной направился, а с корьем на горбу – не очень. Судили-рядили, спорили-вздорили, и все-таки жадность победила. Ванька остался караулить, я побежал за отцом. Хотелось, конечно, щегольнуть самостоятельностью, но Ванька разнылся, а у меня не хватило характера. Батя упорство оценил, но посоветовал оставлять корье в лесу на просушку. На другой день взяли с собой топорик, нарубили тех же ивовых жердей, оказалось, что срубленные и обдирать легче. Устроили вешала и все, что надрали за день, оставили сохнуть.
Ночью, правда, дождик прошелся, и все равно – подвялилось. Рискнули еще на ночь оставить. Прихватили по тощенькому пучку для конспирации, чтобы враги видели, что мы выносим корье из лесу. Хитрющие ребятишки росли.
Пока драли, кое-чему научились. Корье с тонких веток сохнет быстро, но слишком усыхает. А если с толстого дерева, да еще и с комля и до самых корней – тогда намного увесистей. Это Ванька у больших пацанов подглядел, какое выгоднее драть, только для выгодного – ручонки покрепче наших требовались. Но мы старались. И комаров покормили. Устроили им праздник. Детская-то кровушка, наверное, поприятнее будет, не прокуренная и злостью не пропитанная.
Надрали.
Перетаскали домой.
Оставалось сдать.
Принимал корье Аркаха Киселев. Жил он на станции, но не в путейских домах, а в деревне. Работал заготовителем. Ездил по всему околотку, скупал шкуры, сухие грибы, может, кто-то и ягоды сдавал, но наши, поселковые, возили клюкву в город – выгоднее, да и не любили его. Вроде бы и обходительный мужичок, голосок медленный, сладенький, всем улыбается, со всеми здоровается, а народу его приветливость почему-то в тягость. Все, разумеется, знали, что Аркаха если не обвешает, так обязательно сортность занизит или обсчитает, но сторонились не только из-за этого, что-то другое отталкивало, не запах изо рта, скорее – душонка его дурно пахла, и люди это чувствовали. А что касается умения объегорить, тут ничего не скажешь, работа такая, но в ней он был виртуоз, ни совести, ни жалости не ведал. Кроличьи шкурки, например, требовал только с головой. А голову обдирать сплошная мука, обязательно где-нибудь дрогнет рука. Прорежешь. А он только этого и ждет, сразу в третий сорт списывает. Взрослых вокруг пальца обводит, а с пацанами вообще не церемонится. У кротовых шкурок вроде и придраться не к чему, так принесешь тридцать, а он двадцать пять насчитает. Вроде все на глазах, а начнет перетасовывать, и пяток куда-то испарился. Ручки быстрые, глазки скользкие. А на корье для него вообще раздолье – гуляет, как Стенька Разин по Волге: то непросушку найдет, то грязь прилипшую, то замшелость слишком густую. И весы у него, конечно, дрессированные – сколько пожелает, столько и покажут.
Но это других пацанов облапошить легко, а мы-то с Ванькой хитрые. Идем возле огородов, видим, дядя Леша-пожарник грядки полет. У него в ту пору как раз любовь с медсестрой кипела и пенилась. Видно, решил перед законной женой оправдаться, горе ее облегчить. Но у него же руки, как бревна, и пальцы, как поленья. Для дерганья травинок такие конечности явно не приспособлены. И нагибаться, с его животом, удовольствие ниже среднего. Кряхтит старательно, а сорняки почти не убывают. Оно и понятно: кнута в оглобли не заложишь. Ванька толкает меня в бок и говорит: давай, мол, поможем ему по-тимуровски, а потом попросим, чтобы сходил с нами корье сдать.
С огородом меньше чем за час расквитались. Видели бы наши маманьки такую прыть, то-то бы удивились. А потом сделали бы соответствующие выводы. Но обошлось без лишних свидетелей.
Тачка с корьем была увязана еще вечером. Мы дружненько впряглись и потащили, самостоятельные огольцы. От дяди Леши требовалось только проводить нас до склада и постоять рядышком, пока Аркаха взвешивает. Но добрый мужик посмотрел, как мы упираемся, засмеялся и велел нам ложиться на корье, чтобы потом скопом на весы закинуть – все лишние килограммы, хоть и весу в двух тимуровцах не больше пуда. Но это он, конечно, недооценил, так не в обиду же. С шуточками да с таким помощником не заметили, как добрались. На чужом горбу дорога всегда короче.
Аркаха посмотрел на нас, посмотрел на пожарника. Заулыбался – шире некуда. Но дядя Леша не хуже других знал, почем эта вежливость. Он даже принаглел слегка, форса ради. Вроде как по рассеянности руку на корье положил, пока приемщик гирьки на весы добавлял. Аркаха все видел, мимо него и мышь не проскочит, однако промолчал. Несподручно волку грызть медвежью холку.
Короче, сдали. Денег получили и на лобзик, и на спиннинговую катушку, и даже на пряники осталось. Идем хохочем. Ванька на радости признался, что в каждый пучок по железному костылю подложил. Не знаю, правда железяками нашпиговал или хвастался, как обычно. На такую мину и самому недолго нарваться. Аркаха частенько заставлял развязывать пучки, и если находил что-то лишнее, сразу становился серьезным и заявлял: «Ну что, милицию будем вызывать или сами разберемся?» А какой нормальный пацан захочет связываться с милицией? И приемщик с прежней улыбочкой бросал оштрафованное корье мимо весов на свою кучу. Ванька чувствует, что я не очень-то верю его трескотне, и начинает упираться, рассказывать, как все предусмотрел, Аркаха, дескать, шерстит корье только у взрослых ребят, а маленьких просто обвешивает, потому что не догадывается, что и маленькие трутни горазды на плутни. Дядя Леша хвалит его, хитрована. Ванька героем себя чувствует, а герою – награда полагается. Сворачивает к магазину пряников купить. Рядом с магазином чайная. Туда пиво привезли. Мужики на крылечке курят. Пожарника увидели, к себе зовут, по кружечке пропустить. А у того денег с собой не было. Он к нам: «Выручай, мелюзга, с получки верну». У Ваньки карман глубокий, руку засунул, а вытащить не может. Понятное дело – очень хочется лобзиком поработать. Мне катушка тоже позарез нужна, чтобы щуку с руку выловить, но пока посылторг раскачается, реки замерзнут, в ноябре пришлют или в марте – разницы никакой. Получка у пожарника через две недели. А деньги у меня в нагрудном кармане рубашки, там рука не застрянет при всем желании.
Но до получки Леха-пожарник не доработал. Случилась эта дикая история со стрельбой, и его посадили. Тут уже грех о катушке вспоминать.
Пожарника увезли на Север, а через два года утонул и Аркаха Киселев. Дом у него стоял на берегу пруда. Не ахти какие хоромы, при его-то деньгах. Поговаривали, что он давно в городе приценивается к жилью, да никак сторговаться не может. Или – не хочет. С хлебного места сорваться нелегко. Встречал я таких людей. Сначала на год откладывают, потом – на другой, потом и так далее… пока гром какой-нибудь не грянет. Пруд возле дома старый, барский еще. За долгие годы какого только хлама в нем не скопилось, и деревья, что на берегу росли, в него падали. С бреднем туда не сунешься, поэтому карасей было много. У Аркахи в собственном, можно сказать, пруду все лето стояла «морда». Пошел утром перед работой проверить. Потянул за проволоку, но «морда» зацепилась за корягу. Решил сплавать. Нырнул, а вынырнуть не смог.
Жена знала, что он на пруд собирался, но хватилась не сразу, думала, что, не заходя домой, на работу подался. Забеспокоилась только к вечеру. Место неглубокое было. Как он умудрился захлебнуться?
Когда его искали, заодно и «морду» вытащили. Карасей – больше ведра, и все как на подбор.
От дурной славы и в могиле не укроешься. Сразу же появились шуточки. Одни говорили, что нырнул Аркаха, увидел богатый улов и захлебнулся от жадности, а другие уверяли, что «морда» пустая была, и захлебнулся мужик от расстройства, а караси уже потом со всего пруда на падаль собрались.
Кстати, над самой водой росли настоящие плакучие ивы, но плакали они, конечно, не по Аркахе Киселеву.
Жена его с детьми еще до зимы в город перебралась. Хороший дом купила. Вот только сын в темную историю вляпался, посадили за изнасилование. Статья, конечно, скользкая, но кому-то там, наверху, было угодно, чтобы поскользнулся на ней именно сын заготовителя Аркахи Киселева.
Уже в Сибири рассказал эту историю ребятам с работы, и двое мужиков стали уверять, что в их деревнях жили точно такие же заготовители, и оба плохо кончили, и, что характерно, у детей жизнь наперекосяк пошла. После этого что хочешь, то и думай…
Пионерские игрушки
Ни разу не довелось полюбоваться салютом. Чего только не видел в этой жизни, даже маленькое извержение вулкана, а салюта – увы. Слишком редко заносила меня кривая в города-герои. Помню, как-то с одним бурятом пили пиво в славном городе Певеке. Дело было как раз перед октябрьскими праздниками, пятого ноября. Кстати, пиво в Певеке замечательное, и ленинградскому, и московскому до него тянуться – не дотянешься. Хорошее пиво, с хорошей рыбкой да еще с хорошим собеседником – чем не праздник. А друг мой – веселый был человек. Его, между прочим, Ботюром Бадмаевичем звали. Но жил среди русских и разрешал называть себя Бурят Иванович. Сидим, значит, пьем пиво… и Бурят Иванович рассказывает, как он у себя в Забайкалье за границу браконьерить ходил. Правда, курица – не птица, Монголия – не заграница, но орлы в зеленых фуражках свободно разгуливать все равно не разрешают. Зато какие в Монголии таймени, и козы там жирнее наших, и сохатый здоровее – есть ради чего рисковать. Ну и вырвалось у него сожаление, что сорок раз бывал за кордоном и ни разу – в столице. Стало быть, тоже салюта не видел. Выпили мы еще по пять кружек и купили билеты в Москву. Фейерверком полюбоваться и самим покрасоваться. Долетели до Магадана и застряли. Северная погода и нелетная погода – это почти одно и то же. Пришлось любоваться родимой пургой. За три часа до салюта немного прояснилось, объявили посадку, да лететь смысла не было – не успевали. А в Магадане салют не делают, а стоило бы, тоже ведь город-герой, в некотором роде.
Подвела погода. А счастье было так близко.
Нет, серьезно. Самая давняя мечта. У меня с детства пристрастие к взрывам и прочей пиротехнике. Может, потому, что зачат был в победные дни?
Первый взрыв услышал я в шесть лет. Тогда еще бомбы и снаряды по кустам вдоль железной дороги попадались, не сказать, что как грибы, но в достаточном количестве. Говорили, будто начальник узловой станции немецким шпионом был, три эшелона с боеприпасами под бомбежку подставил. Воронки до сих пор еще не заросли. Пацанами по литровой банке артиллерийского пороху накапывали. Порох этот на макароны похож, вернее, на толстую вермишель. Наставишь такой вермишели на рельсы, и она под колесами, как петарды, взрывается. Лежишь под насыпью и чувствуешь себя настоящим партизаном. Но это чуть попозже было, не в шесть лет. А в тот раз увязался я за старшими пацанами на рыбалку. У Толика Суханова мать путевой обходчицей работала, и жили они в казарме на восемьдесят шестом километре. Зашли к Толику, взяли пару беркунов и отправились на пруд. Из меня в ту пору рыбачишко неважный был, ну да не об этом речь. Поймали десятка три карасишек и решили там же в лесу поджарить. Пока ребята костер разводили, меня послали в казарму за сковородкой. Мать Толика поворчала немного – почему домой с карасями не пришли, велела обязательно залить головешки водой, еще что-то наказывала, но я торопился. Бегу по тропинке вдоль полотна, дымок уже над деревьями увидел… и вдруг как хрястнет… Глаза от страху сами закрылись. А когда открылись, смотрю – елка на меня падает. Развернулся и ходу на пятой скорости до самого дома со сковородкой в руке. Около трех километров. Если бы кто секундомер включил – наверняка бы засек мировой рекорд для детей дошкольного возраста. Оказалось, что пацаны бомбу в костер положили, а сами за бугорок спрятались. И не просто положили, а так, чтобы взрывная волна уходила не в их сторону. Саперы, да и только. А старшему из них одиннадцать лет было.
Себя в одиннадцать лет я тоже крупным специалистом считал. Освоил стрельбу из сучка, из ключа, из двух болтов на одной гайке и собственный поджиг имел. Правда, лучший свой пистолет я смастерил в восьмом классе. Хороший поджиг за день не делается. Можно, конечно, сплющить конец у медной трубки, прикрутить ее проволокой к сучку и палить в небо, отворачивая голову на сто градусов. Но ради такого первобытного оружия и разговор заводить не стоит. Я о поджигах, которые представляют историческую ценность. Сначала подбирается ствол. Медную трубку с тонкими стенками найти не трудно, у любого трактора можно отпилить – это для шпаны.
Настоящий мастер постарается раздобыть стальную или, на худой конец, бронзовую, толстостенную. Кстати, лучшую стальную трубку я выдрал из спинки старинной кровати. Но прочность – это еще не все, о калибре тоже нельзя забывать. Чем меньше отверстие, тем быстрее зарядишь. Пятнадцать-двадцать спичек – самая норма. Иной чудак смастерит себе гаубицу, в которую искроши коробок, и все мало. Конечно, если хочется грохоту, тогда другой коленкор, тогда и голову ломать не стоит, – стащил у батьки ружейный патрон, бросил в костер и слушай… А у моего знаменитого «маузера» ствол был двойной: в короткую медную трубку была впрессована длинная стальная, чтобы никаким зарядом не раздуло, получилось и надежно, и красиво. Личное оружие должно быть таким, чтобы его и в руки было приятно взять, и друзьям показать не стыдно. Рукоятку из хорошей березовой доски выпилил, резьбой украсил, потом в костре немного обжег и суконкой отполировал, после этого она стала черная с благородным блеском. Ну а палил безотказно и мощно, с десяти шагов половую доску – навылет.
Делал я и многозарядные поджиги, и курковые самопалы… об этом долго можно рассказывать, но вернемся к салюту.
Попалась мне книга про хана Батыя. И вычитал я в ней, что на речке нашей, на Сити, произошла великая сеча, и зарубили татары князя Владимира, упал на берег, а его золотой шлем покатился в воду. Поехали мы с Ванькой на Сить и отыскали тот самый омут, в котором утонул княжеский шлем. Не первый попавшийся омут, книгу до черноты замусолили, пока сверяли, но все-таки определили. Разделись, обшарили под берегом, обныряли середину, вытащили кирзовый сапог – шлем не нашли. Но мы же не дураки, сообразили, что его илом могло затянуть – времени-то вон сколько прошло. Думали, гадали и догадались найти бомбу, бросить ее на дно и бабахнуть так, чтобы взрывная волна выбросила шлем на берег.
А почему вы не спрашиваете, зачем нам столько золота?
Цели были самые благородные. Хотели пробраться в Алжир и устроить там революцию. Шлем собирались расплавить, расфасовать на мелкие слитки и пустить их для подкупа турецких пограничников и покупки оружия. Обратите внимание: не распилить, а переплавить, – чтобы без потерь. Умные были, как утки…
Искали бомбу – нашли снаряд, но это не самое страшное – главное, надо было придумать, как взорвать его под водой. О том, что в природе имеется бикфордов шнур, мы уже знали, но где его украсть? Если бы жили на руднике, и чей-нибудь батька работал проходчиком… тогда бы угнетенные алжирцы самое позднее к Первомаю получили бы долгожданную свободу. Но у нас на болоте взрывать нечего. Торф на поверхности, без всякого динамита бери – не хочу. Мы даже сами пытались этот шнур изобрести. Натирали веревку керосином, поджигали и опускали в воду – бесполезно. Гасла. Пока изобретали, зима наступила. А тут еще сомнения возникли: откуда бы писателю знать, в какой из омутов скатился золотой шлем, если сам он в сече не участвовал. Задали вопрос учителю, и тот рассказал нам про авторское воображение и художественный вымысел. Ничего себе, думаем, кто-то воображает, а бедные алжирцы должны страдать. Рухнула красивая мечта.
Но снаряд остался в надежном тайнике.
А каждую весну вся школа собиралась на пионерский костер. Заранее готовили валежник, складывали пирамидой, чтобы подсох, потом в торжественной обстановке, под наблюдением учителей и пожарника, под звуки горна и барабанную дробь поджигали и устраивали ритуальные игры. Для пущего эффекта пацаны заранее подбрасывали в костер куски шифера, и получалось нечто похожее на выстрелы, не сказать что хлесткие, но иногда с искрами, а в общем-то хорошие дрова в печке почти так же трещат. Детская забава. Даже девочки не пугаются. Каждый год одно и то же. Скучновато.
И вспомнили мы с Ванькой про наш снаряд. Чего, думаем, добру пропадать. А тут, глядишь, и оживим праздник, скрасим однообразие. Нет, мы, конечно, понимали, что осколки снаряда могут не только напугать, но и ранить могут, – сами в кино видели, и не один раз, не совсем дураки. Даже наоборот, пока эту шутку придумывали, такими умниками себя считали, куда там отличникам и прочим паинькам. Мы все учли. Снаряд разлетается на осколки не сразу, а после попадания в твердый предмет. Значит, надо сделать так, чтобы он упал далеко от костра. А что для этого требуется? Для этого требуется дать ему нужное направление. У кого-то для этого ума бы не хватило, а мы сообразили. Нашли кусок широкой трубы. Вбили его по центру костра в землю, так, чтобы на поверхности сантиметров семьдесят осталось. Потом опустили в эту трубу наш снаряд, обложили промасленными тряпками и замаскировали сухим лапником. Когда костер запылает, снаряд раскалится… бабахнет и полетит, как из «катюши», над головами перепуганной толпы. Вот визгу-то будет! Вот уж где выяснится, кто по-настоящему смелый, а кто – на словах! Очень уж нам хотелось, чтобы физрук перепугался, имелись к нему кое-какие претензии. Вот уж посмеемся.
Ловко придумали. Так ловко, что Ванька не удержался и похвастался Таньке Лагутиной. Не вытерпел, полоскало несчастное. Потом оправдывался, что «честное пионерское» с Таньки потребовал, чтобы она учителям не разболтала. Танька слово дала, но в безопасности нашей авантюры засомневалась. И, чтобы не нарушать клятву, рассказала не учительнице и даже не пионервожатой, а своей старшей сестре. А та – моему среднему брату. И брат, на глазах изумленной толпы, вытащил снаряд из костра. Именно в тот момент, когда к костру горящий факел подносили.
Вовремя успел.
Героем сделался.
Но за чей счет? Как бы он проявил свое геройство, если бы я не изобрел свою «катюшу»? А мне вместо благодарности – подзатыльник, от которого синяк под глазом нарисовался. Ну где, спрашивается, справедливость?
Американец
Китайцы в нашем «Шанхае» не жили, они даже в гости туда не приезжали. Зато жил американец. Может быть и ненастоящий, даже наверняка ненастоящий. Но мы, пацаны, были уверены, что он самый что ни на есть американец. Во-первых, ходил в кожаных галифе; у всех тряпичные, а у него – кожаные. Во-вторых, курил трубку; мужики – кто «Северок», кто – «Прибойчик», ну «Казбек» для форсу, а он – трубку. И звали-то его Фирсом, откуда нам было знать, что это старинное русское имя. Да и говорил он так, что половину слов не разобрать, – это уже в-четвертых. А в-пятых, злой был и жадный. Короче, имел в поселковом «Шанхае» собственный дом и считался американцем, обиднее репутацию по тем временам придумать трудно.






