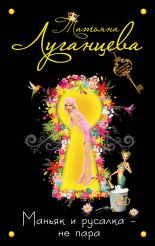Юсуповы, или Роковая дама империи Арсеньева Елена

Мне давно хотелось написать о своей жизни, которую я прожила с мыслью, что это из-за меня погибла Россия… Из-за меня, княжны императорской крови, племянницы последнего русского государя. И он, мой дорогой дядя Никки, такой добрый и ласковый, погиб – из-за меня, и мои подруги-кузины, которых я так любила, и Царское Село, и Гатчина, и Петербург, и Ай-Тодор в Крыму, и все-все-все… ВСЯ Россия!
Из-за меня, по сути дела!
Моего мужа часто спрашивали, не ужасается ли он того, что совершил. Ведь Г.Р. – я не могу называть его по имени, я ненавижу это имя и боюсь его! – предрекал, что, если его убьет кто-то из дома Романовых, императорская фамилия перестанет существовать. А в этой истории был замешан и Дмитрий! Великий князь Дмитрий Павлович, кузен государя…
Мой муж, правда, так отвечал на упреки: можно лишь пожалеть, что они с Дмитрием не сделали то, что сделали, раньше, когда еще была возможность исправить непоправимое и образумить неразумных. Возможно, тогда Россия не погибла бы.
Меня он, само собой, никогда не упоминал. Ну да, я находилась в это время в Крыму с родителями мужа. И все-таки Г.Р. пришел в наш дом на Мойке, чтобы встретиться со мной!
Я прочла в одной парижской публикации, что его якобы заманили туда возможностью встречи с Верой Каралли, этой балериной, актрисой немого кино и тогдашней любовницей Дмитрия. Но эта версия тоже не более чем попытка скрыть мое участие. Каралли там не было. Все ее позднейшие россказни об этой истории, о том, как она писала письмо Г.Р. в перчатках (зачем, Господи Боже, если она писала его от своего имени?!), – совместные выдумки ее и досужих folliculaires, газетных писак. После того как Дмитрий ее бросил, после того как завершилась ее карьера в кино, она, смертельно скучая в благопристойной Вене, уныло старея, избрала для себя это трагедийное историческое амплуа. К сожалению, она стремилась к славе Герострата. Я была бы счастлива, если бы могла признать: да, это из-за нее, а не из-за меня погибла Россия. Но здесь лишь моя вина, и этими записками я попытаюсь объясниться – нет, не оправдаться, ибо верю, что поступила так по воле Божией, без которой, как известно, и волос с головы не упадет, – а просто рассказать, как это было на самом деле. И оправдываться мне не в чем и не за что.
Желание сделать это появилось у меня, когда мой муж Феликс работал над своими знаменитыми мемуарами и мне на глаза беспрестанно попадались его разбросанные там и сям заметки, в которые просто невозможно было не заглянуть. Я, конечно, заглядывала – и частенько не могла сдержать ехидной усмешки.
Феликса, впрочем, это нимало не задевало.
– Знаю-знаю, – говорил он, высокомерно поднимая брови, – ты бы все это описала иначе! Гораздо лучше! Еще бы! Где уж нам уж… Вот вы, сударыня… – И шутовски раскланивался.
Потом, когда вторая часть мемуаров вышла, я обнаружила в самом конце такие строки: «Я и не сомневался, что далеко не все русские в нашей эмигрантской среде будут возмущены публикацией первой части «Воспоминаний». Это, впрочем, не помешало мне написать вторую. А моя жена, пристально наблюдавшая за моей работой, уверяла, что напишет третью часть под названием «О чем умолчал муж». Конечно, сказал я жене, третья часть была бы гораздо лучше первых!»
Я прочитала это – и не смогла удержаться от смеха! Все вроде бы так, как было в нашем разговоре. И в то же время наизнанку вывернуто. Как всегда, впрочем. Как всегда было с Феликсом. Я в жизни своей не встречала более правдивого человека, который при этом был насквозь лжив. Откровенного – и скрытного. Искреннего – и лукавого. Эти сочетания противоречий можно было перечислять до бесконечности. Трусливый – и отважный. Сентиментальный – и жестокий. Страстный – и холодный. Щедрый на деньги и чувства – и при этом не любивший никого в жизни, кроме меня, нашей дочери и своей матушки, моей свекрови… И ее-то он любил больше всех!
Матушка, Зинаида Николаевна, его тоже обожала. Они отлично понимали друг друга, были очень близки и в большом, и в малом. Например, они вместе с детским восторгом упивались историями о роковом числе Юсуповых, о цифре 26. Помню, когда умирал Феликс, он с ужасом ждал этого дня. А когда пережил 26 сентября, уверовал, что будет жить еще долго. Но он умер 27-го… Самой смертью своей опроверг фамильную легенду Юсуповых. Эта семья, где в деньгах купались, где им не знали счету, семья, которая была богаче царской фамилии, с бережливостью скряги цеплялась за выдумку меньше чем столетней давности, созданную, как мне кажется, дедом Феликса, князем Николаем Борисовичем Юсуповым. Мой муж и моя свекровь лелеяли эту легенду. Преподносили обрамленной в ужасные подробности. И даже семейная трагедия – смерть старшего брата Феликса, Николая, смерть, подкосившая здоровье Зинаиды Николаевны, со временем стала еще одной жемчужиной в этом ожерелье правдивых выдумок, реалистических фантазий… подобно заветной «Перегрине-Пелегрине», наследственной жемчужине Юсуповых, которая, как взахлеб уверяли они, некогда принадлежала самой Клеопатре и была парной той, которую египетская царица растворила в уксусе и потом выпила эту смесь. Все это было якобы сделано ею для того, чтобы выиграть пари у Марка Антония.
О, это особая тема в наших семейных распрях! Не могу удержаться, чтобы не рассказать о ней.
Я читала у Плутарха, что царица египетская вообще обожала поддразнить своего любовника: «Александрийцам очень нравились всяческие забавы, и потому им по сердцу был Антоний, о котором они говаривали, что для римлян он надевает маску трагика, а для них – маску комического артиста. Было бы потерей времени подробно описывать простодушные забавы Антония, но одну историю можно привести как пример. Однажды Антоний отправился на рыбалку, но в тот день ему не везло, и он очень сердился, поскольку это происходило в присутствии Клеопатры. Поэтому Антоний приказал нескольким рыбакам нырять и тайно насаживать на его удилище уже пойманных ими рыб. После этого он дважды или трижды поднимал свою удочку, будто поймал рыбу, но Клеопатра разгадала обман. Притворившись, что она рада его успеху, царица рассказала обо всем своим друзьям и пригласила их прийти на рыбную ловлю на другой день. Большое число гостей назавтра сели в рыболовные лодки, и, как только Антоний начал удить рыбу, Клеопатра тайно велела одному из своих слуг нырнуть и насадить на крючок удочки Антония соленую черноморскую рыбу. Антоний, решив, что поймал рыбу, вытащил удочку, и вся компания расхохоталась. Тогда Клеопатра сказала ему: «Император, лучше оставь удочки нам, бедным правителям Фароса и Канопа. Твое дело – охотиться за городами и царствами».
Вот и еще одно противоречие, подумала я тогда. Оказывается, трагическая Клеопатра была ужасная язва! Все люди, куда ни посмотри, вокруг себя или в глубь веков, – сплошные противоречия. Я, кстати, тоже…
Ну так вот о том баснословном пари. Антоний славился своими пирами. И ужасно любил похваляться изысканными яствами, которые там подавали. Тогда Клеопатра поспорила, что он не сможет задать пир, который обошелся бы в десять миллионов сестерциев. На другой же день пир состоялся, но Клеопатра привередливо заметила, что он отличается от других пиров Антония только количеством еды. А вот она может задать пир, состоящий лишь из одного блюда, – но это блюдо будет стоить десять миллионов сестерциев. По ее знаку слуги внесли чашу, наполненную уксусом. Клеопатра вынула из уха жемчужную серьгу и бросила в чашу. Жемчуг в уксусе растворился, и царица выпила этот напиток. Она хотела проделать то же самое со второй серьгой, чтобы угостить и Антония баснословным напитком, но знатный римлянин Планк, бывший судьей в этом пари, удержал ее руку и объявил: Антоний проиграл.
Всю эту историю, восторженно повторяемую моей свекровью и Феликсом с легкой руки все того же grand-papa Юсупова, я всегда считала порядочной чушью. Просто потому, что я помнила горькую участь одной из горничных, служивших ma tantine, покойной государыне императрице Александре Федоровне.
Надо заметить, что в семье моего дяди Никки и его родственников, в том числе и в нашей, вообще было немного слуг: дядя всегда говорил, что чем меньше людей вокруг, тем лучше. В отличие, а propos, от семьи Юсуповых, количество слуг которых меня на первых порах после свадьбы просто пугало. Во всех их домах и имениях царило какое-то вавилонское столпотворение: арабы, калмыки, татары, совершенно черные негры – и все в своих национальных платьях! Ну а русских вообще было без числа. В этом было что-то азиатское… Впрочем, кто они, Юсуповы? Потомки азиатов! Именно отсюда их суеверия, их слепая вера в роковое число!
Но об этом я чуть позже расскажу. Сейчас – о слугах государевой семьи. Их брали только из деревень. Отчетливо помню, как дядя Никки говорил моей maman, объясняя, почему у них горничные какие-то неотесанные… Ну, не то что неотесанные, а не столь бонтонные, каких предполагаешь увидеть у государыни и великих княжон:
– Девушки постепенно всему научатся, дело наживное, зато народ в деревнях чище, доверчивей и преданней. Городские уже слишком испорчены гнилостными разговорами, непременно станут сплетничать о нашей семье. Еще и не погнушаются в газеты продать какую-нибудь ерунду о нашей жизни. Либеральные газеты, ты сама знаешь, Ксения, из самой ничтожной мухи грандиозного слона сделают!
Maman отвела глаза. Как раз в это время слухи об отношениях моих родителей просочились в газеты – со слов горничной матери и лакея отца, самых что ни на есть деревенских и вроде бы «чистых духом»… Но она не стала спорить с братом: он, как обычно, пел с голоса жены, а переубедить Александру Федоровну вообще было невозможно.
Впрочем, не суть важно.
Так вот об уксусе! Вернее, о горничной. Когда в семье государя менялись горничные (ну, к примеру, девушки выходили замуж), они должны были представить себе замену. Помню, как Дуняша, горничная великих княжон Татьяны и Ольги (с Ольгой из всех своих кузин я больше всего дружила, она была такая милая, такая добрая!), собираясь замуж, привела себе на смену деревенскую девушку Оленьку. Никогда я не встречала такой красавицы! Именно с такими чертами лица и с такими фигурами ваяли скульпторы древнегреческих богинь! Однако Оленька была не беломраморной бесцветной куклой, а голубоглазой, золотоволосой, а кожа у нее была, как говорят французы, le teint de lis et de rose, цвета лилии и розы. По-русски это то же самое, что кровь с молоком, но я русское выражение терпеть не могу, в нем есть что-то жуткое. Людоедское.
Словом, Оленька напоминала и розу, и лилию: совершенная красавица! Смотреть на нее было враз и удовольствие, и мучение. Удовольствие – потому что красавица. Мучение – потому что превосходит тебя красотой несоизмеримо. А при этом кто? Да никто, деревенская девка, которой предстоит ночные горшки за царевнами носить.
Спустя некоторое время прихожу к Ольге, смотрю – у них с Татьяной в горничных какая-то другая девушка, а лицо у нее слегка побито оспинами.
Я говорю:
– А где же ваша деревенская красавица?
– Maman ей отказала, – ответила Ольга и покраснела.
Я только плечами пожала. Нетрудно было предвидеть, что ma tantine откажет: она очень ревниво относилась, если кто красивее кузин, оттого и меня недолюбливала, хотя я себя половину жизни считала настоящей уродиной, это уж потом стала с удовольствием в зеркало смотреть.
Тут Ольга так принужденно рассмеялась и говорит:
– Дуняша привела другую девушку – ее приняли.
Мне стало жалко Олю с Таней: ну почему матушка так им выказывает свое мнение, что они для нее не самые красивые на свете? Но еще жальче было мне потом ту девушку, Оленьку, которая не вынесла позора – конечно, для нее, бедняжки, это был позор, что императрица ее не приняла на службу! – и отравилась уксусом. Выпила и умерла в ужасных мучениях, это моим кузинам потом под страшным секретом рассказала Шура Теглова, их новая горничная, та самая, рябоватая: она на себя грех брала, что пришла на место, на которое Оленьку не приняли, а ведь грех был на ma tantine…
Словом, если бы Клеопатра выпила уксус, она бы страшной смертью умерла на глазах Антония, и мне отчего-то кажется, что она не такая была дура. Вообще, например, этот самый Планк мог ее остановить еще прежде, чем она бросила «Перегрину» в уксус… и ей ничего не пришлось бы пить.
Между прочим, не я одна так думаю. Как-то у букиниста на набережной Бурбон я увидела книжку некоего Жоссена с невероятно длинным названием, занимавшим чуть не половину обложки: «Химическое и историческое произведение, в котором рассматривается, точно ли Клеопатра немедленно растворила жемчужину, о которой говорят, что она проглотила ее во время праздника, и правда ли, что эта операция была сделана в одно мгновение, в соответствии с принципами, правилами и законами химии».
Это был фолиант, изданный в Париже в 1749 году. А потом мне попался еще один томик, вышедший уже в 1828 году в Дижоне, однако посвященный тому же вопросу: «Роскошества Клеопатры на пирах с Юлием Цезарем и Марком Антонием». Написал книгу какой-то господин Пеньо. Так вот: оба эти автора весьма убедительно доказывали, что жемчужину может растворить только концентрированный уксус! И отведать такого напитка немыслимо, если не хочешь умереть мучительной смертью!
Но ладно, Господь с ним, с уксусом. Откуда вообще взялось, что наша жемчужина под названием «Перегрина» – парная жемчужине Клеопатры?!
Тоже очередная юсуповская фантазия. Фамильная фантазия, так сказать! И еще неизвестно вообще, как эта жемчужина называлась!
В связи с этим не могу не вспомнить довольно забавную, хотя изрядно унизительную для юсуповского самомнения историю, произошедшую в Лондоне в 30-х годах ХХ века. Мы с Феликсом тогда уже много лет как поселились в Париже, но отправились в Англию на выставку ювелирных изделий из собраний русской аристократии на Белгрэйв-сквер. Хоть многое было оставлено, брошено, покинуто в России после этой ужасной революции, кое-что вывезти некоторым беженцам удалось, и не все было еще продано, в том числе и нами. В экспозиции оказалось много восхитительных вещей, так больно напоминающих о прошлом…
Правду сказать, мы шли на эту выставку не без опаски. Нам памятна была еще недавняя история. В 1927 году в Лондоне состоялся аукцион дома «Кристи» под названием «Драгоценности государства Российского». Мы присутствовали там, конечно. Отправились вместе с maman и ее сестрой, моей тетей Олей, великой княгиней Ольгой Александровной, бывшей герцогиней Ольденбургской (она покинула супруга, который, увы, был неисправимый мужеложец, а затем вышла по любви за адъютанта бывшего мужа – ротмистра кирасирского полка Куликовского), которая, слава те, Господи, к тому времени уже перебралась из окровавленной России в Данию вместе со своим мужем и детьми и жила при своей матери, моей любимой бабушке, вдовствующей императрице Марии Федоровне, в Амалиенборге. Бабушка необыкновенно любила ее сыновей, Гурия и Тихона, особенно Тихона, который родился во время нашей тяжелой жизни в Крыму, под надзором большевиков.
Впрочем, речь не о том. На аукционе по баснословным ценам ушли 124 лота – и это все были наши драгоценности, наши! Драгоценности Романовых… а ведь я тоже Романова в девичестве! Брачная императорская корона, которую мне не довелось надеть, потому что я не великая княжна, однако моя кузина Мари в ней венчалась и много мне о том венчании рассказывала, я к этому еще вернусь в своих воспоминаниях… диадема из колосьев, драгоценности императрицы Екатерины II – брошь в виде букета цветов из бриллиантов и рубинов, броши-банты с бриллиантами… Некоторые из них купила английская королева Мэй[1]. Тетя Оля узнала на аукционе свой изысканный веер из перламутра, усыпанный алмазами и жемчужинами. Это был один из подарков к ее свадьбе с герцогом Ольденбургским (они поженились в 1901 году, а развелись в 1916-м из-за неудачи этого брака и ее романа с Куликовским). Конечно, этот веер был похищен из ее дома в Петрограде… Но на веер у королевы Мэй денег уже недоставало! Мы так и не знаем, кому он ушел.
Вообще наши фамильные драгоценности то и дело где-то да всплывали… но они были уже не наши. Вот очень характерный эпизод, который рассказывала мне моя матушка, великая княгиня Ксения Александровна, сестра государя Николая Второго.
Когда maman бывала в Лондоне, ее часто приглашали на чай к королю и королеве, все же король был ее кузеном. Однажды королева Мэй показала ей последнее приобретение – изделие Фаберже, эмалевую табакерку, на крышке которой бриллиантами была выложена буква «К». Maman едва не задохнулась от воспоминаний. Ведь эту табакерку подарил ей мой отец – к рождению их первого ребенка, то есть к моему рождению!
– Ах, как интересно! – промолвила королева Мэй, выслушав эту историю, – и спокойно вернула табакерку на почетное место в своей коллекции.
Помню, когда maman нам с братьями об этом рассказала, мы были вне себя от изумления. Как королева могла не отдать ей табакерку?! Это бесценная вещь для нее, а для Мэй – всего лишь безделушка…
– Конечно, она мне ее не отдала, – пожала плечами maman. – Мэй, в конце концов, за табакерку заплатила и имеет право на нее. – И добавила, отворачиваясь и пряча глаза, вдруг наполнившиеся слезами: – Эта вещица напомнила мне о столь многом…
Мы тогда все думали, что это большевики распродают награбленное, наживая огромные деньги. Это было гнусно… но правда, которую мы узнали позже, оказалась еще гнусней! Оказывается, некто Норманн Вейс, представитель какого-то англо-американского синдиката, а может быть, просто антиквар, точно не скажу, купил из совдеповского Алмазного фонда девять с половиной килограммов наших драгоценностей. Просто на вес! Уму непостижимо… Это обошлось ему в пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Он-то и выставил наши вещи на продажу в Лондоне по заоблачным ценам. И траты свои окупил в десятки раз.
Впрочем, нет ничего глупей, чем горевать о том, чего уже нельзя вернуть.
Вернусь к «Перегрине». Наверное, надо пояснить, откуда взялось это название. La Peregrina – по-испански «странница». Этой драгоценности много пришлось попутешествовать на своем веку, поэтому ее так и назвали.
В каталоге выставки о ней написали как о жемчужине, принадлежавшей в XIV веке к сокровищам испанской короны. Поскольку авторы каталога посовещались, естественно, с Феликсом, не обошлось и без упоминания Клеопатры как первой владелицы этой драгоценности.
И вот являемся мы на Белгрэйв-сквер. Феликс, maman, я… И видим: перед витриной, в которой выставлена «Перегрина», стоит бывшая фрейлина великой княгини Елизаветы Федоровны, княгиня Александра Николаевна Лобанова-Ростовская (ее с самого детства все знакомые звали просто Фафка за ее простоватые манеры и разухабистую речь… Помню, она едва не испортила этой своей простотой, которая хуже воровства, помолвку Верочки Клейнмихель с Митей Орбелиани!), и несет такую околесицу, что, как говорили в России, хоть святых выноси! Пересказала взахлеб историю Плутарха о том, как Клеопатра растворила жемчужину в уксусе… et cetera, et cetera, а потом, значительно помолчав, брякнула во всеуслышание:
– Эта самая жемчужина – перед вами!
В первую минуту мы даже не вполне поняли, что она вообще сказала. Потом постепенно начали соображать. Тут я стиснула одной рукой пальцы maman, другой – Феликса и потащила обоих прочь, делая страшные глаза. Они были чрезвычайно смешливы и сейчас могли бедную Фафку оконфузить перед доверчивыми англичанами. А мне ее было жалко, как всех чудаков, над которыми обожал потешаться Феликс. Фафка вообще не могла слова сказать, чтобы не приврать, как будто у нее язык был поистине заговорен. Барон Мюнхгаузен удавился бы от зависти, слушая ее! Например, на одном из приемов (сейчас уж не припомню, где, у кого, но других русских, кроме нас, там не было) гости слушали, доверчиво хлопая ушами, россказни Фафки о том, что ее петербургский дворец было невозможно обойти за неделю, столь он был велик. Но венцом ее выдумок была история о том, как она однажды купалась в севастопольской гавани и спасла тонувший линкор, схватив его за якорную цепь и дотянув вплавь до берега. По сравнению с этим слова: «Эта самая жемчужина – перед вами!» – были просто детским лепетом!
Впрочем, моя деликатность Фафке нимало не помогла. Мы не прошли и пяти шагов, как услышали поистине гомерический хохот. Так слушатели оценили полет Фафкиной фантазии.
А потом на выставке появился герцог Эберкорн и заявил, что принадлежащая ему жемчужина и есть подлинная «Перегрина»!
Ни о какой Клеопатре он и речи не вел, а рассказал, что его белая жемчужина грушевидной формы была найдена в 1513 году на берегу Жемчужного острова в Панамском заливе. Ловца, принесшего ее, раба, отпустили на волю в благодарность за столь невероятную находку. Жемчужина стала украшением короны испанского короля Фердинанда V и его преемника Карла V, явившийся ему на смену Филипп II подарил жемчужину английской королеве Марии Тюдор, когда женился на ней. После смерти королевы «Перегрина» вернулась в Испанию, где и хранилась более двухсот пятидесяти лет, до 1808 года, когда Наполеон Бонапарт захватил Испанию и сделал там королем своего брата Жозефа. Ну а тот оставил жемчужину в наследство своему племяннику Шарлю Луи Наполеону, известному как Наполеон III, который, живя в изгнании в Лондоне и терпя серьезные финансовые трудности, продал «Перегрину» лорду Гамильтону, второму маркизу Эберкорну.
Тут мы все убедились в его правоте, кроме Феликса, конечно, который просто не мог признать поражение, хотя жемчужина Эберкорна была в два раза больше той, которая принадлежала Юсуповым.
Феликс вывернулся весьма ловко. Он теперь называл свою жемчужину не «Перегрина», а «Пелегрина». Всего одна буква изменена, кто заметит? La Pellegrina тоже означает – «странница», только не по-испански, а по-итальянски. Феликс нигде не вдавался в подробности небольшого конфуза, случившегося у него с герцогом, и я до сих пор не имею представления, как он называл свою жемчужину, когда отвез ее в Женеву и продал ювелиру Жану Ломбару. Потом, много лет спустя, мне случалось слышать, Феликс-де продал подлинную «Перегрину» (само собой, некогда принадлежавшую Клеопатре!!!) не кому-нибудь, а самим Картье. Конечно, мы хорошо знали этот дом, поскольку с 1909 года Жак Картье открыл свое отделение в Петербурге и поставлял ювелирные изделия нам, то есть Романовым, и даже изготовил для меня мой свадебный венец. Но все же Феликс поехал именно в Женеву, к Ломбару, потому что Картье были в курсе лондонского недоразумения и их было бы весьма трудно провести, это могло сыграть свою роль в оценке жемчужины, Феликс другие наши ценности продавал Картье, и не раз, но не «Пелегрину»…
Герцог Эберкорн нигде и никогда официально не оспаривал притязаний Феликса и не рекламировал приоритетов своей жемчужины. Феликс этому очень удивлялся и не мог понять почему. Он и знать не знал, что этим молчанием герцога он обязан мне… Да, тогда, в Лондоне, произошла одна история, о которой я до сих пор вспоминаю равно и с досадой, и с насмешкой, и с нежностью. Тогда мне третий раз в жизни предложили бросить мужа и выйти за другого. Первый раз подобное случилось в Петербурге, этим человеком был Г.Р., потом в Париже, вскоре после того, как мы открыли наш модный дом Irfй, «Ирфе», и появились с коллекцией на показе мадемуазель Шанель, вернее, после показа, на который мы опоздали. Ну, о Г.Р., об «Ирфе» и об этих les propositions indiscrеtes в частности я еще расскажу. А сейчас о том, что случилось в Лондоне.
Мы на выставке познакомились с одной дамой, миссис Лисгоу Смит – но настоящее ее имя было Лидия Сергеевна Северская, она вышла замуж за англичанина. Эта миссис Смит говорит:
– Что бы вам, ваши сиятельства, не открыть в Лондоне магазин парфюма «Ирфе»?
А надо сказать, что еще в 1926 году Феликс выпустил духи «Ирфе». Собственно, по его просьбе их составил парфюмерный дом «Молинар», но об этом вообще мало кто знал.
Аромат был очаровательный, я его обожала… влажные от росы нарциссы, бергамот и легчайшая нотка свежей кипарисовой смолки… получилось очень фантазийно, жаль, что мы потеряли рецептуру. Впрочем, мы так много потеряли, что это – капля в море!
Мы выпускали три разновидности этого аромата, с разной степенью резкости, отдельно для темноволосых, светловолосых и рыжих дам. Irfй brune, Irfй blonde, Irfй rousse – «Ирфе брюнетка», «Ирфе блондинка», «Ирфе рыжая»…
Вообще с легкой руки моего дорогого супруга, который обожал полет своей фантазии, а проще сказать, никогда не затруднялся соврать, принято считать, что собственный парфюм наш модный дом выпустил первый среди домов высокой моды. Однако Жан-Пату еще в 1925 году представил духи Amour… Amour как духи для блондинок, а Que sais-je? – как духи для брюнеток. А Мария Новицкая вообще за год до Пату открыла ателье – шелковые пижамы с экзотической росписью, купальные костюмы и свитера джерси, так вот, она выпускала духи Catherine II и Ming.
Впрочем, аромат нашей продукции был поинтересней, чем у Пату и Новицкой, что верно, то верно. Различными оттенками наших влажных нарциссов благоухал весь Париж, но как раз в это время, когда мы отправились в Лондон, пик популярности этого парфюма начал спадать. Поэтому, конечно, предложение открыть английский бутик пришлось очень кстати.
Миссис Смит финансировала предприятие, что нам тоже было кстати. Мы сняли помещение на Давер-стрит, 45, который отделали а la Directoire, в стиле Директория – с его сдержанной «римской» меблировкой, обоями вместо обивки и непременными кретоновыми портьерами. У нас занавески были в серо-розовую полоску, а сам салон – светло-серый. Еще был один le cabinet privе, для нас с Феликсом, очень интересно оформленный в зеленых тонах и напоминающий шатер. В этот-то шатер в отсутствие Феликса и явился однажды Джеймс Альберт Эдвард Гамильтон, третий герцог Эберкорн, и признался мне в любви.
В общем-то я не могу сказать, что для меня подобные признания были редкостью. Я спокойно смотрела на мужчин, которые открывали мне сердце. Более того, я со временем научилась отличать тех, которые были влюблены только в меня, от тех, которые желали и меня, и моего мужа, воспринимая нас как некое нераздельное существо, любовь с которым могла им открыть бездны эротического безумия и невероятного наслаждения. Одним из таких людей был Дмитрий, великий князь Дмитрий Павлович, который никак не мог сделать выбора между нами двумя. В свое время их с Феликсом связывали более чем близкие отношения, ну а жениться Дмитрий хотел все же на мне. Наша с Феликсом свадьба разбила ему сердце… я до сих пор помню его застывшую в отчаянии трагическую фигуру на вокзале, откуда мы уезжали в наше свадебное путешествие… Я никогда не верила в прочность его романа с мадемуазель Шанель: у меня такое ощущение, что он сделался ее любовником только ради того, чтобы поддержать свою сестру Мари, Машуню, великую княгиню Марию Павловну, которая искала у Шанель протекции своему модному дому «Китмир». Брак Дмитрия с этой американкой Одри Эмери тоже казался мне сущим фарсом: он продал титул за деньги… правда, там родился сын, но сути брака это не меняет, они же развелись, и Одри лишилась титула, а Дмитрий сделался богат, хотя и не смог на эти деньги купить себе здоровье… Вторым человеком, который хотел нас обоих, был Г.Р., и он тоже заполучил только Феликса, хотя уже был уверен, что ко мне осталось только руку протянуть – и схватишь. Но он схватил не меня, а свою смерть.
О Господи, я все время перескакиваю с пятого на десятое, но что поделать, если все это так тесно связано в моей жизни! Начнешь про одно – и оказывается, что невозможно обойтись без другого!
Итак, на Давер-стрит, 45, появился Эберкорн, который без лишних слов признался мне в любви и сообщил, что готов затеять бракоразводный процесс, тем паче что у него есть доказательства измены его жены, леди Розалинды, так что он будет не ответчиком, а истцом, а потому надеется на благоприятный и скорый исход. Далее он сказал, что я тоже могу быть истицей при расторжении своего брака, ибо ему известно, что Феликс вернулся к увлечениям своей юности и возобновил нежную дружбу с Эриком Гамильтоном, его близким приятелем по Оксфорду (и дальним родственником самого Эберкорна), и я могу получить самые достоверные свидетельства этого.
Не могу передать, как мне больно было услышать его слова, потому что я чувствовала, что в Лондоне Феликс как-то изменился, с ним что-то происходит, но боялась даже подумать о его возвращении к прежним пристрастиям. И вдруг услышать такое…
Мне помогло только то, что помогало и прежде. Я с детства приучала себя не слышать того, чего мне не хотелось слышать, того, что ранило меня или оскорбляло. Это очень выручало во время ссор родителей. Потом я таким же образом спасалась, когда мы всей семьей находились в Крыму, в большевистском заточении в Дюльвере, и каждый день могли ожидать расстрела. Вот и сейчас я просто выключила слух и чувства, как выключают электричество, и принялась беседовать с герцогом как с обычным посетителем, который явился купить духи «Ирфе». Я выспрашивала о цвете волос его жены, о ее предпочтениях в одежде, о том, какие оттенки она предпочитает…
И тут я поняла, что разговоры о пресловутой британской выдержке не более чем миф. Эберкорн воспринял мои слова как оскорбление. Вспыхнул, вскочил…
Я даже немного испугалась. Отошла к столику, на котором стояли флаконы с пробами духов, взяла Irfй rousse – он был самый тяжелый. Вдруг почудилось, что Эберкорн на меня сейчас набросится. Вид у него сделался совершенно безумный! Думала, швырну в него флакон, выплесну ему в лицо эти довольно едкие духи, если кинется.
И он в самом деле кинулся… мне в ноги!
И заговорил – у него был довольно высокий голос, который от волнения сделался пронзительным:
– Вы не знаете… я могу обвинить вас в подлоге «Перегрины». Если я дам материал газетам, вас обольют грязью. В любом случае, ваша жемчужина всегда будет считаться второй. Но я могу сделать так, что моей «Перегрины» больше никто не увидит!
Я только плечами пожала, а он продолжал, горячечно, бредово, и его голос резал мне слух:
– Жемчужина до сих пор не просверлена. Она держится одной только золотой скобой ожерелья. Моя мать и моя жена не раз были недалеки от того, чтобы лишиться ее. Один раз жемчужина затерялась в складках платья. Второй раз она исчезла в Виндзорском замке. Ее долго искали. Оказывается, она завалилась за обивку дивана… Ваше слово, ваше согласие – и она будет потеряна навсегда! Тогда у вашей «Перегрины» не будет соперниц!
Он был поистине безумен в тот миг, и мне стало жаль его. Я спросила:
– И что вы хотите взамен?
– Вас! – воскликнул он.
– Послушайте, – ласково сказала я, – но ведь если я покину мужа, мне будет все равно, что станется с юсуповской «Перегриной». Сами посудите!
– А вы покинете мужа? – жадно спросил герцог.
Я покачала головой.
– Вы любите его?
Я кивнула, хотя, наверное, честнее было бы пожать плечами.
Эберкорн поднялся с колен и тяжело сел на стул. Потом заговорил, не глядя на меня:
– Один из тех людей, которые замешаны в известном вам декабрьском деле…
Он умолк, и у меня дрогнуло сердце, как это было всегда, когда разговор заходил о той ночи, когда был убит Г.Р.
– Один из них видел вас, – продолжал герцог. – Он рассказал мне о случившемся. О вас… Я не мог поверить, что этого хитрого, умного человека, этого русского колдуна, который держал в повиновении семью императора, могла довести до гибели страсть к женщине. Но теперь я смотрю на вас, на ваше волшебное лицо… да сознаете ли вы сами, какая сила кроется в вашем взгляде, голосе, в ваших чертах, в самом мерцании вашей кожи?
У меня мучительно перехватило горло. Его пронзительный голос вдруг сменился другим – низким, хриплым… ненавистным, гипнотизирующим, завораживающим…
– Ты, лицо твое… вековечная красота на нем… так сделаю, что годы тебя не тронут, старухой сделаешься, а тебе девки молодые завидовать станут: ты будешь как цветок дурманный… только меня полюби, мне в руки дайся!
Я стряхнула наваждение, меня мороз пробрал от того воспоминания. И снова визгливый голос герцога так и пронзил слух:
– Неужели вы своей силы не знаете? Вы можете повелевать мужчинами, как Цирцея…
У него были мутные глаза, и я вдруг почувствовала ужасное отвращение и к нему, и к тому воспоминанию, которое он вызвал. Неодолимо захотелось швырнуть в Эберкорна флакон, но я все же удержалась и поставила его на стол, но так резко, что густо-золотистая жидкость выплеснулась мне на руку.
Я темноволоса – Irfй rousse, парфюм для рыжих, был не мой аромат, а я всегда весьма чувствительно относилась к запахам. Сейчас мною овладело величайшее раздражение!
– Сравнивая меня с Цирцеей, вы меня оскорбляете! – воскликнула я страстно. – Мне не доставляет удовольствия видеть, как на моих глазах достойный мужчина превращается в глупое животное!
Вслед за этим я вышла из комнаты и из помещения… Вышла на улицу в одном платье, забыв пальто. Я шла по Давер-стрит, не помня себя от злости и тоски. Я не чувствовала холода и уже не думала о герцоге. Мысли о Феликсе преследовали меня.
Где он сейчас? Я не видела его с самого утра… Неужели это правда, что он и Гамильтон… что они сейчас вместе?!
Меня догнала Лена Вальстрим, заместительница директрисы нашего бутика, миссис Ансель. Та была англичанка, а Лена – русская, бывшая замужем за англичанином. Здесь ее звали Ленни. Она держала в охапке мое пальто и накинула его на меня, очень встревоженная.
– Наш визитер ушел? – спросила я, холодным тоном показывая, что не желаю никаких вопросов.
– Да, – ответила Ленни. – Но телефонировал князь, просил передать, что сейчас возвращается.
У меня сердце задрожало! Я со всех ног помчалась назад, в бутик, и Бог весть сколько времени ждала Феликса, у которого «сейчас» означало «через час», и это в лучшем случае.
Наконец он явился – с букетом для меня, с нераспустившимися белыми розами, которые я любила больше других цветов. В другую минуту я обрадовалась бы, но тут мне это показалось подозрительным. Я подумала: «Это неспроста. Наверное, Феликс догадался, что я узнала про его встречи с Гамильтоном. Наверное, он просто хочет загладить вину, опасается скандала!»
Я редко теряю самообладание и начинаю выяснять отношения, но сейчас не выдержала и спросила:
– Вы были у Эрика?
Мы с Феликсом обычно обращались друг к другу на «вы». Не знаю почему, так уж повелось еще со времен нашего знакомства. В письмах всегда было «ты», а в общении – «вы», как правило, с шутливым оттенком, потому что тогда о себе каждый говорил «мы», но иногда это звучало подчеркнуто холодно и наших знакомых удивляло. Моя мать, а propos, говорила, что они с отцом были на «ты» лишь в юности и во время первых, счастливых лет жизни, а когда меж ними начались нелады, они перешли на «вы». Но мы с Феликсом хоть и всегда более или менее ладили и были друг другу первой опорой в жизни, а все же не могли «тыкать».
– У Эрика? – вскинул он свои ровные, прекрасные, тонкие, тщательно подбритые брови. – С чего вы взяли? Эрик уже другой месяц путешествует по Америке. К тому же он сделался настолько религиозен, что с ним, по слухам, невозможно говорить ни о чем, кроме как об отрешении от мира.
Я смотрела на него, чувствуя, как сердце начинает биться свободней.
– Я слышал, здесь был герцог Эберкорн, – сказал Феликс. – Он что, хотел поговорить о делах?
– Какие у него могут быть с нами дела? – удивилась я.
– Разве вы не знаете? – в свою очередь удивился Феликс. – Да ведь это была его мысль – открыть наш бутик. Миссис Смит всего лишь поверенная, а предложение и средства – все его.
Хорошо, что я в это мгновение сидела… хорошо, что Феликс отвлекся, зажигая спиртовку под чайником, и не видел выражения моего лица… я уже прощалась мысленно с этим уютным зальчиком а la Directoire, с этими утонченными кретоновыми портьерами… Я решила, что герцог не простит мне оскорбления.
Однако он не изъял средств, вложенных в наше предприятие. И более не оспаривал никаких выдумок Феликса относительно истории нашей «Перегрины». Из этой неприятной истории Эберкорн вышел с великолепным чувством собственного достоинства, хотя и пытался бросить его к моим ногам. Может быть, отчасти он остался даже признателен мне, что я не позволила ему это сделать!
Собственно, на этом историю с «Перегриной-Пелегриной» можно считать законченной. Правда, во время войны мы ее чуть не лишились, когда в 1940 году немцы проводили ревизию сейфов, принадлежавших английским подданным. А наша жемчужина находилась в личном сейфе директора английского Вестминстерского банка в Париже. Феликсу германцы тогда предложили сотрудничество в обмен на «Пелегрину», однако он, конечно, отказался. Коллаборационистом он не мог стать, хотя и в резистанты не годился. С «Пелегриной» мы уже простились было после того случая, но после ухода гитлеровцев из Парижа ее нам все же вернули. Феликс держал ее до последнего, но наконец все же продал в Женеве в 1953 году.
…Я несколько раз подступалась к тому, с чего, собственно, начала свое повествование. Наверное, уже пора об этом обо всем рассказать. Я не слишком корректно обращаюсь с читателем моих воспоминаний, не так ли? Сначала завлекла, так сказать, разрекламировала себя, а теперь то и дело увожу разговор в сторону.
Ну… да. Увожу. То есть я непременно к этому подойду рано или поздно, но прежде скажу о том, с чего я начала. Об этом самом роковом числе Юсуповых.
Без этого мне просто не обойтись, если я все же хочу рассказать о том, почему именно я стала причиной гибели моей страны.
Я всегда любила рисовать. Еще когда угрюмой девочкой жила у родителей, которые вечно ссорились… Я не имею права их осуждать, но меня в юности всегда изумляло, куда делась их любовь. Куда она ушла? Почему? Ведь она была!
Когда мы уже уехали из России, и прошли годы, и отец написал свою чудесную книгу воспоминаний, я прочитала там, как он был влюблен в мою маму, сестру государя, великую княжну Ксению, хотя ее любил и его брат, великий князь Сергей Михайлович, как он посватался, как императрица велела ждать год и как он не осмеливался напомнить государю императору, моему дедушке Александру Александровичу, о его обещании решить их судьбу, пока в дело не вмешался его отец, мой второй дед, великий князь Михаил Александрович, брат императора, и, рискуя поссориться с государыней, он все же вырвал у нее согласие отдать дочь за Сандро, как всегда называли в семье моего Рара. Я читала, как он не мог дождаться возвращения своего отца и от волнения сломал в своем кабинете по крайней мере дюжину карандашей. Потом он, узнав о согласии, счастливый, поехал к невесте.
«Я стоял и смотрел на дверь в спальную Ксении.
«Как странно, – подумал я, – что она так долго не идет…»
И вдруг она вошла с опущенными глазами, в простой белой шелковой блузе и синей юбке. Она остановилась у окна в выжидательной позе. Я взял ее за руку и повел к двум мягким креслам. Мы говорили почти шепотом, и мне казалось, что мы говорили одновременно. Раньше мы обменивались поцелуями, но это были поцелуи кузенов. Теперь я поцеловал ее как ее будущий супруг…»
Свадьбу назначили чуть не через полгода, чтобы приготовить приданое мамы, и я помню, дядя Никки, император Николай II, который дружил с моим отцом с детства, рассказывал, что жених с невестой были тогда отчаянно влюблены:
– Сандро и Ксения то и дело целовались. Вернее, лизались. Они лизались и обнимались, не обращая никакого внимания на окружающих. Твой покойный дядя Джорджи начал даже бояться, что дело дойдет до греха. Ходил за сестрой, как привязанный, и вечно им мешал. Сандро на него страшно ворчал. А Джорджи ведь ее стерег!
Уже после моей свадьбы, когда я считалась «большая» и со мной можно было говорить о разных не вполне приличных вещах, дядя Никки показал мне одно письмо Джорджи. Тогда родители были в очередном разладе, отец уехал в Америку к своей Марии Ивановне, и дядя Никки предложил прочитать это письмо, чтобы показать, как они были молоды и влюблены. Я то письмо списала для себя – оно меня всегда страшно забавляло и как-то утешало. Вот оно:
«Джорджи – Никки, 9 июня. Гордерский перевал
Помнишь, ты мне писал о безобразном поведении Ксении и Сандро; я был действительно поражен всеми гимнастическими упражнениями, которые эти два субъекта производили весь день. Они чуть не продавили тахту и вообще вели себя весьма неприлично: так, например, ложились один на другого в моем присутствии и, так сказать, имели поползновения играть в папу и маму. При виде такого безобразия я даже обиделся. Это уже ни на что не похоже! Хорошо, что недолго до свадьбы осталось, а то, пожалуй, кончилось бы плохо! Я их срамил, срамил, но все ни к чему: они продолжали упражняться с остервенением. Ну и народец!»
Даже трудно поверить, что так было, что они так страстно любили друг друга!
До сих пор я обожаю перечитывать в воспоминаниях отца те страницы, которые описывают венчание и свадьбу моих родителей. Отец все это изобразил с такой нежностью и с таким очаровательным юмором! «20 июля мы возвратились в столицу, чтобы посетить выставку приданого, которая была устроена в одной из дворцовых зал.
В конце зала стоял стол, покрытый приданым жениха. Я не ожидал, что обо мне позаботятся так же, и был удивлен. Оказалось, однако, что по семейной традиции Государь дарил мне известное количество белья. Среди моих вещей оказались четыре дюжины дневных рубах, четыре ночных и т. д. – всего по четыре дюжины. Особое мое внимание обратили на себя ночной халат и туфли из серебряной парчи. Меня удивила тяжесть халата.
– Этот халат весит шестнадцать фунтов, – объяснил мне церемониймейстер.
– Шестнадцать фунтов? Кто же его наденет?
Мое невежество смутило его. Церемониймейстер объяснил мне, что этот халат и туфли по традиции должен надеть новобрачный, перед тем как войти в день венчания в спальню своей молодой жены. Этот забавный обычай фигурировал в перечне правил церемониала нашего венчания наряду с еще более нелепым запрещением жениху видеть невесту накануне свадьбы. Мне не оставалось ничего другого, как вздыхать и подчиняться. Дом Романовых не собирался отступать от выработанных веками традиций ради автора этих строк.
Сутки полного одиночества и бессильных проклятий по адресу охранителей традиции, и наконец долгожданный день наступил.
Сам Государь Император вел к венцу Ксению. Я следовал под руку с Императрицей, а за нами вся остальная Царская фамилия в порядке старшинства. Миша и Ольга, младшие брат и сестра Ксении, мне подмигивали, и я должен был прилагать все усилия, чтобы не рассмеяться. Мне рассказывали впоследствии, что «хор пел божественно». Я же был слишком погружен в мои мысли о предстоящем свадебном путешествии в Ай-Тодор[2], чтобы обращать внимание на церковную службу и наших придворных певчих.
Мы возвращались во дворец в том же порядке, с тою лишь разницей, что я поменялся местом с Государем и шел впереди под руку с Ксенией.
– Я не могу дождаться минуты, когда можно будет освободиться от этого дурацкого платья, – шепотом пожаловалась мне моя молодая жена. – Мне кажется, что оно весит прямо пуды.
Только в 11 часов вечера мы могли переодеться и уехать в придворных экипажах в пригородный Ропшинский дворец, где должны были провести нашу брачную ночь. По дороге нам пришлось переменить лошадей, так как кучер не мог с ними справиться.
Ропшинский дворец и соседнее село были так сильно иллюминованы, что наш кучер, ослепленный непривычным светом, не заметил маленького мостика через ручей, и мы все – три лошади, карета и новобрачные упали в ручей. К счастью, Ксения упала на дно экипажа, я на нее, а кучер и камер-лакей упали прямо в воду. К счастью, никто не ушибся, и к нам на помощь подоспела вторая карета, в которой находилась прислуга Ксении. Большая шляпа с страусовыми перьями Ксении и пальто, отделанное горностаем, были покрыты грязью, мои лицо и руки были совершенно черны. Князь Вяземский, встречавший нас при входе в Ропшинский дворец, как опытный царедворец не проронил ни одного слова…
Нас оставили одних… Это было впервые со дня нашего обручения, и мы едва верили своему счастью. Может ли это быть, что никто не помешает нам спокойно поужинать!
Мы подозрительно покосились на двери и затем… расхохотались.
Никого! Мы были действительно совсем одни. Тогда я взял ларец с драгоценностями моей матери и преподнес его Kсeнии. Хотя она и была равнодушна к драгоценным камням, она все же залюбовалась красивой бриллиантовой диадемой и сапфирами.
Мы расстались в час ночи, чтобы надеть наши брачные одежды. Проходя в спальную к жене, я увидел в зеркале отражение моей фигуры, задрапированной в серебряную парчу, и мой смешной вид заставил меня снова расхохотаться. Я был похож на оперного султана в последнем акте…
На следующее утро мы возвратились в С.-Петербург для окончания свадебного церемониала, после которого на вокзале нас ожидал экстренный поезд. Быстро промчались семьдесят два часа пути, и новая хозяйка водворилась в Ай-Тодор. Здесь мы строили планы на многие годы вперед и рассчитывали прожить жизнь, полную безоблачного счастья».
Да, так было сначала. А потом между моими родителями начались нелады. У них родилась первая я, потом мои братья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав и Василий. Мама безумно любила мужа и надеялась, что дети удержат его от многочисленных любовных похождений. Теперь, прожив жизнь, я припоминаю, что знала только двух непоколебимо верных своим женам людей: моего дедушку, императора Александра Александровича, и моего дядю Никки. У каждого из них была до брака сильная страсть, а потом они не изменяли женам. Но мой отец был моряк… не зря неверность моряков стала как бы общим местом. Причем все это по большей части происходило не только в далеких портах, но и на наших детских глазах. Постепенно каждый из наших родителей стал жить своей собственной жизнью, от нас они были очень далеки. Редко-редко они заглядывали ко мне в комнаты, и то на минуту. Я же ходила к ним в определенное время и тоже лишь ненадолго. С отцом я в детстве была ближе, чем с матерью, это потом уже, когда я повзрослела, ей стало со мной интересно. А в детстве я ее редко видела. Правда, иногда maman взбредало забавничать. Например, за семейным столом вдруг она начинала швыряться яблоками, грушами, виноградом… Хохотала… Это немедленно бывало подхвачено мною и братьями. Все мы смеялись во все горло, когда брошенный фрукт попадал в кого-нибудь, сидевшего на другом конце стола. Теперь я вижу, что постороннему наблюдателю во всем этом могло показаться что-то дикое, но мы так радовались, что maman с нами, что она весела! По большей части она была очень грустна из-за отца. А потом сама стала находить утешение на стороне… Я помню, Александра Федоровна и тетя Оля обсуждали ее друга – англичанина мистера Фэна. Заметили меня – и умолкли, но я до сих пор помню возмущенную фразу императрицы: «Ma belle-soeur ira bientфt selon les mains!»[3]
Было ужасно слышать это холодное «ma belle-soeur» от тети Аликс, которая раньше всегда называла мою maman Цыпленочек, а свои письма к ней подписывала «твоя старая Курица»! Они были раньше так дружны, но императрица ненавидела адюльтер!
Так-то оно так, ненавидела-то ненавидела, но…
Наверное, не бывает людей, которые умудряются прожить жизнь и обойтись без каких-то трагических слабостей. До меня как-то раз дошли слухи о том, что мать Дмитрия и Мари, моих дорогих родственников и друзей, великая княгиня Александра Иосифовна, умерла в преждевременных родах после того, как застала своего мужа, Павла Александровича, с великой княгиней Елизаветой Федоровной в совершенно недвусмысленной ситуации. Я никого не осуждаю… Я даже не осуждаю мою тетушку Александру Федоровну, которая считается образцом супружеской нравственности, а между тем муж Анны Вырубовой, известной подруги императрицы, однажды, придя домой в неурочный час, застал в спальне жены графа Александра Орлова, красавца, повесу-командира одного гвардейского полка, стоявшего в Царском Селе – это был Уланский ее величества лейб-гвардии полк, – но застал Вырубов этого демона-искусителя не с Анной, а с императрицей… После этого Вырубова немедленно перевели в Москву, Анна с ним развелась. Я об этом узнала уже взрослой и сразу вспомнила, как тетушка судила мою мать.
Конечно, в детские годы я была далека от того, чтобы оправдывать увлечение maman Фэном, я его терпеть не могла, и, помню, моя гувернантка, графиня Екатерина Леонидовна Камаровская, была страшно шокирована, когда поняла, что я отлично осведомлена о сути их отношений. Но еще более она была шокирована однажды в Царском, куда моя кузина Ольга пригласила Екатерину Леонидовну посмотреть комнаты своих родителей, которые уехали в Петербург. И вот в будуаре Александры Федоровны моя воспитательница увидела множество фотографий графа Александра Афиногеновича Орлова, от юных его лет до предсмертных снимков (он умер в 1907 году от почечной болезни). Ольга с непроницаемым выражением сказала, что граф был большой друг ее maman. Когда Екатерина Леонидовна узнала, что графа похоронили в Царском Селе (хотя умер он в Каире, куда отправился лечиться), около церкви, и что императрица ежедневно по особой дорожке ходит на эту могилу, всегда утопающую в цветах, молиться, она вообще едва сознания не лишилась, что дети императрицы в таком возрасте все знают и понимают.
Вот и мы с братьями о слабостях своих родителей знали с детства…
Потом случился роман отца с Марией Ивановной, родственницей Фэна по мужу, богатому американцу Воботану, владельцу самых крупных бань в Нью-Йорке. В Марию Ивановну отец влюбился в Биаррице, причем влюбился так, что пожелал сделать ее на какое-то время моей воспитательницей и учительницей английского языка, чтобы с ней не расставаться.
К счастью, тут все до того воспротивились, что ему этого сделать не удалось. Хотя воспитательницу мне поменять и следовало бы. Ведь моя тогдашняя гувернантка, Мария Владимировна Ершова, была так ко мне равнодушна, что мы с братьями ее ненавидели и пренебрежительно называли Маха. Протекцией устройства к нам она была обязана великому князю Сергею Александровичу, а мой отец его очень не любил, поэтому он тоже мечтал от Махи избавиться. Вообще Маха была веселая дама по натуре, а мне всегда казалось, будто она надо мной смеется, дразнит меня. Ей обязана я своей детской угрюмостью, от которой потом с трудом избавилась с помощью графини Камаровской (Маха вышла замуж за управляющего двора моего отца, и тогда воспитательницу мне заменили). Графиня Екатерина Леонидовна Камаровская, как ни странно, была протекцией Махи, они были близкие подруги, хотя более разных людей трудно вообразить. Графине достался в моем лице некий неприрученный зверек. Я вечно конфузилась, стеснялась, краснела, говорила сбивчиво, несвязно, а прикрывала свой страх перед незнакомыми людьми угрюмостью. Мисс Костер (я ее звала Нана), которая была моей няней с самого рождения, а также вынянчила и моих братьев, ничего не могла со мной поделать. Между прочим, мой дядя Никки рассказывал, что они с тетей Аликс когда-то завидовали моим родителям из-за моей няни, потому что няня Ольги была с ужасными претензиями и все время делала родителям своей воспитанницы (императору и императрице!) выговоры, например, из-за того, что они слишком часто заглядывали в детскую. Потом они взяли великим княжнам, моим кузинам, русскую няню, Марию Вишнякову, однако называли ее Мэри. Вот была чистая, верная душа! Мои кузины ее обожали. Однажды, во время поездки по монастырям, ее изнасиловал Г.Р. Мэри доложила государыне, а та сказала, будто все, что делает Г.Р., свято… Они и Софью Ивановну Тютчеву, которая всех моих кузин воспитала, удалили от них, уволили, потому что она была врагом Г.Р….
Но я сбилась.
Итак, я о мисс Костер. Она была такая мягкосердечная! Я ее очень любила, но именно за то, что она мне ни в чем не перечила и не мешала все делать по-своему.
Вернее, не мешала не делать ни-че-го. И, разумеется, на меня совершенно не могла повлиять моя горничная Лала (на самом деле ее звали Мария Андреевна, но мы все называли ее только Лала), которая была при мне с рождения – помощницей мисс Костер.
Вообще моим любимым времяпровождением в юности было «гулять в саду». Я это так называла. Екатерина Леонидовна Камаровская (потом я ее стала называть просто Котя, у меня были Нана и Котя) была потрясена, когда узнала, в чем это «гулянье» заключалось. Произошло это так. Только что мы вошли в небольшой, огороженный сад при дворце, я бросилась вперед, встала лицом близко к дереву, помнится, там росла береза, и начала будто бы что-то рассматривать. Екатерина Леонидовна очень удивилась и подошла, чтобы понять, чем это я так увлечена. Ничего не увидела, кроме черно-белого ствола, и растерянно спросила, что это значит.
– Я хочу так стоять и молчать, – буркнула я.
Как вспомню, сколько от меня приходилось вытерпеть графине Екатерине Леонидовне! Поначалу я просто из вредности хотела ее позлить, рассердить, сделать ей что-то неприятное. А иногда делала гадости просто потому, что не приучена была думать ни о ком, кроме себя. Мне и в голову не приходило, что раз Екатерина Леонидовна при мне целый день, то она дорожит каждым часом свободы, когда может уделить время своим делам. Я делала что хотела, без оглядки на нее. Например, скажу: «Я иду к maman или papa» – и убегу часа на два-три туда, куда ей вход не дозволен без особого вызова. Сяду в ванной отца (я знала, что там меня искать никто не станет в его отсутствие!) и читаю какой-нибудь запрещенный мне английский роман. Я с удовольствием выстраивала между нами с графиней стену… хотя от этого мне было только печальней, мне так хотелось кого-то любить и чтобы меня любили! Графиня терпела, терпела, а потом однажды и сказала мне:
– Мне нужно с вами серьезно поговорить, Ирина. Вы молоды, способны, вы имеете все блага земные, все возможности учиться, расти духовно, интересно заполнить свое время – а между тем вы скучаете, не знаете, что делать, полны каких-то глупых шалостей и капризов, дразните близких, ничего им не давая, не любя никого. Только черствый и холодный эгоизм! Я взяла обязанности вашей воспитательницы по двум причинам: во-первых, облегчить тяжесть содержания своей семьи, помочь больному отцу, а во-вторых, постараться сделать все, что только есть в моих силах, чтобы ваша жизнь была, возможно, более счастливой, радостной, интересной. Первое я исполняю свято, второе без вашего содействия я сделать не в состоянии. Для этого необходимо полное ваше доверие и ваше послушание мне при исполнении моих главных обязанностей учения, отношений к окружающим и в прочем. Так как две эти первые недели убедили меня в противном, я решила уйти от вас. Моя жизнь до сих пор была полна и интересна, и я не хочу даром тратить время и силы. А вы призадумайтесь над моими словами и проследите за своими поступками.
Меня даже в жар бросило от этих слов, от этого ледяного тона. А Екатерина Леонидовна добавила:
– Я отнюдь не дорожу своим внешним положением, при котором часто видишь в людях лесть, низкопоклонство, заискивание. Я дорожу больше всего искренним, сердечным отношением! Вы раз и навсегда должны запомнить, что я не нуждаюсь в вас как в великой княжне, я просто вижу в вас многообещающую девушку. На днях я переговорю с вашей матерью и уеду в Москву.
Я еле могла справиться со своими губами, но все же нашла в себе силы прошептать:
– Не делайте этого!
Кое-как мне удалось уговорить Екатерину Леонидовну испытать меня в течение месяца.
Конечно, не могу сказать, что я изменилась по мановению волшебной палочки, но я старалась измениться, она это видела…
Вообще мне в ту пору все было скучно, я предпочитала лениться. Заставить меня хоть что-то делать было очень трудно. Сейчас я понимаю, что моим и вообще моей семьи, Романовых, главным чувством было ощущение собственного превосходства над окружающими. Как бы дамы нашей фамилии ни строили из себя добрых самаритянок и как бы ни были милостивы к так называемому русскому народу, все же мы очень хорошо знали – мы рождались с этим сознанием! – что мы на вершине некоей горы, по сравнению с которой древний Олимп – всего лишь невзрачный холмик. По склонам ее прилепились на разной высоте известные дворянские роды, еще ниже – богатые парвеню или обедневшая знать, ну а у самого подножия и на земле, куда взор обителей вершин не достигает, валяется грязная масса этого русского народа. Собственно, и сейчас мое восприятие не изменилось… я не питаю – да и не могу питать! – никаких чувств, кроме отвращения, к людям, которые изувечили, изуродовали, затопили в крови и грязи Россию, и, что характерно, этого русского народа я всегда страшно боялась и была просто счастлива, что нахожусь от него далеко и высоко.
Конечно, говорить такое считается неприличным. Но я ведь не говорю, а пишу…
Париж сделал меня более демократичной. Уже здесь, в эмиграции, встретилась я как-то с одним бывшим офицером, который во время Первой мировой войны находился на излечении в санатории, открытом моей свекровью и свекром в их имении в Кокозе, в Крыму. Мы ностальгически поговорили о минувшем, и он рассказал, каким дичком я была в ту пору. Встретив кого-нибудь случайно в парке, старалась свернуть в сторону, скрыться. А если с кем-то все же сталкивалась, никогда первой не начинала разговора, чем ставила людей в большое затруднение, ибо, согласно придворному этикету, обычные люди не имели права сами начинать разговор с высочайшими особами.
Да, в пору моей молодости я была равно и застенчива, и высокомерна. Конечно, главная роль в этом пренебрежении к низшему сословию принадлежит моему воспитанию, однако же не только ему. Я боялась этих людей, и страх был приобретенным… Вспоминаю один случай, казалось бы, незначительный, который, впрочем, оставил в моей душе очень глубокий след… Случай из детства.
Я в те времена никогда о деньгах не думала, само собой разумеется. Кто бы мне сказал, что под конец жизни я, племянница русского императора, и мой муж, выходец из семьи, которая была в разы богаче этого императора, что мы станем размышлять, как свести концы с концами, и порой даже брать деньги взаймы у нашего слуги Гриши… Причем и мы с Феликсом, и Гриша – все знали, что долга мы никогда не вернем, потому что нечем… Кто бы мне сказал!
Никто не сказал, а и сказал бы, я бы не поверила.
В общем, счету деньгам я не знала. Maman безалаберно давала мне деньги: вдруг даст 200 рублей или даже больше. Я немедленно посылала купить мой любимый земляничный торт в известной кондитерской Иванова и готова была съесть его чуть ли не сразу, причем в одиночестве, ни с кем не делясь. Да и никто этого торта так, как я, не обожал… Он мне даже во сне иной раз снится… До сих пор… В Париже мне все как-то невкусно, да я вообще малоешка. Ну, Котя мигом положила конец такому моему неумеренному транжирству, и, сколько бы maman мне ни хотела дать, я получала ежемесячно двадцать пять рублей, да еще Котя требовала от меня полного отчета в расходах, чтобы приучить меня хоть к какому-то счету и экономии.
Однако со мной это плохо удавалось. Я умудрялась всегда, как это называлось, sortait du budget, то есть выходить из бюджета! Мне понравилось тратить деньги не только на свои удовольствия. Перед днями рождения и днями ангела в семье я стала покупать подарки, сама выбирая их. Это было для меня до поры до времени огромной радостью. И вот однажды в каком-то магазине Гостиного двора мы с Котей случайно услышали такой разговор бабушки и внучки. Старушка держала в руке трехрублевую монету и говорила:
– Ты не можешь все купить – мало денег. Ты старшая, нужно отказаться от куклы и купить братцу книжку.
Девочка смотрела уныло. Мне стало так жалко ее! Подумаешь, несчастные три рубля! Я вспомнила торты Иванова и их стоимость… Схватила свой золотой червонец, сунула в руки девочки и выбежала из магазина. Котя поспешила за мной, очень довольная, и тихо сказала:
– Молодец! Вообрази, как она сейчас счастлива, покупая куклу! И братцу книжку купят, и, конечно, быть может, еще на сладости им останется!
Голос ее звучал умиленно, я чувствовала себя необычайно благородной и доброй…
Мы стояли за углом, и вдруг, в эту наивысшую минуту моего довольства собой, мимо прошли та самая бабушка и внучка, причем бабушка оживленно говорила:
– А все-таки жаль, что эта богатая дурища убежала. Надо было пожалостней поклянчить, глядишь, еще один червонец выманили бы.
А девочка спорила:
– Ненавижу клянчить! Лучше б ты мне разрешила ее карманы порезать!
Я по наивности своей не поняла толком, о чем идет речь, но выражение лица ужаснувшейся Коти заставило и меня испугаться. С тех пор мы надолго оставили посещение лавок Гостиного двора, если с нами не было никого из отцовых адъютантов. А меня мучили сны о том, как девочка пробирается в мою комнату и режет… причем не только мои карманы, но и меня.
Помню еще один случай, произошедший в нашей Гатчине. Как-то раз мы с Екатериной Леонидовной гуляли по парку и встретили там караульного матроса. Увидев нас, он загородил дорогу и спросил, кто мы. Я онемела от изумления, ужасно смутилась. Мне казалось невозможным, чтобы какой-то матрос не знал, кто я! И смел преграждать мне путь! В это время Екатерина Леонидовна назвала себя и меня. Матрос с важным видом достал какую-то книжонку, посмотрел в нее, водя пальцем по строкам, и сказал графине:
– Проходите. А вы, – обратился он ко мне, – подите прочь из парка, вон тут калитка.
Видимо, я в его книжке обозначена не была… Наверное, не была! Ведь Гатчина принадлежала нашей семье! Само собой разумелось, что я имела право ходить где и когда захочу!
Но надо было видеть важное, значительное лицо этого матроса, его напыщенное самодовольство! Он был просто счастлив, что имеет возможность запретить гулять по парку какой-то разодетой богатой девчонке! Увидев, что я не пошла к калитке, он двинулся ко мне с весьма грозным видом. Во мне кипело возмущение, но я была слишком застенчива, чтобы что-то сказать, только вся передернулась брезгливо. Екатерина Леонидовна очень тактично и вежливо – чересчур вежливо, на мой взгляд! – разъяснила ему, кто я и почему не внесена в его книжку, и посоветовала запомнить все царские имена. При этом она пообещала никому не говорить о его ошибке на первый раз.
Надо было видеть лицо этого матроса. На нем не было ни следа раскаяния. На нем было лишь разочарование, что он лишился возможности выставить меня из принадлежащего мне парка!
Екатерина Леонидовна потом уговорила меня не жаловаться отцу, увещевала, матрос-де новенький, вот и ошибся. Я так хотела завоевать ее расположение, что жаловаться, конечно, не стала. Но до сих пор помню выражение его круглого румяного лица, это упоение своей минутной властью, это разочарование, что невозможно этой властью воспользоваться… Сколько раз этот mufle[4] мне потом мерещился в кошмарах, когда я представляла разорение нашей любимой Гатчины, наши прекрасные комнаты, по которым шлялась пьяная матросня, хватая наши вещи, сидя в наших креслах, валяясь на наших постелях, уничтожая наши книги…
Странно ли, что я не любила народ? Никогда я не общалась ни с кем, кроме слуг, да и то находилась от них на чрезвычайном отдалении. Когда мы были под домашним арестом в Крыму, нас всех практически спас Феликс своей разговорчивостью, своим жадным интересом до всякого чудачества и юродства – он даже этих красных большевиков воспринимал чудаками и юродивыми, хотя и понимал, что они уже очень даже не безобидны. А я… я всех всегда сторонилась, весь этот «низший класс» был для меня пугающе-низшим. С тех пор, после тех случаев в Гостином дворе и в Гатчине, я даже учиться стала еще хуже.
Хотя вроде бы хуже и некуда было!
Я только и думала, как бы увильнуть от занятий. Заставить меня учить по вечерам уроки была целая мука. Кроме того, я не могла рано просыпаться, а вечером отправить меня спать в положенные десять часов было почти невозможно. Кое-как я выпросила у maman разрешение ложиться попозднее, но толку для моей учебы в этом было немного. Мне вообще ничего не нравилось, особенно преподавание искусств. Учительница музыки, старушка, которая давала уроки еще maman, заставляла меня выучивать какую-нибудь вещь не по моим силам и принуждала по тактам долбить бесконечно долго каждую музыкальную фразу. От этого всякая охота к музыке была у меня отбита, а способностей вообще никогда не было. Правда, Котя нашла потом другую учительницу, которая научила меня играть с листа, и вскоре я стала недурно исполнять легкие вещицы, конечно, только «для себя». Точно так же «для себя» я и рисовала. Вот к живописи я была способна… рисую и до сих пор.
В пору моей юности больше всего я любила рисовать цветы. Помню, я была еще девочкой – лет двенадцати, что ли, – отдыхали мы в Ай-Тодоре. Там росли совершенно невероятные глицинии! Их сиреневым, лиловым, белым, голубым великолепием я грезила во сне, ими были заполнены мои этюды. С тех пор я никогда больше таких глициний не видела, даже в Италии… А может, это просто влияют воспоминания юности, ведь таких ярких впечатлений больше не бывает – только в юности.
Тем летом я впервые встретила Феликса.
Мы были на верховой прогулке с maman и братьями и вдруг видим – едут к нам навстречу Юсуповы. Зинаиду Николаевну и ее мужа я прежде не раз встречала: она была фрейлиной двора, а сына их увидела впервые. Я смотреть много не смела: увидела, что высок и строен, очень красив, увидела, что у него ровные, прямые брови и светлые, очень пристально глядящие, словно гипнотизирующие глаза. Мне почему-то показалось, что он должен видеть в темноте… потом я узнала, что это так и есть на самом деле, а в ту минуту я поспешно отвела глаза и уставилась на аккуратно постриженную гриву своего коня. Но все эти глаза передо мной мерцали… Глаза северного европейца с дикарской татарской фамилией.
Он на меня произвел неизгладимое впечатление, я несколько дней покоя себе не находила, не могла понять, что за смятение на меня нашло, как вдруг вижу сон…
Снится мне женщина – с черными многочисленными, скользящими по ней, как змеи, косами, в татарской одежде и с татарским лицом. Лицо дикое, исступленное, исполненное такой ненависти, что я даже во сне испытала нечеловеческий ужас, потому что почудилось, будто эта ненависть ко мне обращена. Однако она меня не замечала, я за всем происходящим наблюдала как бы со стороны. Женщина бродила взад-вперед до просторному двору русского бревенчатого дома – вернее, металась, как лисица в клетке. Именно лисица приходила на ум, потому что она была в золотистой одеж-де, отороченной рыжим мехом. И ткань, и мех изрядно пообтрепались, из ожерелья, украшавшего ее грудь, кое-где повыпали самоцветы, и золотые скобки зияли пустотой, словно рот с выбитыми зубами. Лицо ее было увядающим, хотя в чертах сохранилась былая красота: вообще, глядя на нее, можно было сказать, что некогда она была невероятная красавица, даром что татарка узкоглазая. Она металась, металась, прижимая руки к груди, а потом вдруг упала на колени и принялась биться лбом в землю. И что-то царапала по пыли пальцами. Я пригляделась – и вижу, что это какие-то перечеркнутые кресты, а между ними словно бы цифры. Я смотрела, смотрела, но ничего не разглядела толком, вроде бы 26, то ли 25, а может, и 23 или даже 24, но, возможно, мне это лишь померещилось. И вот она вскочила на ноги, воздела руки, сжатые в кулаки, и принялась кричать, размахивая этими кулаками, плевала в разные стороны, и выражение ее лица было такое, с каким посылают проклятья самым страшным врагам. А за ее спиной, за завесою поднятой ею пыли, маячили очертания минаретов и какой-то высокой покосившейся башни – мне она напомнила наклонную Пизанскую башню, которую я видела, когда мы путешествовали с родителями по Италии. Потом женщина вдруг замерла с широко открытым ртом – да и рухнула лицом вниз, дернулась несколько раз и осталась недвижима. Пыль медленно оседала на ее одежду, на рыжий мех, на жесткие змеиные косы, и очертания покосившейся башни растаяли… постепенно все стало серым – и я проснулась, дрожа. Не скоро мне в ту ночь снова удалось заснуть, но сон не померк, и утром, когда пошел дождь и прогулка наша отменилась, Котя хотела усадить меня за математику: делать дополнительные задания, которые мне были заданы на лето, – а я сказала, что хочу рисовать. Котя к моим занятиям рисованием благоволила, потому что некоторые из работ мы выставляли на благотворительных базарах, их очень хорошо раскупали… Вот любопытно, сохранились ли у кого-то в России мои рисунки или сгорели в том пожаре, в котором сгорела вся наша прежняя жизнь? Да, наверное…
Ну, словом, я выговорила у Коти позволения порисовать и села за свои краски. Садясь, я и сама не знала, что именно стану рисовать, однако какая-то сила словно бы водила моей рукой. Я не без изумления обнаружила, что изображаю свой сон, эту женщину-лисицу с косами-змеями, исцарапанную неясными числами пыльную землю – и косой силуэт башни за ее спиной. Мне прежде лучше удавались пейзажи, чем портреты или фигуры. А если я рисовала лица, то изображала всякие фантастические образы с огромными глазами и странными взорами каких-то нездешних существ. А эта женщина мне удалась. И еще – моим рисункам обычно были свойственны глубокое спокойствие и даже некая неземная благость. Феликс этому всегда дивился, моему примирению с жизнью дивился, сам такого же пожелал для себя и однажды, помню, мы тогда уже были в эмиграции и жили на Корсике, в Кальви, в своем чудном доме, купленном баснословно задешево, вдруг сам принялся рисовать. Приступил к этой затее с жаром, как приступал ко всему в своей жизни, но точно так же скоро и охладел, потому что еще пуще от рисунков своих растревоживался. Получались у него на бумаге черти и чудовища, родичи химер, мучивших воображение средневековых скульпторов и художников. Как он сам это называл, кошмарные виденья. Феликс злился:
– Это я-то, любитель красоты во всех видах, стал создателем монстров!
Да, чудилось, некая злая сила, поселившись в нем, владела его рукой, рисовала помимо его воли. Он сам в точности и не знал, что сейчас нарисует. В конце концов он создал серию рисунков, отображающих человеческие чувства: желание, зависть, безразличие, удивление, сомнение и тому подобное, – да и бросил свои рисовальные затеи. Конечно, не преминул показать рисунки профессионалам, которые в лицо их расхвалили за технику, а заглазно пожали плечами, как это часто бывало при общении с Феликсом… Но не о том сейчас разговор.