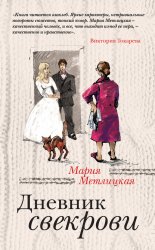Аристономия Акунин Борис
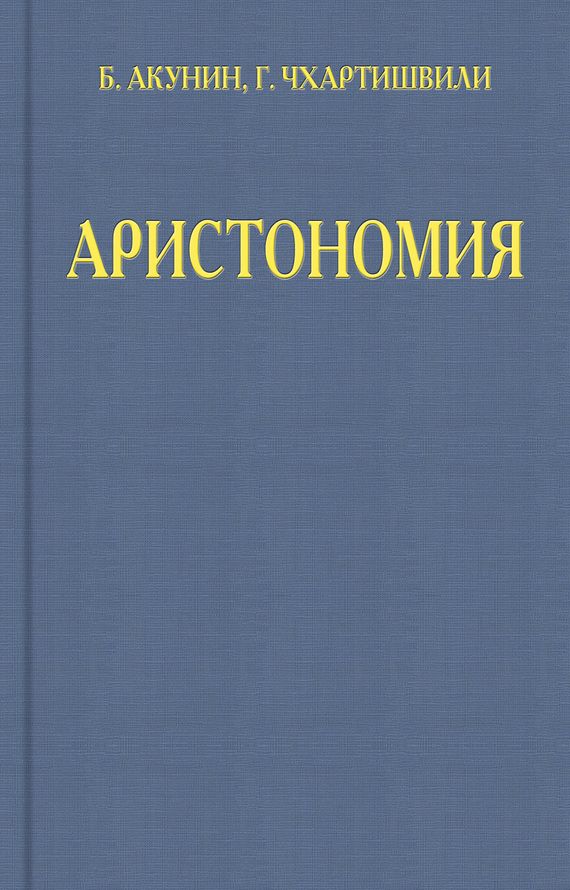
Первый месяц всё казалось, что это чудесный сон, что неминуемо пробуждение: сейчас продерешь глаза – и ледяная постель, сумрак, подсасывание в желудке, товарищ Шмаков в туалете громко поет про враждебные вихри.
Потом всё встало на свои места, мир перевернулся с головы на ноги, сознание перестроилось под новую реальность, и стало ясно – это Россия была дурным сном, кошмаром. Разве бывает, что в доме нет света и отопления, что магазины заколочены, а по улице нужно ходить, опасливо оглядываясь?
Нормально – это когда сходишь с ума из-за того, что болен и может умереть один человек, а когда вокруг каждый день гибнут тысячи и тебе всё равно, это называется сумасшествием, дикостью, бредом.
Или как?
Одно из двух. Либо настоящая жизнь – Цюрих, а прочее – химеры больного сознания, либо настоящее – рассказ Василевского, и тогда получается…
Но нет, думать об этом сегодня не было сил. Потом, завтра.
Кажется, с Россией покончено, там катастрофа, но вовсе не из-за этого Антон не мог ночью сомкнуть глаз. Стыдно, неправильно зацикливаться на личном, когда Родина содрогается в предсмертных конвульсиях.
Остановившись на Бурклиплац возле гигантской рождественской елки, Антон заставил себя думать о гибнущей Родине.
Каких-то два месяца назад было ощущение, что кровавая драма близка к победному финалу. Не далее как к Новому году в России восстановится порядок. На востоке держал прочную оборону адмирал Колчак, сковывая основные силы Красной Армии. На западе генерал Юденич со своими балтийскими рыцарями был на самых подступах к Петрограду. Главный кулак, армии генерала Деникина, стальным тараном двигались с юга: взяли Курск, Воронеж, Орел, подходили к Туле, откуда коннице оставалось два-три перехода до Москвы. Освобожденная Деникиным территория охватывала почти миллион квадратных километров, там проживало больше сорока миллионов человек. В газетах писали, что большевики впали в панику, одни готовятся к эвакуации в Вологду, другие к уходу в подполье.
И вдруг, ни с того ни с сего Белое Дело рассыпалось – непостижимо, фатально!
Юденич, дошедший аж до Пулкова, попятился в Эстонию. Колчак лишился Омска, своей столицы, а его армия начала таять. В середине ноября сначала остановились, а потом покатились назад деникинцы – оставили не только Курск, но и Харьков с Киевом. Отступление всё больше походило на бегство. Издалека невозможно было понять, что же, собственно, произошло. Будто колдовская сила наделила большевиков могуществом и сгубила белое воинство своими злыми чарами. Позавчера стало известно, что славный Май-Маевский, командующий победоносной Добровольческой армией, снят и вместо него назначен какой-то барон фон Врангель. С ума они там, что ли, посходили? Барон, да еще «фон» во главе авангарда войск демократической России?
Но авангард теперь превратился в арьергард, а демократической России – вообще России – видимо, наступил конец.
Но Россия невероятно далеко. Ее, может быть, вовсе не существует. Разве что в газетах да диких рассказах прапорщика Василевского.
А Цюрих – вот он, самый что ни на есть настоящий, и с каждым мигом всё выпуклей, зримей, потому что из-за холма Дольдер наконец выглянуло солнце, заискрило шпилями, прочертило по долине перламутровую полосу реки, зарябило блестками на глади озера.
Девятый час. Пора поворачивать обратно.
Клерки уже расселись по конторам. Теперь на набережную Лиммата вышли старики, прогуливать собак. Как много здесь стариков! В Швейцарии живут долго.
Почти всех встречных Антон уже видал прежде, когда выходил прогуляться перед завтраком. И встречные тоже его узнавали, приветствовали коротким Grezi, а он отвечал на стандартном немецком Grss Gott. Взял за привычку говорить только на хохдойч и даже не пытался объясняться на здешнем диалекте, потому что чистого цюритютч всё равно не освоишь, да и воспитанные туземцы никогда его не употребляют в беседе с иностранцем.
Идиллический променад, благожелательные улыбки, не гавкающие, а лишь повиливающие хвостом псы. Европа дымится в руинах, центр континента в хаосе, восток в огне, разожравшаяся во время мировой войны Смерть никак не насытится – набивает свое бездонное брюхо жертвами испанки и тифа, в Мексике революция, в Америке стачки, а здесь всё так мирно, разумно, достойно. Через четверть века, когда заживут страшные раны и вырастет новое поколение, не знавшее войн и революций, такою же, наверное, станет вся Европа. Россия – в лучшем случае через сто лет, и то вряд ли. Скорее всего, она рассыплется и сгинет в самые ближайшие годы, потому что большевикам мало свести с ума одну страну, им подавай пожар мировой революции. Весь мир они, конечно, не подожгут, но свой разоренный дом спалят дотла.
А вот вопрос. Нельзя ли одному отдельно взятому человеку превратиться в этакую двуногую Гельветическую республику, возвести вокруг себя Альпийские горы и загородиться ими от мыслей о Родине, которая, в конце концов, пропадает по собственной вине?
Но человек – не страна. Он больше, чем страна. Для разума и чувства не существует границ с паспортным контролем и таможенными барьерами. А если их все-таки установить, то это, наверное, все равно что убить собственную душу. Даже то, что твоя страна гибнет, а ты издали ей сострадаешь, живя в безопасности и комфорте, уже стыд. Год назад, когда бежал из Петрограда, думалось: вырваться бы из этого ада, и даже не оглянусь, потому что там, позади, всё чужое. Но кто-то ведь остался, кто-то до сих пор пытается спасти Россию. В эту самую минуту, когда Антон Клобуков идет кушать свежие Brtli, белые рыцари гибнут в неравной схватке с темной силой.
Надо про это как следует подумать. Но не сегодня – завтра.
И Антон остановился посреди моста, зажмурился.
Завтра? Господи! Не завтра, а нынче вечером всё уже будет известно. Даже не вечером – раньше. Если начнется, как назначено, в два пополудни, то, верно, к четырем всё закончится.
К завтраку он спустился позже обычного, нарочно. Сегодня было бы трудно вести пустые утренние разговоры с соседями по столу.
Фонд снял Антону гарсоньерку в новом респектабельном доме, на высоком берегу Лиммата, с чудесным видом на реку, старый город и пологую гору Ютлиберг, возвышающуюся над Цюрихом с противоположной стороны. Две комнаты, собственная ванная, но без кухни. Пансион на Вальхерштрассе предназначался для холостых мужчин, у которых нет времени на домашние заботы, но есть деньги. Хозяйка фрау Талер брала на себя все хлопоты: уборка, стирка, поливание цветов и, разумеется, табльдот – здоровое и вкусное питание (всего сорок девять франков в месяц за питательный завтрак и семьдесят девять, если с ужином).
Расчет позавтракать в одиночестве оказался верен лишь отчасти. Другие постояльцы действительно уже разошлись, но это означало – как он мог не сообразить, – что в столовой одна Магда, и уж с ней-то избежать разговора никак не получится, особенно в отсутствие свидетелей.
В обязанности Магды, дочери фрау Талер, входило следить, чтоб жильцы были всем довольны, а прислуга хорошо исполняла свои обязанности. Трудные и неприятные вопрос вроде задолженности за квартиру или неприличного поведения постояльцев (все-таки холостяки и случалось всякое) хозяйка решала сама – Магда для этого была недостаточно тверда и слишком юна. Однако Антон Клобуков у фрау числился в любимчиках, ибо жил тихо, платил аккуратно. Поэтому на дружбу единственной дочки с добропорядочным молодым человеком хозяйка смотрела благосклонно.
Антону, одичавшему после петроградских мытарств, напуганному видом гибнущей Германии, показалась небесным видением прелестная девушка с ясной улыбкой и открытым взглядом, дважды в неделю приходившая справляться, всем ли доволен «герр Клобукофф». Она была не то чтобы красавица, но очень, очень мила: голубые глаза серьезны и пытливы, кожа светится свежестью и здоровьем, а светлая коса уложена венцом, что очень шло к скуластому личику. Магда уверяла, что в ее жилах течет славянская кровь и что, по семейной легенде, Талеры происходят от суворовского солдата. Грудь у Магды была высокая, бедра – крутые, а пахло от девушки чем-то землянично-сливочным, как от довоенного торта «Поцелуй Купидона». Она снилась оттаивающему от потрясений эмигранту чуть не каждую ночь, и сны были всё такие, что за завтраком Антон боялся поднимать на Магду глаза – вдруг в них что-то такое прочтется?
Очарование Магды состояло даже не в миловидности. Антону она представлялась неким апофеозом солнечности, простого и ясного счастья – того, по чему он тосковал в России. Паша тоже когда-то рисовалась простой и ясной, однако в ней всегда ощущалась некая подспудная обиженность, готовность дать отпор, не отдать своего, а при случае и оттяпать чужое. Но Магда не знала лишений, в детстве ее никто не унижал, в ранней юности никто не обманывал, и потому она была доверчива, открыта, ко всем добра. Судила о вещах очень здраво, но Антон ни разу не слышал, чтоб она кого-то осуждала. Даже про мсье Фабиана, пренеприятного коммивояжера из Женевы, который вечно придирался к прислуге и затевал скандалы, Магда говорила: «Должно быть, у него в жизни произошла какая-то беда, испортившая ему характер».
Мало кто из обитателей холостяцкого пансиона остался равнодушен к прелестям Магды, многие пытались за ней ухаживать. Она была с каждым мила, но охотнее всего общалась с Антоном.
Первоначально это было просто любопытство к русскому – из-за мифического предка-суворовца. (Антон с удивлением обнаружил, что швейцарцы вообще очень чтут Суворова – очевидно, из-за того, что Альпийский поход генералиссимуса был последней большой войной в пресной швейцарской истории.) Магда задавала много вопросов про Россию. Приоткрыв ротик и округлив глаза, слушала рассказы о революции. Когда Антон описал ужасы террора, расплакалась и потом, как выяснилось, не спала целую ночь. Однако осталась верна себе – наутро сказала про чекистов: «Они так себя ведут, потому что их предков, крепостных серфов, мучили жестокие помещики». Сердце у Антона затрепетало от нежности.
Его трогало в ней даже абсолютное отсутствие чувства юмора. Антон и сам был не бог весть какой остроумец, однако нечасто встретишь человека, который всё понимает буквально. Пошутишь с Магдой – наморщит чистый лоб, переспросит: «Erlich?!»[6] Притом была она совсем не глупа. Наверное, такие же серьезные и чистые девушки окружали Жан-Жака, когда он писал «Новую Элоизу», думал Антон с влюбленной улыбкой.
Одно время он пробовал взять игривый тон, говорить полунамеками. В жанре флирта Антон был довольно неуклюж, но по сравнению с Магдой – прямо виконт де Вальмон. Ноябрьским воскресеньем они поднялись по канатной дороге на Ютлиберг, полюбоваться листвой. Магда раскраснелась от ходьбы и стала немыслимо хороша. Неудержимо захотелось ее поцеловать. Антон поднял пунцовый кленовый лист, прижал к губам. «Что это вы сделали, зачем? – удивилась она. – Он же нечистый, он лежал на земле!» Антон тоном заправского таланта ответил: «Этот листок такого же цвета, как ваша щека». Наморщив ясный лоб, Магда сделала вывод: «Вы хотите сказать, что вам хочется поцеловать мою щеку?»
Он засмеялся и привлек ее к себе. Девушка не оттолкнула его, но и не подалась навстречу. Смотрела ему в глаза так серьезно, что пришлось разжать объятья. «Поцелуй – это не пустяк, это переход к совершенно другим отношениям, – тихо и серьезно сказала Магда. – Вы мне нравитесь, но я недостаточно вас знаю. Я чувствую в вас что-то неясное и, пожалуй, опасное. Иногда мне кажется, что вы такой же, как все мы. А иногда – будто вы способны совершить нечто совсем-совсем неожиданное, и от этого мне делается тревожно». Он был и удивлен, и польщен. Вот уж не подозревал, что может производить подобное впечатление!
«Пожалуйста, не будем спешить, – еще тише попросила она. – Ведь мы оба так молоды. Узнаем друг друга лучше». И потом улыбнулась – такой улыбкой, что обидеться невозможно, но и целоваться уже не полезешь. Был в Магде какой-то удивительный такт: естественный, природный. Нет, в самом деле, совершенно чудесная девушка.
Однако вскоре после несостоявшегося поцелуя в жизнь Антона вошли Рэндомы, и розовощекая простушка сниться ему перестала. Прекратились совместные прогулки, потому что теперь он мало бывал дома. Антон по-прежнему относился к Магде с приязнью и при встрече с удовольствием вступал в разговор, но времени хватало лишь перекинуться парой слов. Когда Магда спросила, чем он в последнее время так занят, Антон охотно объяснил. Девушка отнеслась с пониманием и даже почтением, всякий раз интересовалась, как дела в госпитале, однако взгляд ее становился всё вопросительней, всё задумчивей.
Недавно, вернувшись вечером, Антон обнаружил, что у него в гостиной повсюду стоят горшки с цветами, очень красивыми. Магда выяснила, что в России есть традиция праздновать именины, а поскольку не так давно был день памяти святого Антона, решила сделать подарок. Теперь у нее появился предлог приходить каждый день, чтобы поливать цветы, и проделывала она эту процедуру, лишь когда постоялец находился дома. Но долгого разговора все равно не получалось. Антон немедленно утыкался в бумаги, принимал чрезвычайно сосредоточенный вид, а Магда была слишком деликатна, чтоб отвлекать занятого человека от важной работы. Она вздыхала, ударяла лейкой о горшки. Антону становилось совестно, но вступать в беседу было скучно и ни к чему. И вообще, зачем морочить голову хорошей девушке? Со временем сама поймет, что он утратил к ней интерес, и успокоится.
Несколько дней назад Магда заметила, что на столе у него появился портрет Веры Холодной. Спросила, кто это. Он ответил: гениальная киноактриса, недавно умерла от испанки. Магда вздохнула: «Как это печально. Такая красивая!» А назавтра он ее едва узнал: остригла свою чудесную косу и покрасила волосы в темный цвет – как у Холодной.
«Вам нравится?» – «Да, – соврал он, потому что прическа Магде совсем не шла. – Но… Но как к этому отнеслась ваша матушка?» – «Она со мной теперь не разговаривает!» – со смехом ответила Магда, очень довольная.
Вот почему, войдя в столовую и увидев, что там нет никого кроме Магды, Антон внутренне чертыхнулся.
Наливая кофе, она спросила:
– Ночью у вас горел свет. Вы разговаривали с вашим соотечественником? Он рассказывал про войну в России? Я так жалела, что тоже не могу послушать. Вы ведь перескажете мне новости? Вы знаете, как меня волнуют российские события.
– Конечно. Но не сейчас. Вы знаете, какой сегодня день. Я волнуюсь.
– Да-да, конечно, – поспешно согласилась она. – Мы поговорим после. Я буду молиться, чтобы всё прошло благополучно и чтобы сегодняшний день вошел в историю науки. Вам нужно плотно позавтракать, вряд ли вы сможете пообедать. Ешьте, ешьте, я не буду вам мешать.
И села напротив, подперев щеку.
Она была права. Нужно поесть как следует. Сегодня необходимо быть сильным, нужно буквально излучать силу. В такой нервный день, после бессонной ночи это будет нелегко.
Поднявшись к себе, он оделся очень тщательно, как всякое утро в последние две недели. Распечатал свежую рубашку из новой дюжины, пристегнул воротничок, выбрал строгий, но не черный (нет-нет!) галстук. Никогда прежде он не проводил столько времени перед зеркалом, как в эти дни.
Дверь в спальню была закрыта, оттуда доносилось похрапывание. Василевский наговорился всласть и теперь отсыпался на Антоновой постели, а хозяин провел остаток ночи в гостиной, на диване, так и не сомкнув глаз.
В дверь тихонько постучали. Антон вздохнул. Магда – больше некому.
– Войдите.
Так и есть. Бледная, на щеках красные пятна, вид решительный. Подошла к столу, села, сжатые кулачки положила на стол.
– Я знаю, как вы готовились к сегодняшнему дню… И как это важно для науки. Но я должна вам что-то сказать…
Он приложил палец к губам, показав на дверь спальни. Не помогло. Магда лишь понизила голос.
– Я буду говорить тихо, ваш гость не услышит. Вы только не перебивайте, мне и так трудно…
Она смотрела на поверхность стола, не поднимала глаз.
– Я стала думать про вас после той прогулки… – И кивнула на окно, в котором виднелся дальний Ютлиберг. – Я очень много про вас думала. И поняла… что я люблю вас. Вот именно: люблю. – Теперь она подняла глаза, но лишь на секунду. Покраснела, снова опустила взгляд. – Я ждала, что вы сами каким-то образом… Но вы начали будто избегать меня. Даже перестали смотреть в мою сторону, а если смотрите, то совсем не так, как прежде. Это удивляло и… мучило меня. Я не знала, что думать. Не может же быть, чтобы мужчина месяц назад, даже меньше чем месяц, испытывал к девушке серьезные чувства, а потом вдруг перестал?
Снова она взглянула на него, и сейчас уже Антон был вынужден отвести глаза. Это придало Магде смелости.
– У меня есть подруга, хорошая подруга. Я, может быть, рассказывала вам о ней? Клара Зауэр.
Кажется, рассказывала. Какую-то романтическую историю про то, как один их постоялец женился на кельнерше из ресторана и как Магда подружилась с этой женщиной.
– Клара старше, она знает жизнь. И мужчин. Я решилась спросить у нее совета… И она мне всё объяснила. – Магда кашлянула и быстро-быстро, скороговоркой произнесла. – Клара сказала, что мужчины устроены иначе, чем мы. Что для них, то есть для вас, очень важна физиология. Вы не виноваты, вас такими сделала природа. И если вы не получаете то, что вам так необходимо, отношения утрачивают для вас смысл… Вы ведь понимаете, о чем я?
Антон замигал.
– Кажется, понимаю, но уверяю вас…
Она вскинула ладонь.
– Нет-нет, молчите. Я всё решила. Раз я вас люблю, не имеет значения, когда это случится. Я не ханжа. Знайте: я готова. Мне нужно было сказать вам это непременно сейчас, потому что матери нынче ночью не будет. Она уезжает навестить тетю Грету в Базель. Я буду одна и оставлю дверь незапертой… Ну вот, я всё и сказала.
Кажется, ей ужасно хотелось опять спрятать взгляд, но еще больше она желала видеть его реакцию. По тому, каким горячим сделалось лицо, Антон догадался, что краснеет. Что за идиотское положение – оказаться в роли целомудренного Иосифа!
Магда поднялась.
– Вы не ждали этого. Вы изумлены. Ничего сейчас не говорите. Вообще – не нужно никаких слов. Если ночью вы не придете – я и так всё пойму.
Она бросилась к двери, но на пороге оглянулась.
– Я буду молиться, чтобы в клинике всё сложилось так, как вам хочется. И чтоб сегодня ночью вы пришли ко мне счастливым.
Выскользнула в коридор, но дверь прикрыла беззвучно – даже в минуту крайнего волнения не забыла о спящем.
В любой другой день эта сцена взволновала бы Антона гораздо сильнее. Сейчас же он чувствовал лишь смущение и, конечно, был тронут ее храбростью. Но как только Магда помянула о сегодняшней ночи, в голове мелькнуло: «к тому времени всё будет известно» – и ни о чем другом он думать уже не мог.
Ну, пора идти.
Спускаясь по лестнице, Антон вспомнил, что обещал Рэндомам сделать памятный снимок. Черт! Фотокамера на полке в платяном шкафу, а шкаф-то в спальне.
Вернулся. К спальне приблизился на цыпочках, ручку двери повернул очень медленно. Если гость проснется, придется вступать в разговор, а поговорить Василевский любит. Должно быть, нервная разрядка после всего, что он пережил.
Но прапорщик спал крепко, по-детски причмокивая губами. Левая рука подложена под щеку, но правая – поверх одеяла, черная повязка на ночь снята, и видно культю с багровым рубцом на месте кисти.
Примерно раз в месяц от Бердышева приезжали эмиссары, привозили спецификации по заказам и запечатанные пакеты с какими-то финансовыми инструкциями для вице-директора Фонда, господина Нагеля (Антон в эти дебри и носа не совал). Обычно роль посланца исполнял кто-то, кого Петр Кириллович решил переправить подальше от войны – как в свое время Антона. Или это мог быть раненый офицер, нуждающийся в дополнительном квалифицированном лечении.
Василевский относился ко второй категории. Ему требовался хороший протез вместо ампутированной руки. Неделю назад прапорщик выписался из новороссийского госпиталя, сел на пароход. Доплыл до Триеста, оттуда – поездом.
Вчера, когда Василевский явился в чинную контору на Вайнбергштрассе в облезлой кубанке и длинной кавалерийской шинели явно с чужого плеча, он выглядел пришельцем с другой планеты. Сам сказал, что никак не может опомниться, всё случилось будто с разбега – и действительно, ни минуты не мог оставаться без движения. Вскакивал со стула, размахивал куцей рукой, слишком много говорил, слишком громко смеялся. Было в повадках и возбужденном лице эмиссара нечто такое, отчего Антон решил хотя бы на первую ночь приютить его. Пусть немного придет в себя, освоится, а то будет вот так же метаться по гостинице, навязываться в собеседники незнакомым равнодушным людям. И потом, нужно его привести в приличный вид. Нельзя же ходить по Цюриху таким пугалом. В бюджете Фонда есть специальная статья на экипировку приезжающих.
Было еще одно соображение, эгоистическое. Антон догадывался, что ночью не сможет уснуть. Так не лучше ли отвлечься от тягостных мыслей беседой, послушать о том, что происходит на Родине?
Чего-чего, а рассказов о Родине ночью он наслушался.
Прапорщик Василевский (который, впрочем, чуть не с первого слова попросил называть его «Митя») был почти ровесник, годом младше, и тоже бывший первокурсник-юрист, только из Харьковского университета. В Добрармии он прослужил три месяца: поступил вольноопределяющимся в конце июня, а в конце сентября был списан из-за тяжелого ранения.
Антону не раз доводилось выслушивать рассказы людей, вырвавшихся из России. У каждого была своя душераздирающая эпопея, но впервые довелось столкнуться с человеком, что называется, прямо из окопов – хотя на этой хаотичной, перемещающейся с места на место войне собственно окопов, кажется, почти не рыли.
Митя Василевский мог говорить только о войне и больше ни о чем. Он был до такой степени переполнен своими недавними переживаниями, что будто начисто забыл всю предшествующую жизнь. На вопросы о мирном времени прапорщик отвечал рассеянно, словно о чем-то ненастоящем.
– Никто тут в Европе ни черта не понимает про нашу войну. В Триесте, пока ждал поезда, сгонял я в кинематограф. Ужасно люблю, а у нас там если и показывали что-нибудь, то одно старье. Я, знаете, Теду Бару невыносимо обожаю. Смотрели фильму «Саломея»? Как она танец перед Иродом исполняет? Ой, ну что вы! Обязательно посмотрите!..Так я про Триест. Гляжу – фильма про нас, добровольцев: «Белые рыцари» называется. Пошел. Господи, ну и чушь! Комиссары, положим, похожи: кожаные, с «маузерами», жуткие. Я насмотрелся на них в Харькове. Наши без длинных бород, конечно, а так похожи. Но вот добровольцы – смех и слезы! Чистенькие, лощеные, аксельбанты-эполеты, черкески со сверкающими газырями, проборы на бриллиантине. Видели бы киносъемщики, что у нас за армия! Поглядеть – сброд, оборванцы. Я когда записывался вольнопером в Офицерский Симферопольский полк, думал, обмундирование выдадут. Держи карман! Все три месяца провоевал в собственном пиджачишке. Когда меня в офицеры произвели, пришил сверху солдатские погоны, нарисовал химическим карандашом полоску, звездочку. Еще товарищи подарили фуражку с кокардой. А шинель эту и кубанку мне уже в госпитале выдали, когда выписывался. От покойника остались. Как я мечтал, что у меня «маузер» будет, или хоть «наган» завалященький. Дудки! Так и не разжился ничем кроме ободранной трехлинейки. Одного не пойму – как это мы, голодранцы, столько времени против большевистских орд провоевали, еще умудрялись им шею мылить. Загадка! Просто у них порядку еще меньше, чем у нас. Числом давят.
Здесь Василевский стал довольно ловко одной рукой набивать папиросу и впервые сделал паузу. Появилась возможность задать вопрос, не дававший Антону покоя.
– Вы же шли прямо на Москву, были чуть не в двухстах верстах! Сколько я ни читал газет, так и не понял, из-за чего случилась катастрофа?
– Махно, – уверенно ответил Митя, пыхтя папиросой. – Про это никто не напишет. Потому что стыдно. Как это – мужичье навозное, хохляцкий сброд белым рыцарям хребет сломали… Наши генералы-умники сами виноваты. Махну в грош не ставили, думали его одной дивизией удержать, а все остальные силы – вперед, скорей, на Москву. Но у Махны армия не чета большевистской. Дерутся, не драпают. Потому что свой дом защищают. Ну и вмазали нам сбоку, поддых – и так капитально, что мы пополам скрючились и больше уж не разогнулись.
– Неужели Махно?
Антону не верилось. Это имя он слышал, но чтоб деникинское наступление сорвал какой-то анархистский атаман? И, главное, чтоб никто из репортеров об этом ни слова? Сомнительно.
Но Василевский говорил об этом как о чем-то давно и широко известном.
– Ну да. В сражении под Уманью всё решилось. Я там был, еле ноги унес. А руку нет. – Он обрадованно засмеялся. – Смешно получилось: ноги унес, а руку не унес. Что руку – там весь наш Симферопольский Офицерский лег. Хотите расскажу?
И, не дожидаясь ответа, начал рассказывать про сражение, из-за которого, по его убеждению, белая армия проиграла войну. Антон где-то читал, что всякому раненому кажется, будто судьба войны определилась именно в том бою, где он пережил боль и ужас смерти. Однако слушал не особенно складную повесть, забыв обо всем на свете – даже о том, что произойдет завтра. В этом смысле идея приютить гостя себя оправдала.
Сначала, пока Митя пытался обрисовать стратегическое значение битвы и чертил пальцем по столу передвижение войск, было не особенно понятно. Антон уразумел лишь, что генерал Слащов взял махновскую армию в кольцо, но атаман внезапно «выкинул штуку»: вместо того, чтоб прорываться на запад, подальше от врага, взял да ударил на восток, навстречу, где его не ждали, вонзился в растрепанные части преследователей, «как штык в мягкое брюхо», и развалил весь белый фронт. А полк, в котором служил Василевский, оказался на самом острие махновского «штыка».
– …Наш второй батальон считался образцовым. Во-первых, здоровенный. Шесть рот, почти четыреста штыков – в иных полках людей было меньше. И командир у нас был настоящий четкий офицер: когда надо – сталь, когда можно – душа-человек, не «господин капитан», а просто Борис Петрович. После взятия Елисаветграда нашему батальону шестьдесят две награды досталось! Меня в прапорщики произвели. Фуражку подарили, с настоящей кокардой. Ну про это я уже рассказывал. Отличный бой был под Елисаветградом, я вам про него после обязательно расскажу. Но по сравнению с четырнадцатым числом (по-вашему, по-европейскому, двадцать седьмое, что ли, получается) – конечно, ничего особенного, прогулочка. Вот двадцать седьмого…
Митя для пущей выразительности замотал головой, как бы не находя достаточно сильных слов, чтоб описать бой двадцать седьмого сентября.
– Как они повалили с утра – всё поле черным-черно от коней и тачанок. Главное, мы никак в толк не возьмем, откуда их столько взялось и почему так нагло прут, ведь раньше всё драпали. А это у Махно, мне после рассказали, главным советчиком какой-то полковник немецкого генштаба. Это он всё придумал. Собрал кулак и ударил, а у нас между соседними полками дыра чуть не в сорок верст. Но, может, про полковника и врут, не знаю. Я вам расскажу, что своими глазами видел.
Соседей справа и слева раньше сшибли. Отступили они, а мы держимся. Только глядим: паршивые дела, обтекают они нас с обеих сторон. Наш Борис Петрович вдоль по цепи прошелся, в рост, стеком помахивает, пули над ним так и свищут, а ему хоть бы что. Красота! И спокойно так, каждому взводу: «Господа, говорит, отходим поротно вон к тому лесу». Мы сначала отступали, как на учении. Одна рота прикрывает, остальные перебегают. Потом отходит замыкающая – ее прикрывают. Раненых уносим, с убитых забираем документы. Лес – вон он, недалеко. Конные туда не сунутся. Не особенно и страшно было. Даже весело. Идем полем, по пашне. Земля рыхлая, выворочена пластами – озимые засеяны. Мы даже радовались, что распахано – тачанкам не проехать. Это потом уже… Нет, я закончу про лес. Добрались мы до него, дух перевели. Думаем, теперь легче будет. По ту сторону деревня, в ней казачий полк стоял, поддержит. Стоять-то стоял, да пока мы до деревни добрались… – Митя махнул рукой. – Ка-ак по нам оттуда вдарят из пулеметов! Каюк, поворачивать надо. Передают приказ по колонне: к реке идем, до переправы. Займем там оборону, не сунутся. До переправы, так до переправы. Снова рассредоточились в ротные цепи. Бандиты то налетят, то отхлынут – залпов боятся. Но стреляем уже редко, патронов мало.
Видим впереди переправу. Спасены, думаем. Ан хрена с два! – Митя засмеялся, будто в восхищении от такого коварства судьбы. – Да-дах, да-дах по нам шрапнелью. Не наша уже переправа! Это совсем беда. Что делать? Заметались мы по полю, и тут уж не до веселья, по-настоящему страшно стало. Наш капитан, Борис Петрович, стоит спокойно, в карту-трехверстку смотрит. Мы ведь и местности толком не знаем, накануне тридцать верст форсированным отмахали.
Приказ: двигаться вдоль реки на юг, будем брод искать. А какой к бесу брод? Река широкая, от дождей разбухла вся.
Вот как брели по размокшей пахоте по-над берегом – это мне до смерти сниться будет. Будто в кошмарном сне, знаете: земля липкая, жирная – хваленый чернозем, будь он проклят. На каждом сапоге по полпуда. И конца не видно. Тащимся, тащимся, тащимся. После мне сказали – двадцать верст мы так прошли. Махновцы сзади и по бокам, тучей прямо. Стрельба редкая. У нас по одной-две обоймы осталось. Они тоже патроны израсходовали. Но у них гранат много. Налетят верхами шагов на сорок и швыряют. Мы жиденько пальнем – отхлынут. А кого-то из наших осколками таки побьет. И снова, и снова, и снова.
Вот когда скверно стало. Кто насмерть – ладно, царствие небесное. Но раненых тащить сил нет. Сдаваться живьем нельзя – все равно убьют, только сначала замучают. Ну и за спиной что ни минута: пиф-паф. Стреляются раненые, кто идти не может. Ох, и позавидовал же я счастливцам, у кого пистолет или револьвер есть. Потому что если нет – что же, штыком закалываться? Это, скажу я вам, не сахар, уметь надо. Поэтому к каждому, кто застрелился, по нескольку человек кидалось, оружие взять. Кое-кому везло, а мне шиш. Раз достался мне «кольт», да с пустым барабаном. Выкинул, лишняя тяжесть.
Отупел я как-то от этого пиф-паф, чмок-чмок, чавк-чавк. Всё равно сделалось.
Вдруг оживление. Снова капитан стеком машет, на деревеньку впереди показывает. А там река пошире разлилась, и валуны из нее торчат – значит, брод должен быть. «Подтянись!» Подтянулись. Из деревни бьют залпами, но это пускай. Борис Петрович кричит: «Господа, в атаку!»
Нас, может, четверть осталась. Но – штыки вперед, рванули. Не столько бежим, сколько падаем, еще и дождь полил. Он, может, и помог. Видимости никакой, по нам целиться трудно. Ну и орали мы, я думаю, мороз по коже. Не «ура», а по-волчьи.
Взяли деревню. Из нее по полю дерут какие-то, гурьбой, так и не поняли кто – махновцы или просто местные. Стрелять им вслед нечем, гоняться нет сил. Драпают, и ладно.
Проверили – точно, брод!
Наконец перебрались на другую сторону. Что вода по шею – плевать, мы и так были хоть выжимай. На том берегу капитан нас построил, пересчитал. Семьдесят восемь человек, от всего батальона.
А конные остались сзади. В реку не полезли, кони у них выдохлись. Дали они по нам залп – видно, из самых последних патронов. Еще двоих ранили.
Мы идем, этих двух, которых ранили, несем, а они почти и не стонут – понимают, как им повезло.
И вот доходим до шляха. По нему идти несравненно легче. Сами не верим, что всё кончилось.
Навстречу – колонна пехоты, штыки блестят. Подмога! Кричим, флагом машем – знамя полка у нас в батальоне было, вынесли. И вдруг колонна эта разворачивается и давай лупить в нас пачками!
Ошибка? За бандитов приняли?
Только смотрит капитан в бинокль – никакая не ошибка.
«Господа, кричит, в цепь!» Что толку, когда патронов нет? И потом, всему же есть предел. Силам, храбрости – всему.
Ну и побежали, кто куда. Я тоже. Обернулся – один Борис Петрович на дороге стоит. Вскинул руку, выстрел – упал.
Я уже не человек – заяц. Винтовку бросил, тяжелая. Ломлюсь через кусты, сам не знаю куда. И выскакиваю прямо на какого-то, в шинели, с черной полосой на папахе. Он – винтовку к плечу, наставил мне в грудь. Я только и успел рукой, ладонью, вот так сердце прикрыть. Глупо, конечно. А может, и не глупо. Доктор потом сказал, что это, может, пуля, раздробив кисть, немного траекторию сменила, и лишь по ребрам прошла. Повезло. А еще повезло, что не добили. Хотя чего добивать? Валяется человек, грудь прострелена. Натуральный мертвец. Не знаю. Я когда очнулся, темно было. От дождика очнулся. Лежу, где упал, только без сапог. Больно – ужас!
Перетянул кисть, ноги кое-как обмотал портянками. Побрел. Сначала норовил зарослями, потом плюнул, вышел на дорогу. Сил нет. Убьют так убьют. Несколько раз конные обгоняли, никто не тронул. А что я им? Фуражку выбросил, погоны свои химические сорвал. Штатский и штатский. Был бы в кителе или гимнастерке, капут. А так спасся.
Руку только вот жалко. Меня ведь только на третий день по-настоящему перевязали. Доктор говорит, хоть бы на сутки раньше. Но чего мелочиться – все равно несказанно повезло. Очень возможно, что из всего батальона, четыреста душ, я один живой остался. А в Швейцарии, сказали, умеют протезы делать – хоть письма пиши. На пианино, конечно, больше не поиграешь. Я, между прочим, неплохо играл, даже способности находили…
Так он говорил долго, без умолку, час за часом. Антон слышал не всё, иногда отключался, начинал думать о завтрашнем дне.
Наконец Митя заклевал носом, дал себя уложить в постель и немедленно уснул.
Антон же только поддремывал, кажется. Только начнет проваливаться – вскидывался. То перед глазами, близко, чавкала жирная, липкая земля, то моргали голые веки профессора Шницлера. И одно было жутко, и другое.
Перед «Эрмитажем» нужно было наведаться в Фонд. Все равно еще рановато – с Рэндомами условлено, что он придет в двенадцать. И все-таки служба есть служба. Герр Нагель несомненно уже изучил бумаги, привезенные Василевским, подготовил платежки на подпись.
Формально Гебхардт Нагель являлся вице-директором Фонда «Помросс», а директором числился Антон Клобуков. На самом же деле все дела вел заместитель, Антон лишь подписывал счета и заявки. Его директорство было фикцией, синекурой, вернее сказать – благотворительным жестом Петра Кирилловича. Нагель отлично справился бы со всеми делами и без своего горе-начальника.
Фонд «Помощь России», существующий чуть менее года, был создан для обеспечения насущных потребностей Белого Движения. В цюрихском банке хранились зарубежные авуары Бердышева, на эти деньги он собирался содержать семью. Однако еще в финляндском карантине Антон получил письмо, в котором Петр Кириллович сухо и лаконично сообщал, что след жены и дочери наконец найден. Еще минувшей весной они обе были высажены из поезда в Екатеринославе из-за признаков зараженности тифом. Похоронены в общей могиле, что подтверждается свидетельствами о смерти. «Они умерли в один и тот же день, 18 апреля, – писал Бердышев. – Это годовщина нашей с Зиной свадьбы». И сразу после этого, безо всякой паузы и даже без красной строки, переходил к делу: теперь нет смысла попусту держать деньги в банке, они станут основой фонда, который поможет здоровым силам России в их борьбе, а возглавит учреждение Антон – если, конечно, у него нет других планов.
Кроме Бердышева внесли вклад еще несколько промышленников с известными всей России именами, и вот уже десять месяцев «Помросс» снабжал правительство юга России припасами невоенного назначения. Швейцарские власти, не желая ссориться с левыми партиями, запрещали экспорт оружия или боеприпасов, но этого добра генералу Деникину и так хватало. Мировая война закончилась, склады держав ломились от всевозможных орудий смертоубийства, и поделиться с русскими союзниками для стран Антанты было нисколько не обременительно. Пароходы с пушками, винтовками, снарядами, патронами шли в Новороссийск и Крым один за другим. Совершенно непонятно, почему в полку, где воевал Митя Василевский, не хватало оружия. Должно быть, следствие обычной российской нераспорядительности, когда на складах густо, а на передовой пусто.
Выполняя заказы Бердышева, который после бегства с советской территории возглавил Промышленный комитет при деникинском Особом Совещании, Фонд поставлял медикаменты для госпиталей, бумагу для казенных типографий, продовольствие, обувь, мыло – всё на свете. У герра Нагеля были прекрасные связи в самых различных областях оптовой торговли, он умел добиваться невероятных скидок, а фрейляйн Коль, помимо секретарских обязанностей, отлично разбиралась в математике морских и железнодорожных сообщений. Финансово-бухгалтерскую работу они делили между собой. При таких помощниках Антону делать было нечего, да и какой от него, неумелого, мог быть прок? Поначалу он честно пытался обучиться коммерческой премудрости, однако быстро понял, что только создает лишние хлопоты. Терзаясь сознанием своей никчемности, предложил герру Нагелю хотя бы поменяться должностями и кабинетами, однако швейцарец лишь недоуменно пожал плечами: «Правлению виднее, кого назначать директором, а наше с вами дело – добросовестно исполнять служебные обязанности. Я подготавливаю документы, вы их подписываете». Ни малейшей уязвленности своим положением Нагель не выказывал, и со временем Антон свыкся со статусом полубездельника. Приходил на работу поздно, подписывал накопившиеся документы и уходил. Свободного времени у него было много.
Квартиру для директора сняли недалеко от места службы. Всего пять минут требовалось, чтобы неторопливым шагом пройтись по зеленой улице, медленно поднимающейся вверх, потом взять влево, круче, и оказаться на Вайнбергштрассе, где в импозантном доме с колоннами, на приличном, третьем этаже располагалась контора «Помросса». Из окна директорского кабинета открывался вид на уютный сквер и католическую церковь Богоматери, выстроенную в экзотичном для Цюриха романском стиле.
Фрейляйн Коль подняла над «ундервудом» голову с высокой прической, механически улыбнулась, поздоровалась, спросила, нет ли у герра директора каких-нибудь специальных распоряжений. Этот ритуал ею неукоснительно соблюдался каждый раз. Антон, как обычно, ответил: нет-нет, благодарю, – и прошел к себе.
Почти сразу же, постучав и дождавшись приглашения, вошел заместитель.
Это был тихоголосый бритый человек с мясистым лицом, на котором к концу рабочего дня начинала проступать щетина, за что Нагель (если Антон к концу дня еще находился на месте) неизменно извинялся и виновато объяснял, что волосы у него растут неестественно быстро и, в сущности, следовало бы бриться дважды в сутки. По-русски он говорил очень хорошо, потому что до войны работал у Бердышева в экспортном отделе.
Вице-директор сказал, что разобрал заявки, доставленные «бедным юношей». Эпитет «бедный» относился к увечью Василевского, а не к его обтрепанному виду – гонцы из Промышленного комитета частенько выглядели оборванцами.
– На этот раз всё довольно просто. Нужно закупить шприцы трех разных емкостей с набором игл. Я расписал количество и спецификации, подготовил заявки. Прошу подписать вот здесь… Благодарю. Вот здесь… Благодарю. И вот здесь. Премного благодарен. Далее… – Нагель подкладывал бумаги одну за другой, Антон едва успевал обмакивать ручку в чернильницу. – Это перевязочные материалы – как обычно… Лекарства по приложенному списку… Триста биноклей – думаю, мы сможем получить хорошую скидку, это довольно крупная партия… Единственное, с чем возможны трудности – заказ на пять тысяч швейцарских армейских палаток. Предлагаю закупить обычные туристические. Разрешение министерства обороны не потребуется, качеством они не хуже, а цвет можно выбрать любой, в том числе хаки. Вы не возражаете? Благодарю… – Заявка на палатки была уже отпечатана, и вопрос Нагель задал исключительно в церемониальных целях. – А кроме того, я позволил себе назначить для бедного юноши рандеву на завтра в ортопедической клинике доктора Келлера. Протез ведь будет изготовлен за счет Фонда? Я так и думал. Прошу также подписать распоряжение о выдаче господину Василевскому суточных и гостиничных. Если у вас нет возражений, мы поселим его в пансионе «Алте Цюри», там после нового года будет пятидесятипроцентная скидка.
Подписав все документы, Антон сказал:
– Если это всё, я пойду.
В ответ на это заместитель обычно лишь кивал и почтительно говорил:
– Как будет угодно господину директору.
Но сегодня он повел себя непривычным образом. Кашлянул, потер переносицу над дужкой очков.
– Да, я знаю, какой сегодня в клинике ответственный день. Мы с фрейляйн Коль это обсуждали. И я очень надеюсь, что все пройдет благополучно… – Нагель запнулся, что было уж совсем на него не похоже. – И еще, если мне будет позволено высказать мое мнение, я хотел сказать, господин директор, что в высшей степени одобряю ваш интерес к научным занятиям.
– В самом деле? – удивился Антон. За весь год совместной работы помощник ни разу не говорил с ним в таком тоне – всегда соблюдал дистанцию.
– Вам нужно позаботиться о будущем, Антон Маркович.
Даже не «господин директор»? Это уж просто какая-то революция!
– Вам нужна хорошая профессия. Вы извините, что вмешиваюсь не в свое дело. Но я много старше вас и, честно сказать, успел за этот год к вам привязаться.
Вот тебе и раз! Антон давно привык считать своего заместителя ходячим швейцарским хронометром, а хронометр вдруг взял и заговорил по-живому, совершенно по-русски, и даже глаза оказались не оловянно-деревянно-стеклянными, а вполне человеческими.
– Благодарю… – Антон и сконфузился, и растерялся. – Мне тоже очень хорошо с вами работается.
– О да. Но работа Фонда, если не случится чуда, через два или три месяца закончится. Я-то найду себе место, у меня широкие связи. И госпоже Коль всё время поступают хорошие предложения. Но вам, тем более в статусе иностранца, будет много трудней.
Ах вот он о чем.
– Вы полагаете, что в России через два-три месяца всё закончится и наш Фонд станет не нужен? Это правда. Очень возможно, что крах произойдет даже раньше.
Нагель удивленно приподнял брови:
– Нет-нет, я не про это. В политике я совсем ничего не смыслю. Моя стихия – цифры, хотя они, в отличие от всего остального, совсем не стихия.
Он вдруг улыбнулся и стал уже совсем человекообразен. Достал из кармашка золотые часы, открыл крышечку.
– Это мне русские сослуживцы подарили к пятидесятилетию, перед самой войной. Смешная надпись, правда?
На внутренней стороне было выгравировано: «Нет, не пишу стихи я, цыфирь – моя стихия».
Нагель вздохнул.
– Это были очень хорошие люди. Я часто думаю, что с ними сталось.
– Но если вы говорили не о войне, тогда о чем же?
Вице-директор снова удивился:
– Вы не следите за состоянием нашего счета? За десять месяцев мы потратили три миллиона четыреста сорок тысяч франков. Новых поступлений было на тринадцать тысяч. То есть кроме первоначальных пожертвований практически нет пополнений. И не предвидится. Скоро наша касса опустеет. Вот почему мы с госпожой Коль стали за вас беспокоиться. Признаюсь, мы часто о вас говорим, когда вы отсутствуете… – Нагель поспешно прибавил. – Это я не в упрек. Наоборот, мы очень рады, что вы увлеклись таким прекрасным делом. Вы молоды, вам нужно хорошее образование. Надеюсь, вы были достаточно благоразумны, чтобы откладывать часть жалованья на черный день?
Нет, Антон не был достаточно благоразумен. Ему и в голову не приходило что-то откладывать. А его мысли о будущем в последнее время не простирались дальше 23 декабря.
Покинув контору, он сразу забыл и о добром совете герра Нагеля, и о надвигающемся финансовом коллапсе.
Половина двенадцатого.
Когда он поднимался по лестнице на университетский холм, отчаянно заколотилось сердце, и причина была не в крутизне подъема.
Клиника при медицинском факультете по праву считалась одной из лучших в мире, с превосходным персоналом и самым современным оборудованием.
Куно Шницлер, любивший бравировать цинизмом, часто повторял, что мировой войне врачебная наука должна сказать спасибо, и в особенности швейцарская. Какой прорыв в хирургии и всех смежных областях! Сколько открытий! А какой приток финансирования!
Швейцарская медицина и в самом деле очень развилась и разбогатела за годы европейского взаимоистребления. Клиники были заполнены, но не переполнены – не то что в госпиталях воюющих стран, где койки стояли в коридорах и не хватало ни врачей, ни сестер, ни медикаментов. О полевых лазаретах нечего и говорить: это был просто сплошной кровавый конвейер. Там было не до поиска новых методик и препаратов.
В Швейцарию же поступали раненые, требующие вдумчивого, сложного, часто экспериментального лечения. И, само собой, могущие за него заплатить. Если до 1914 года маленькая альпийская страна в медицинском отношении славилась разве что своими туберкулезными санаториями, то теперь авторитет ее клиник многократно возрос.
Антону всегда нравилась профессия врача, но сугубо умозрительно. Он даже попробовал работать в военном госпитале медбратом, но помешала проклятая чувствительность к виду истерзанной плоти и человеческим страданиям. Он думал, что никогда не преодолеет этот эмоциональный барьер. А Шницлер на одной из самых первых лекций сказал: «В мою бытность студентом в меня вдолбили, что пациент, которого ты режешь, не человек, а кусок говядины. Только так и можно относиться к оперируемому, когда он на столе. Иначе твои движения будут скованы, внимание расвеяно, ты лишишься легкости и вдохновения, а это губительно для больного. Учтите к тому же, господа, что во времена моего студенчества с анестезией было совсем скверно, и „кусок говядины“, случалось, орал у тебя под ножом дурным голосом. Сейчас-то резать одно удовольствие». Как ни странно, совет оказался неплох. Антон постепенно научился смотреть на оперируемого «как на объект, а не субъект» (это выражение ему нравилось больше, чем мясницкая метафора). Когда у человека под наркозом отключено сознание, он ведь, в сущности, и есть всего лишь физическое тело.
Анестезия была у Куно Шницлера любимым коньком, он ставил ее выше хирургии, которую часто сравнивал с портняжным делом, хотя сам был оператором от бога. Если правда, что у каждого человека есть одна главная черта, дающая ключ к пониманию личности, то Шницлера можно было свести к простой формуле: это был человек-движение, не способный останавливаться и успокаиваться на достигнутом. Тридцать лет он был счастлив и спокоен, осваивая и оттачивая искусство хирурга. Всё подчинялось этой цели. Он не завел семьи, не имел никакого хобби. Правда, виртуозно играл на фортепиано, но лишь для того, чтобы лучше разработать пальцы.
И вдруг на пороге пятидесятилетия Шницлер понял, что лучше оперировать он никогда не будет – достиг своего потолка. Всё, дальше двигаться некуда. Он – заведующий кафедрой, ведущий хирург университетской клиники, но ничем большим – в профессиональном смысле – уже не станет.
Захандрил, думал даже уйти из медицины и заняться чем-нибудь совсем другим, но тут грянула большая война, появилось очень много интересной работы, уникальных «казусов», и Шницлер воспрял. Никогда он столько не оперировал. И чем дальше, тем сильнее его раздражала неэффективность анестезионных методик.
Эта проблема в хирургии существовала всегда, с самого начала шницлеровской карьеры. Смертность от неправильного наркозоприменения, иногда при пустяковых операциях, была традиционно высокой. Шницлера бесило, если из-за плохо продуманной анестезии у него на столе умирал пациент – особенно когда блестяще проведенная операция уже подходит к концу. Однако до поры до времени Шницлер считал, что с этим ничего поделать нельзя.
И вдруг к нему пришло озарение. Однажды ночью он проснулся, сел в кровати, хлопнул себя по лбу и сказал (Антон не раз слышал эту историю): «Куно, ты идиот! Вся беда оттого, что анестезирование считают не самостоятельной врачебной специальностью, а лишь подсобным средством, облегчающим работу хирурга. Нельзя доверять наркоз медицинской сестре! Этим должен ведать полноправный, специально обученный врач!» Профессор говорил, что тогда же ему пришло в голову название для новой отрасли – анестезиология, по-гречески «наука о потере чувствительности». Специалист нового профиля будет называться гордым словом «анестезиолог». Пока, правда, никто кроме самого Шницлера и его учеников этот термин не использовал. Весь мир по-прежнему называл фельдшеров и ассистентов, которые отвечали за наркоз, «анестезистами».
Новому увлечению профессор отдался с таким же пылом, с которым некогда постигал тайны хирургии. Он говорил, что хирург – всего лишь закройщик: ножницы да нитки, режь да зашивай, вот и вся премудрость. Не то анестезиология. Здесь нужно знать и медицину, и химию, и психологию. А самое приятное – никаких великих предшественников, снег никем не затоптан.
Пожалуй, главное открытие Куно Шницлера заключалось в том, что анестезию ни в коем случае нельзя применять единообразно, без учета индивидуальных особенностей пациента – притом не только физиологических, но и психологических. Второе, не менее важное новшество состояло в том, что анестезиолог во время операции не использовался в качестве ассистента, «прислуги за всё»; он не помогал хирургу, а лишь следил за действием анестезии и реакцией организма, готовый в любую минуту вмешаться. Шницлер принципиально не желал работать в паре с врачом, который имеет хирургический опыт. Достаточно, если специалист умеет делать уколы, а больше никаких медицинских навыков от него не требуется.
Испокон века ассистент рассматривался как младший хирург, готовый помочь оператору, подстраховать его, и сначала коллеги восприняли затею Шницлера весьма неодобрительно. Однако скептики заткнулись, когда обнаружилось, что смертность на операциях новатора в несколько раз меньше, чем у хирургов, которые относились к наркозу фаталистски, по старинке. «То ли еще будет! – восклицал профессор, потирая свои огромные, на первый взгляд такие грубые руки с некрасиво обстриженными ногтями. – Через пятьдесят лет главным лицом на операции станет анестезиолог, а вместо хирурга шить и резать будет какая-нибудь высокоточная машина!»
С гениальным медиком Антон познакомился еще в самом начале своей фондовской деятельности. Поступила заявка от госпитального ведомства на хлороформ и эфир. В ту пору Антон еще был на работе новой метлой, которая старается чисто мести, ко всякому заказу относился с максимальной добросовестностью и поэтому решил проконсультироваться в университете, какие наркопрепараты сейчас считаются оптимальными для военно-полевых условий. Его направили к главному авторитету – профессору Шницлеру.
Авторитет поразил Антона своей отталкивающей внешностью. На голове у него не было ни единого волоска: бритый череп, голые надбровные дуги и, что было уж совсем неприятно, веки без ресниц. (Помимо анестезиологии у Шницлера имелась еще одна мания – стерильность. Он заявлял, что упавший в открытую рану волосок погубил не одну человеческую жизнь, и потому брил голову, а брови и ресницы выщипывал.) Урод был еще и крайне нелюбезен. Сказал, что у него нет времени на болтовню, а если молодой человек хочет получить общее представление о видах наркоза, то как раз сегодня вводная лекция для группы вольнослушателей, которые желают выучиться анестезиологии. «Полагаю, что это кучка любопытствующих бездельников, и со временем я всех их вышибу, – присовокупил профессор. – Если хоть один окажется толковым, уже удача».
Занятия он вел по собственной инициативе, студентов-медиков в группу принципиально не брал. Будущим анестезиологам не полагалось «отвлекаться на всякую ерунду», и уж тем более они не должны были «метить в хирурги». Шницлер говорил, что сначала человек должен проявить качества, необходимые анестезиологу: умение чувствовать пациента, крепость нервов и быстроту реакции. Если вольнослушатель окажется гож, профессор обещал составить для такого человека персональную программу общемедицинского образования и провести своего анестезиолога через университет ускоренно, экстерном, без отрыва от операционной работы.
Всего этого Антон тогда еще не знал, но вводная лекция Шницлера его потрясла.
Наука, ставящая своей задачей нейтрализацию острых болевых ощущений, по словам лектора, уходила корнями в древность. Предшественниками современных анестезистов были шаманы, знахари, ведуны с ведьмами, колдуны и колдуньи. Три основные направления обезболивания по своей сути остались теми же: травно-настойное, то есть химическое; заморозка – или, выражаясь по-научному, криогенная анестезия; наконец, заговор или колдовские чары, то есть психогенно-гипнотический метод. «Все исторические способы наркоза я изучал, и на первом этапе обучения мы внимательно их рассмотрим, чтобы следовать за развитием нашей науки из прошлого в настоящее, а затем и в будущее. Прежде чем вы станете анестезиологами, я сделаю вас чародеями», – сказал удивительный лектор, и его маленькая аудитория засмеялась, еще не зная, что Куно Шницлер никогда не шутит.
«Цель работы анестезиолога двояка. Во-первых, он должен подобрать оптимальный для конкретного пациента и конкретной операции вид обезболивания: местное или общее; инъекция, ингаляция или замораживание; кокаин, морфий, эфир, хлористый азот, хлороформ, веселящий газ или что-то комбинированное; дозировку и последовательность. Но сразу зарубите себе на носу: гуманность тут ни при чем. Мы применяем обезболивание не для того, чтобы облегчить страдания бедняжке пациенту, а чтобы этот болван своими воплями и судорогами не мешал хирургу спокойно работать. Вторая задача сложнее и важнее отключения болевого синдрома: во время операции анестезиолог следит за поддержанием надлежащих параметров жизнеобеспечения, в первую очередь дыхания и кровообращения…»
Антона поразили не сведения, которые он узнал на лекции, а величественность самой концепции. Оказывается, существует врачебная специальность, будто нарочно придуманная для него! Как это прекрасно – победить боль! И как это… по-человечески. Мир полон страданий, жизнь без конца ранит нас, заставляет кровоточить тело и душу. Устранить первопричину этих несчастий смертному не дано. Но облегчить муку, дать истерзанным нервам передышку, погрузить паникующий рассудок в спасительный сон медицине уже под силу. Миссия профессионального усмирителя боли – и страха перед болью – заворожила Антона своей красотой. Вот кем он должен стать: анестезиологом. Этому делу не жалко посвятить всю жизнь.
Сразу после лекции он подошел к профессору и спросил, не поздно ли записаться в группу. Шницлер самодовольно улыбнулся. «Поздно. Но я вас беру. Я видел, как вы меня слушали. И знал, что вы попроситесь».
И вот уже восьмой месяц Антон каждый день посещал лекции, практические и лабораторные занятия, а с недавних пор присутствовал и на настоящих операциях, наблюдателем. У Шницлера был свой анестезиолог, единственный слушатель из прошлогодней группы, которого профессор признал годным. Молодой человек (его звали Леопольд Кальб) считал Шницлера Господом Богом, во всем ему подражал и тоже истребил растительность у себя на голове, хотя за выщипанные ресницы расплачивался хроническим воспалением век. Ныне Леопольд числился студентом-экстерном терапевтического отделения и под опекой профессора уже сдал экзамены за пять из десяти семестров; еще год – и получит диплом, станет первым в истории врачом-анестезиологом (если к тому времени Шницлер сумеет убедить руководство факультета в легитимности этой специальности). Вольнослушатели взирали на Леопольда с почтением, а уж как ему завидовал Антон! Хоть он числился лучшим учеником в группе и профессор постоянно ставил его в пример остальным, в историю медицины фамилия Клобукова уже не войдет. Опоздал, уступил первенство маленькому педанту с кроличьими глазами.
Зато Антона уже допускали к настоящей работе: вместе с Леопольдом он участвовал в составлении «психологического диагноза». Согласно методике Шницлера, подготовку пациента к особенно сложной операции следовало начинать за две недели. Помимо обычных мер по соблюдению режима, требовалось предварительное заключение анестезиолога о психоэмоциональных параметрах больного: возбудимости, впечатлительности, способности к релаксации, подверженности панике. В зависимости от индивидуальных характеристик определялась вся структура и дозировка наркоза. Анестезиолог должен был обстоятельно побеседовать с пациентом, заполнив обширный вопросник. Значение придавалось не столько информации, которую сообщает о себе человек, сколько его нервно-психологическим особенностям. Если больной выказывал острый страх по поводу предстоящей операции, следовало провести курс «седативной психотерапии», чтобы снять лишнюю нервозность. Поистине никто в мире не относился к этому аспекту предоперационной подготовки так обстоятельно, как Куно Шницлер.
Вот как Антон познакомился с Рэндомами. Ровно две недели назад это произошло, 9 декабря.
– Намечается операция исторического значения. Вы знаете, я давно мечтаю произвести первую операцию на сердце – коррекцию митрального стеноза, – объявил Шницлер на очередной лекции. Он выглядел возбужденным и, кажется, даже забыл обрить череп – макушка отливала синевой.
Леопольд Кальб с важным видом кивнул, он был в курсе дела. Остальным профессор объяснил, что митральный стеноз – это врожденный или приобретенный порок сердца, при котором происходит сужение левого атриовентрикулярного устья – отверстия между предсердием и желудочком. Научное название заболевания – Stenosis ostii atrioventricularis sinistra. Теоретически этот дефект исправить можно. Для этого довольно разъединить спайки, которые образовались в устье клапана в результате болезни. Отверстие расширится, после чего нормальный кровоток должен полностью восстановиться либо, по крайней мере, значительно улучшиться. Но и врачи, и больные приходят в ужас от одной мысли, что скальпель вскроет сердце, поэтому больные предпочитают жить инвалидами и в конце концов умирают, «не изжив своего биологического ресурса».
Но вот нашелся некий молодой англичанин, который прочитал статью Шницлера о теоретической возможности коррекции стеноза и готов лечь под нож. Он заплатил за операцию и подписал бумаги, что освобождает клинику от всякой ответственности за неудачный исход.
– Такой шанс упускать нельзя! – восклицал профессор, рисуя мелом на доске схему сердца. – Это было бы преступлением против науки! А ну-ка, господа, всем слушать очень внимательно! После того как я опишу клиническую картину, вы сделаете свои предложения по анестезионному сопровождению. Итак. У пациента порок сердца развился в пубертатном возрасте вследствие ревматической лихорадки. Как вам известно (а кому не известно, пусть стыдится), митральный стеноз чаще наблюдается у девочек и молодых женщин, но в данном случае мы имеем дело с юношей. Ему сейчас двадцать второй год, а первые признаки болезни были зафиксированы еще пять с половиной лет назад, то есть порок запущенный. Налицо все характерные симптомы сердечной недостаточности с высокой легочной гипертензией: сухой кашель, нередко и с кровью, сердцебиения, малейшие физические нагрузки приводят к резкой слабости и одышке. При первом же взгляде на пациента заметна типичная «митральная бабочка» – facies mitralis: резко очерченный румянец, а также пепельный цианоз носа и губ. При пальпации межреберья в положении пациента на левом боку определяется диастолическое дрожание, вызванное затрудненным прохождением крови через узкое митральное отверстие. Этот симптом еще называют «кошачьим мурлыканьем». Одним словом, любой мало-мальски опытный врач и без электрокардиограммы не затруднился бы с диагнозом. Попросту говоря, насос качает кровь, но шланг так засорен, что влага почти не орошает дальних краев газона. Всего-то и нужно – как следует прочистить трубку, и молодой человек встанет с инвалидного кресла. Сейчас он может пройти не больше пяти шагов, а затем начинает задыхаться и терять равновесие вследствие головокружения. Вот с каким случаем, господа, мы имеем дело.
– Необходима комиссуротомия, – солидно молвил Леопольд, и все уважительно на него посмотрели. Никто не знал, что значит это слово.
– Да, – кивнул Шницлер. – Нужно убрать спайки, соединяющие комиссуры и мешающие нормальному току крови.
– Чем же вы их уберете, профессор? – спросил Антон, пытаясь сообразить, какой из известных ему хирургических инструментов может подойти для столь деликатной манипуляции.
Шницлер пожал плечами:
– Да просто пальцем. Вот так.
Он взял графин с водой, взял немножко пластилина, при помощи которого обыкновенно делал муляжи внутренних органов – прямо на глазах у слушателей, очень ловко. Залепил горлышко наполовину.
– Видите, я наклоняю – и вода едва льется в стакан. А теперь я сделаю так… – Он прочистил горлышко графина пальцем. – Видите? Элементарно. Вот, собственно, вся хирургическая операция. В данном случае главное будет зависеть от правильного режима анестезии и эффективного жизнеобеспечения во время моей работы на сердце. Что требуется от анестезиолога в первую очередь, господа?
– Психологический диагноз! – хором ответила выдрессированная группа.
Задание, которое обычно исполнял один Леопольд, на сей раз было поручено двоим. Профессор объяснил это особой важностью события, но Антон усмотрел тут обнадеживающий знак: Шницлер выделяет его из всей группы, а стало быть, есть надежда стать пусть не первым, но хотя бы вторым в истории врачом-анестезиологом. Тоже неплохо.
Диагностам было поручено провести психологическое обследование вместе, однако заключение составить независимо друг от друга. Нечего и говорить, что Антон отнесся к ответственному поручению очень серьезно.
Прочитав историю болезни, узнал, что Лоуренс Севилл Рэндом 1898 года рождения до пятнадцатилетнего возраста развивался нормально и даже опережал среднестатистические показатели по параметрам роста, активно занимался спортом. Ревматизм с осложнением на сердце, развившийся начиная с весны 1914 года, вероятно, объясняется наследственностью по обеим линиям. Отец пациента умер в 34 года «от разрыва сердца» (более точное заключение недоступно); мать скончалась от острой сердечной недостаточности 46 лет от роду.