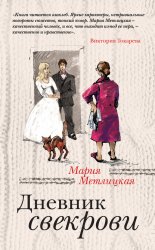Аристономия Акунин Борис
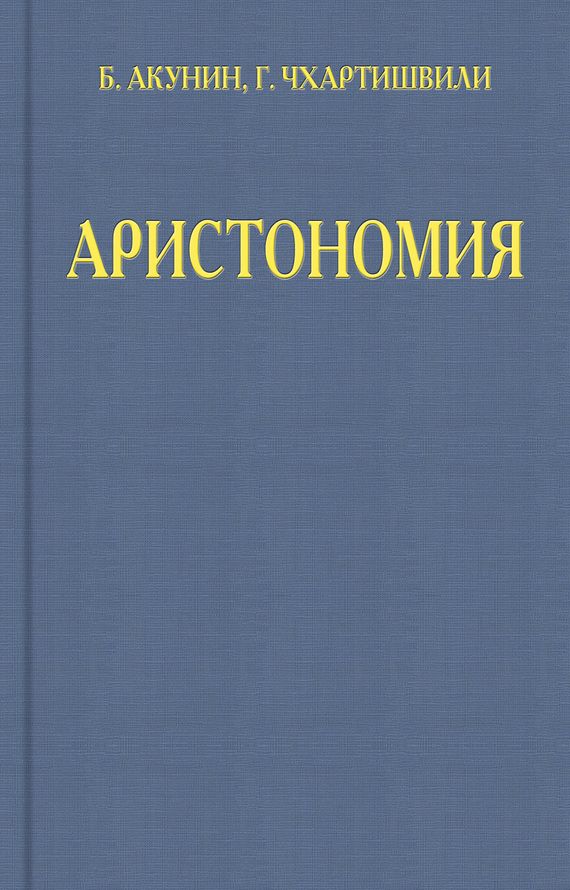
– Значит, состоишь советником при лютом враге советской власти? И, конечно, братствуешь в Белой Розе. – Рогачов небрежно махнул рукой. – Не удивляйся, дедукции тут на копейку. Знаю, знаю про эту благоуханную организацию. Бердышев – вражина поопасней атаманов и генералов. Ничего, мы ему устроим войну Алой и Белой Розы.
Когда Антон ничего не ответил, Панкрат вздохнул.
– Выходит, ты в бердышевскую веру перешел? Жаль.
– А если и так? Убьете? На цепь посадите в этой вашей пещере? – спросил Антон и сам себе удивился – уже не в первый раз за этот день.
– Зачем это? – удивился Панкрат. – Поговорим, и иди себе. Не выдашь же ты меня. Сын Марка Клобукова? – Он пожал плечами. – Невозможно. Это Филя, который вашей семьи не знал, может так думать. Говорит: «Если я барчука зря привел, тут его и похороним». Филя парень старательный, но по молодости еще глупый. Людей не чувствует. Обязательно нам с тобой надо поговорить, раз судьба вновь свела. Потолкуем – и отправляйся на все четыре стороны. Если же я в тебе ошибся, улечу со своими товарищами в небо, полковнику Патрикееву не достанусь.
Он со смехом кивнул на штабель ящиков. Антон догадался: это динамит или какая-то другая взрывчатка.
– Ну, рассказывай, швейцарец, како веруеши. Что думаешь про наш веселый хоровод? С кем танец танцуешь – с ними, с нами? Или так, у стеночки стоишь? Может, я промахнулся насчет Белой Розы?
– Нет, не промахнулись!
Глупо было бы упустить такой шанс. Высказать идею о мирном сосуществовании двух Россий человеку умному, масштабному, бескорыстному, совсем не похожему на когтистое и зубатое чудовище, каким изображают Большевика на агитационных афишках.
Антон заговорил горячо и, как ему самому показалось, складно – ведь идея была выстраданная, продуманная до мелочей.
Он говорил про то, что коммунистическая доктрина в России победила, это уже ни у кого не вызывает сомнений. Враги большевизма обессилены и повержены, красная правда для народа оказалась убедительней белой. Но стоит ли уничтожать последний лоскут, оставшийся от прежней России? Это принесет пролетариату больше вреда, чем пользы. Идеологи Третьего Интернационала не дорожат наследием великой и гуманной русской культуры, они хотят сбросить с корабля современности Пушкина с Лермонтовым, Достоевского и Чехова, православие, всякое инакомыслие. Хорошо, сбрасывайте, но позвольте людям, которым дороги эти обломки, жить на острове – верней, на полуострове. Стройте новый мир по-своему, но и нам дайте возможность выстроить жизнь по нашей правде. Будущее продемонстрирует, какой путь для России лучше. И, скорее всего, произойдет конвергенция, естественное слияние позитивного опыта обеих моделей.
Слушатель не перебивал, лишь хмурился. Особенно когда Антон стал расписывать преимущества свободной состязательности двух социально-политических систем.
Чувствуя, что тратит красноречие попусту, Антон растерянно умолк.
– Этого-то я и боялся, – мрачно сказал Рогачов. – Потому и отпросился в Крым. Спасибо тебе. Теперь я окончательно понял смысл бердышевской каверзы. Хитер Петруша, умен – ничего не скажешь. Если Врангель его послушает, злокачественную крымскую опухоль удалить не получится. Будет набухать этот чирей, сосать из советской республики кровь и соки, светить внутреннему врагу ясным солнышком, смущать слабых и колеблющихся.
И этот, как Бердышев, с медицинскими метафорами, раздраженно подумал Антон. При том что ни один ни другой в медицине ни черта не смыслят. Чирей, то есть фурункул, – какая ж это злокачественная опухоль?
– …А уж мировой капитализм не поскупится, вольет сюда миллиарды, чтоб превратить белый Крым в витрину мещанского благополучия.
Вот это была мысль верная. Даже странно, что в своем трактате Антон совершенно упустил из виду такой важный источник финансирования будущей Таврии, как помощь мирового сообщества. Конечно же, страны Антанты не поскупятся на поддержку демократического российского государства – как только поймут, что Крым устоял под натиском большевиков и доказал свою жизнеспособность.
Но ведь это неправильно – полагаться на иностранные ресурсы? Вредно для развития собственных производительных сил, и вообще паразитизм?
– Не будет у нас с белыми никакого сосуществования, – рубил кулаком воздух Рогачов. – Каждую нашу ошибку, всякую беду бердышевы будут использовать нам во вред. Оставь Врангелю полуостров, здесь немедленно появится британская военная база. Мы знаем, об этом уже идут переговоры. Будут белые мутить отсюда и Польшу, и Кавказ, и Украину, подкармливать заговорщиков в Москве и Питере. А еще вот что я тебе скажу, сахарный мечтатель. – Панкрат ткнул Антона пальцем в грудь, словно гвоздем приколотил. – Глуп ты, если рассчитываешь, что у вас тут образуется либеральненькая демократия со свободой слова. Смысл твоей Белой Розы – воткнуть шип в подбрюшье Советской России. Это пушка, нацеленная прямо на нас. Парламентов здесь не будет, потому что в военном лагере демократий не бывает. И у власти в стране твоей мечты окажутся генералы и жандармы, а не Струве с Кривошеиным и даже не Бердышев. Придется Петру либо под держиморд ложиться, либо катиться к черту.
«Он прав, он абсолютно прав! – У Антона похолодело в груди. – Верх возьмут деятели вроде Патрикеева. Довольно посмотреть на полковника и на Петра Кирилловича: первый цветет, второй похож на ходячего мертвеца».
– Помню я тот наш разговор, на Гороховой. – Рогачов уже не тыкал железным пальцем, а поглаживал по плечу. – Видел, что не слышишь ты меня, что не соглашаешься, а побеседовать не вышло. Вот ты про великую и гуманную русскую культуру сказал. Звучит красиво. Только знаешь, что это была за культура? Культура бактерий, вредоносных бацилл-паразитов. Зеленая плесень на теле страны. Меня с детства тошнило от Тургенева с Лермонтовым и прочих барышень-крестьянок. Ах, какие тонкие чувствования, ах, какие умилительные нежности! Тут главное – глаза прикрыть кисейным платочком, чтоб не видеть, какой ценой оплачены эти красивости. Рабским трудом крепостных, кнутами и шпицрутенами, несчастьем миллионов. Чтоб Онегин с Татьяной существовали на благородный манер, сколько судеб понадобилось в навоз втоптать? Это я тебе, Антон, прописи азбучные пересказываю, ты их и без меня знаешь. Но вот чего ты никак в толк не возьмешь. Казнь, которую претерпевает ныне твоя Россия, – это расплата за кисейный платочек. И ты мне про гуманность с человеколюбием не проповедничай, ни черта ты в этих материях не смыслишь. Ты полюби человека таким, какой он есть: не мяконький, приличненький эпителий, а мясо, жилы, кости, кишки. И страну свою тоже полюби всю, целиком. Не вороти носа от живой крови, вони и грязи.
Он повысил голос, видя, что Антон хочет возразить.
– Погоди! Я тебя выслушал, теперь ты меня слушай. Пролетарии отвратительны тебе тем, что они грубые, грязные, жестокие. Вот когда у нас в России все люди до последнего будут сыты, одеты, образованы, когда все девчонки станут тургеневскими барышнями, а все парни распрекрасными лицеистами да гардемаринами, вот тогда не стыдно станет тонко переживать, щадить чувства и сдувать друг с друга пылинки. Это произойдет само собой, естественным путем.
Смотрел Панкрат уже не на собеседника – вверх, в тьму под сводом пещеры. Эхо подхватывало взволнованную речь, будто соглашаясь с каждой фразой и с удовольствием ее повторяя.
– …Перед нами стоит великая, небывалая в истории задача. Никакому Иисусу Христу такая не снилась! Мы должны превратить забитый скот в людей, стадо – в народ! Ради того чтоб хоть на чуточку приблизиться к этой цели, не жалко жизнь отдать. Но я не чуточку, я намерен, пока жив, много чего успеть. И сделал уже не так мало. А ты-то обязательно доживешь, увидишь новую Россию собственными глазами. Должно смениться одно или, может, два поколения, и появятся новые Тургеневы и Пушкины, но без кисейных платочков, без подлости. Надо только сначала чирей этот крымский сковырнуть, гной выдавить. Чтоб не отравлял наш организм, не мешал заниматься настоящим делом – строить новую жизнь…
В дверь стучали – уже с полминуты, но Панкрат услышал только сейчас.
– Что там? – крикнул он, повернувшись.
– Из Симферополя связной! – донесся приглушенный голос Бляхина. – К вам вести или как?
– Покорми человека с дороги, я сейчас освобожусь. – Рогачов виновато развел руками. – Черт, опять не договорили. Извини, брат, дело ждать не может. Ты адрес свой оставь. Будет возможность – встретимся. Не думай, я тут, в пещере Лейхтвейса, не вечно сидеть собираюсь. Выберусь и в город. А сам сюда больше не приходи. У Патрикеева с твоим шефом отношения непростые. Не удивлюсь, если полковник за бердышевскими сотрудниками подслеживает.
Антон вздрогнул.
– А вдруг уже выследил? – быстро проговорил он. – Это было бы ужасно. Может быть, имеет смысл…
– Не бойся, нас тут так легко не возьмешь, – перебил его Рогачов и рассмеялся. – И про улет в небо – это я пошутил. У меня пока на земле дел хватает. Отсюда есть запасной выход. – Он показал вглубь пещеры. – Там лесенка, на верх холма. Если тревога – все уйдем. Здесь, в бывшей каменоломне, у контрабандистов схрон был. Лет пятьдесят, что ли, назад – когда после Крымской войны Севастополь стал вместо военного порта торговым городом. Так где тебя найти?
Назвав адрес, Антон медлил уходить. Панкрат подтолкнул его к выходу.
– Давай-давай, топай. Черт, до чего же на отца становишься похож!
Как вышел на свежий воздух, Антон не запомнил. Бляхин ему не встретился. Снаружи было уже совсем темно.
Во дворе он попрощался за руку с Ефимом. Девочка о чем-то спросила – промычал невнятное и отвернулся, боясь смотреть в ее восторженные глаза.
Наконец, за спиной захлопнулась калитка.
Антон сдернул очки, яростно потер переносицу.
Что делать? Что?
«Прототипы». Идеальный человек античности: философ
На разных этапах истории, в различных культурах и субкультурах возникало свое представление о том, какими качествами должен обладать «правильный» человек. Я не намерен затевать экскурсию по всей этой картинной галерее, в которой хватает и откровенной дряни вроде байронической личности или «белокурой бестии». Для меня представляют интерес лишь типы, близкие или родственные аристономическому человеку, формула которого выведена в начале книги. Всё это его предшественники, его прототипы, поэтому я называю их «протоаристономами».
Очевидно, что начинать придется с античности. Именно к этой исторической эпохе относятся первые сохранившиеся в памяти человечества попытки саморефлексии, неизбежно приведшие к созданию некоего умозрительного образца, по которому можно было себя сверять, к которому следовало стремиться. Мне могут возразить, что Конфуций с его доктриной «благородного мужа» жил раньше мудрецов Эллады, однако конфуцианский кодекс в том виде, который мы знаем, сложился не при жизни древнего мыслителя, а в более поздние века, так что корректнее всё же начать с греков.
Представление о том, что понятие арете (идеального качества) может быть применимо не только к скакуну, кораблю или зданию, но и к личности, возникло в V–IV веках до христианской эры. Пошедшая из Афин мода на философию означала, что человеку захотелось разобраться в устройстве своей души, посмотреть на себя со стороны. В общем и целом, как это обыкновенно случается с маленькими детьми, разглядывающими себя в зеркале, человек себе понравился.
В софокловой «Антигоне» (середина V века) хор поет[11]:
- Много есть чудес на свете,
- Человек – их всех чудесней.
И далее в том же духе:
- Мысли его – они ветра быстрее;
- Речи своей научился он сам;
- Грады он строит и стрел избегает,
- Колких морозов и шумных дождей;
- Все он умеет; от всякой напасти
- Верное средство себе он нашел.
Но в то же время приходится признать, что образ не идеален. Кое-что человеку в себе решительно не нравится. Например, страх перед смертью:
- Но лишь почует он близость Аида,
- Как понапрасну на помощь зовет.
А что-то вызывает сомнения:
- … Хитрость его и во сне не приснится;
- Это искусство толкает его
- То ко благим, то к позорным, деяньям.
- Если почтит он законы страны,
- Если в суде его будут решенья
- Правыми, как он богами клялся, —
- Неколебим его город; но если
- Путь его гнусен – ни в сердце мое,
- Ни к очагу он допущен не будет…
- То бессмертных ли знак? Я с сомненьем борюсь…
Именно в связи с такого рода «сомненьем» и возникла необходимость разобраться, что в человеческой природе хорошо, а что плохо. Первое – поощрять, второе – подавлять, и тот, кому удастся осуществить эту внутреннюю работу, будет обладать идеальным арете.
У философов разных направлений были серьезные разногласия по поводу параметров идеальности, но все простодушно сходились в одном: идеальный тип людей – это, конечно же, сами философы. Поскольку мнение других древнегреческих сословий до нас не дошло, приходится считать эту точку зрения общеэллинской.
Сократ: мудрость
Начать следует с воззрений Сократа, дошедших до нас в пересказе Платона и, очевидно, переработанных последним ради соответствия собственным убеждениям, так что правильнее было бы назвать эту систему взглядов сократо-платоновской. Согласно ей, человек от природы обладает некоторым набором добродетелей, важнейшей из которых является способность к философствованию. Правильно устроенная («философская») душа сочетает в гармоническом равновесии Волю, Разум и Желания. Идеальный человек-философ наделен умеренной любовью к мудрости, а также мужеством, достаточным для того, чтобы поступать в соответствии с голосом мудрости. Мудрость же – это понимание Добра, которое есть гармония между всеми элементами сущего.
Верный путь в жизни – не гоняться за богатством и успехом, а концентрироваться на самоусовершенствовании.
Философ должен участвовать в общественной жизни. Более того, здоровое государство может управляться только философами, ибо лишь они способны определять идеалы и укреплять в республике дух истинного дружества и общинности. Платоновскую концепцию царя-философа я опускаю как напрямую к теме не относящуюся. К тому же известно, что попытки Платона осуществить эту власть на практике (в Сиракузах) закончились плачевно: идеал не выдержал испытания реальностью.
В целом же первая модель идеального человека почти по всем своим пунктам совпадает с формулой аристономии, какой она видится мне через двадцать четыре века после Сократа.
Аристотель: умеренность
Умеренность, которой Сократ придавал важное, но не первостепенное значение, обретает главенствующий статус в этической системе Аристотеля и торжественно именуется «золотой серединой». Идеальный человек Аристотеля прежде всего избегает крайностей. В «Никомаховой этике» философ следующим образом изображает образец человека.
Он мужествен: не безрассудно храбр, но и не труслив.
Он разумно щедр: не расточителен, но и не скуп.
Он высокомыслен: не тщеславен, но и не принижен в чаяниях.
Он сдержан в проявлении чувств: не гневлив, но и не податлив.
Он остроумен: не записной шут, но и не зануда.
Он дружелюбен: не заносчив, но и не угодлив.
Он скромен: не бесстыден, но и не застенчив.
Он правдив: не хвастлив, но и не ханжа.
В этих предписаниях смущает сходство с молчалинским приматом «умеренности и аккуратности» либо с наставлениями, которые пронырливый Полоний дает Лаэрту («Будь прост с другими, но отнюдь не пошл… Шей платье по возможности дороже, но без затей – богато, но не броско» и т. д.), однако следует учитывать, что трактат Аристотеля, вероятнее всего, был адресован сыну Никомаху и представляет собой нечто вроде практического пособия, свода поведенческих правил, на которые следует ориентироваться юноше.
Эпикур: победить страх
После окончательного краха демократического правления интерес философии к общественной деятельности в Элладе почти полностью исчезает. Один из самых симпатичных жизнеучителей античности, Эпикур, ставит очень скромные задачи: забыть об улучшении мира, озаботиться улучшением самого себя. Таков и идеальный человек эпикуреизма (не путать с эпикурейством, вульгаризованным и опошленным изложением системы). Философ-эпикуреист признает, что жизнь нехороша и, вероятно, неисправима; что боги, если они есть, совершенно не заботятся о людях; что миром правит страх – но, несмотря на это, хочет быть счастливым и получать удовольствие от своего существования, не требуя от него слишком многого. Формула правильной жизни, по Эпикуру, складывается из атараксии, то есть отсутствия страха, и апонии, отсутствия страдания. Нужно ни от кого не зависеть, но хорошо бы жить в окружении друзей. Вот, собственно, и всё.
Ключевое понятие здесь «страх». Философ должен научиться победе над самым главным страхом – страхом смерти – и над сонмом второстепенных страхов. Именно для этого ему нужно знание: ведь страх чаще возникает из-за неосведомленности и смутной тревоги. Бесстрашный человек внутренне свободен, а стало быть, ничто не мешает ему жить в блаженстве. Под удовольствиями Эпикур имеет в виду не радости плоти, а духовные наслаждения: мыслью, умной беседой, благожелательным приятием мира во всей его полноте. Не нужно желать многого. Чем меньшим ты довольствуешься, тем счастливее твое существование. Человек, живущий по этому принципу, истинно свободен. У Эпикура был сад, в котором он вел умные разговоры с друзьями, и большего он от жизни не требовал.
Эпикур пытается логически убедить людей, что быть благородным разумно и выгодно. В этом смысле «разумный эгоизм», о котором толкуют герои Чернышевского, позаимствован прямиком из эпикуреизма. «Невозможно жить с приятностью, если живешь не мудро и не добродетельно, – утверждает Эпикур. – Невозможно быть мудрым и добродетельным, если твоя жизнь неприятна».
Философ этого склада существует по принципу «живи уединенно», воздерживаясь от всякой общественной деятельности. Не рекомендуется обзаводиться семьей и пускать в свое сердце любовь – чтобы не испытывать постоянного страха за любимых. Сила разума позволит преодолеть не только физическую боль, но и мысли о неизбежном конце, от которого Эпикур отмахивается с восхитительной небрежностью: «Нам нет дела до смерти – пока мы живем, ее нет, а когда она заявится, не станет нас». Это не поза и не бравада. Умирая от мучительной болезни почек, Эпикур писал своему другу и ученику: «Пишу тебе это письмо в счастливый день, последний день моей жизни. Меня измучили боль из-за невозможности помочиться и кровавый понос, так что худших страданий невозможно представить. Но ум мой радостен, ибо воспоминание о всех наших философских рассуждениях перевешивает муку».
Эпикуреист – идеал пессимиста, который убедил себя смотреть на этот мрачный мир с доброжелательной улыбкой, без надежды, но и без страха. Можно сказать резче: это философия труса, уговорившего себя быть мужественным. В идеальном человеке Эпикура Разум одержал победу над Страхом, но это пиррова победа. В самые тяжкие моменты истории сохранить достоинство возможно, только если ты добровольно отказываешься от любви, от сильных чувств, от стремления изменить мир к лучшему.
Правильно устроенный человек стремится к счастью здесь и сейчас, утверждает Эпикур; для достижения этой цели нужно быть умно мужественным и предельно умеренным в запросах. На протяжении истории всякий раз, когда условия общественной жизни резко ухудшались, именно так выглядел этическо-поведенческий кодекс порядочного человека. Система Эпикура – абсолютный минимум этического выживания. Можно сказать, что все мои соотечественники, кто уцелел в испытаниях последних десятилетий, не утратив при этом чувства собственного достоинства, являются стопроцентными эпикуреистами.
Стоики не выживали.
Стоицизм: мужество
Всё дело в том, что уровень требований к личности у стоического идеала гораздо строже. Нравственный образец Стои – не философ, то есть «любящий мудрость», а софос, то есть «мудрец», существо законченное и совершенное. Ему не надо любить мудрость или стремиться к ней, ибо он ею уже обладает. Такой человек неуязвим для ударов судьбы. Его не способны испугать или хотя бы просто опечалить нищета, злоба, болезни или смерть. Всё, чего так жаждут обычные люди – богатство, наслаждения, любовь, долголетие, – в глазах софоса не имеет ни малейшей ценности. Он и так обладает эйдемонией, то есть абсолютным счастьем. Оно заключается в понимании добродетели и следовании ее нормам. Софос немыслим без жесткой нравственной дисциплины, высокого ума, беспристрастия и неколебимого мужества. Он неподвластен ни одному из четырех «аффектов»: жажде удовольствий, отвращению, вожделению, страху. Разум для того и нужен человеку, чтобы развенчивать ложную значимость этих низменных страстей. Тот же, кто попадает под власть любого из аффектов, неминуемо позволяет ему разрастись до масштабов «пафоса», то есть одержимости, разъедающей человеку душу. Идеальный человек должен стремиться к полной «апатии», свободе от аффектов.
В общем, софос – состояние, практически недостижимое. Сами стоики признавали, что таких людей на свете очень мало, а, возможно, и вообще нет. Разве что полулегендарный Диоген, которому от земного владыки нужно было лишь одно – чтоб не загораживал солнце.
Но зрелый стоицизм не замыкается в пределах бочки, не прячется от зла внутрь себя. Внешний мир, он же всевластная судьба, этим учением не отторгается, и внутренняя свобода рассматривается как ответ на вызов рока. Для того чтобы выдержать это испытание, человеку более всего потребно мужество, основное условие сохранения достоинства (как я уже писал, этот термин в его современном значении впервые использовал стоик Цицерон). Стоический человек сильнее и деятельнее эпикурианца. На мир он смотрит так же пессимистично, но не живет уединенно (хоть и желал бы); его зона ответственности шире пределов эпикурова Сада.
Следует учитывать, что, в отличие от эпикуреизма, стоическое учение с веками сильно менялось. Поздний, римский этап развития стоицизма полней всего оформил кодекс правильного человека, притом не отшельника-софоса, а ответственного и активного члена общества. Именно такими были Цицерон, Сенека и Марк Аврелий – государственные деятели стоического мировоззрения.
Цицерон: чувство долга
Ко временам Цицерона образ безупречного софоса как личности прекрасной, но для общества бесполезной, принял вид путеводной звезды, сияющей где-то в недостижимых небесах, а между «блаженным» мудрецом и «человеком порочным» возник вполне земной тип «человека стремящегося». Именно он и стал практическим воплощением стоического идеала. Путь от порочного состояния к блаженному лежит в исполнении нравственного долга, который складывается из набора определенных обязанностей. Этический трактат Цицерона так и называется – «De officiis» («Про обязанности»).
Жизнь всякого человека сопряжена с исполнением долга, в чем и заключается нравственный смысл человеческого существования. Главная коллизия, подстерегающая нас, это столкновение «нравственно-прекрасного» с «полезным»; правильно устроенный человек обязан сделать выбор в пользу первого, а не второго.
«Нравственно-прекрасные» добродетели подразделяются на четыре категории: познание истины, справедливость в сочетании с благотворительностью, великодушие (мы сегодня назвали бы это качество «масштабом личности») и приличное поведение (decorum).
Вклад римского стоицизма в развитие аристономии безусловно связан с добродетелями второй категории, ибо все они касаются взаимоотношений личности и общества: помощь нуждающимся, справедливая требовательность к нижестоящим, человечное отношение к побежденным и так далее. Цицеронов «муж добрый» (vir bonus) – не просто идеальный человек, но еще и идеальный гражданин. Более того, долг перед отечеством и родителями (что для римлянина понятия неразрывные) ставится на первое место среди человеческих обязанностей. Эта нравственная иерархия приведет к гибели множество людей стоического мировоззрения, включая самого Цицерона.
Стоический идеал очень близок к формуле аристономии – за одним существенным исключением, о котором я скажу позже.
Сенека: стойкость
Важный и меткий укор воззрениям Эпикура делает в одном из своих текстов Сенека, очень точно подметив принципиальное различие между двумя учениями. Симпатичная доктрина «веселой бедности», которую проповедовал афинянин, вызывает у римлянина скепсис. Беден тот, кто считает себя бедным, пишет Сенека, а истинный мудрец ни в чем нужды не испытывает, он богаче любого богача. Не будем придираться к тому, что миллионеру Сенеке, возможно, не к лицу было читать нотацию нищему Эпикуру. Подмечено-то верно: сугубый индивидуализм эпикурианцев происходит от недостатка (то есть бедности) душевных сил, когда у человека нет намерения взваливать на свои плечи ответственность за нечто большее, чем собственная жизнь. Человек стоического идеала не считает своим долгом уходить в свой панцирь, прячась от ударов судьбы. Чувство достоинства требует от него стойкости.
По Сенеке (потом эту идею разовьет Кант), необходимо проводить различие между понятием «цены» (pretium) и «ценности» (dignitas). Ценой обладают блага тела, которые относительны, ибо могут быть большими или меньшими. Ценность добродетели абсолютна, неизменна и не имеет эквивалента для обмена. Цель человеческой жизни – совершенствовать в себе лучшую часть своей натуры, где обитает достоинство. «Добродетель свободна, неуязвима, неподвижна, безмятежна; любой случайности она противостоит настолько твердо, что не только одолеть, но и поколебать ее невозможно. Не опуская глаз, она смотрит на орудия пытки и не меняется в лице, являются ли ей вещи страшные или приятные. Итак, мудрец не может потерять того, потеря чего была бы для него чувствительна. Единственное его достояние – добродетель, которую нельзя отнять; все остальное дано ему во временное пользование; кого может тронуть потеря чужого имущества?»
Однако Сенека не требует от своего «мудреца» невозможного – чтобы тот еще и оставался неуязвимым для страдания. «Есть вещи, которые задевают мудреца, хотя и не могут его победить: телесная боль и слабость, утрата друзей и детей, крушение отечества, охваченного пожаром войны. Я не стану отрицать, что все это мудрец чувствует: мы же не приписываем ему твердость камня или железа…Но, получив рану, он одерживает над ней победу, зажимает ее и залечивает». Не бесчувствие и не равнодушие, а стойкость – вот главное качество идеального человека. Стоик, в отличие от эпикурианца, не боится любить кого-то или дорожить чем-то истинно важным, но должен быть готов вынести боль утраты.
Забота не только о внутреннем, но и внешнем достоинстве – еще одна отличительная черта стоика. Поэтому Сенека много внимания уделяет тому, как должно реагировать на обиды и оскорбления. Самый лучший рецепт – относиться к людям, как мудрец относится к больным. Им простительна несдержанность, ему – нет. «…Он не раздражается, если болезненное возбуждение заставит их нагрубить своему целителю, и так же ни в грош не ставит их малопочтенные выходки, как и их почетные звания». Пожалуй, в стоической идеологии довольно силен элемент высокомерия, заведомого сознания превосходства «целителя» над «больными», в число которых попадает большинство мужчин и все без исключения женщины. «Некоторые помешались уже до такой степени, что считают возможным быть оскорбленными женщиной», – с комичным недоумением пишет Сенека о представительницах «несдержанного» и «нестойкого» пола.
Здесь нельзя не упомянуть существенный дефект, свойственный всем античным концепциям идеального человека. Эти прекрасные нормы адресованы не всему человечеству, а лишь свободным гражданам, то есть привилегированной касте общества. До «варваров» грекам и римлянам не было никакого дела, а требовать от женщин или рабов, чтобы они следовали в своей жизни философскому идеалу, не пришло бы в голову даже самому смелому мыслителю.
Марк Аврелий: пусть меньше, но лучше
И Цицерон, и Сенека в определенный период своей жизни были крупными государственными деятелями, от воли которых зависела жизнь общества, однако в полной мере роль «царя-философа», о которой мыслители мечтали еще со времен Платона, выпала властелину огромной империи Марку Аврелию. Это поистине уникальный в истории пример соединения в правителе сильной воли с мудростью и добродетельностью.
Взгляды императора изложены в его записках, предназначенных не для публикации, а для самого себя, что явствует из названия: «Наедине с собой». У абсолютных монархов во все времена была одна и та же проблема: не с кем поговорить по душам, не с кем откровенно поделиться мыслями. Размышления Марка Аврелия давно растащены на цитаты, что несомненно свидетельствует о ценности этого внутреннего диалога с самим собой. Формулировки точны и безукоризненны.
Суть человеческого бытия изложена с римской лаконичностью: «Сел, поплыл, приехал. Вылезай!» В зрелом возрасте я повторял это простое и мужественное Exscende! всякий раз, когда оказывался в смертельной опасности, и, словно мантра, оно придавало мне сил, помогало взять себя в руки.
Не хуже звучит и девиз человеческой жизни: «Покуда жив, покуда можно – стань хорош».
Пожалуй, правильнее всего будет изложить воззрения самодержца-стоика на человеческий идеал его же собственными словами.
Вот краткая характеристика личности, которой если и не был, то стремился стать Марк Аврелий:
«…Человек этот наслажденьями не запятнан, не изранен никакой болью, ни к какому насилию не причастен, ни к какому не чувствителен злу;…ни единой не покорился страсти, справедливостью напоен до дна; от всей принимает души всё, что есть и дано судьбой».
Главная цель жизни – духовный поиск и самоусовершенствование:
«Нет ничего более жалкого, чем тот, кто всё обойдет по кругу, кто обыщет, по слову поэта, „всё под землею“ и обследует с пристрастием души ближних, не понимая, что довольно ему быть при внутреннем своем гении и ему служить искренно».
Непременное условие этого поиска – самодостаточность:
«Люби скромное дело, которому научился, и в нем успокойся. А остаток пройди, от всей души препоручив богам всё твое, из людей же никого не ставя ни господином себе, ни рабом».
Надо быть стойким под ударами судьбы:
«Быть похожим на утес, о который непрестанно бьется волна; он стоит, – и разгоряченная влага затихает вокруг него».
Чтобы достичь этого, следует руководствоваться безошибочным принципом:
«Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовый уже уйти из жизни».
Делу следует посвящать себя с полной самоотдачей:
«С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений».
Нужно быть проще, естественней:
«Пусть вычурность не изукрасит твою мысль; многословен и многосуетен не будь».
Ни в коем случае нельзя цепляться за жизнь:
«И пусть бог, что в тебе, будет покровитель существа мужеского, зрелого, гражданственного, римлянина, правителя, того, кто сам поставил себя в строй и по звуку трубы с легкостью уйдет из жизни, не нуждаясь ни в клятвах, ни в людском свидетельстве…»
Конечная цель твоей деятельности не столь уж существенна; главное – идти к ней с достоинством:
«Главное – станет он жить, не гоняясь и не избегая, а будет ли он больший отрезок времени распоряжаться душой и объемлющим ее телом или же меньший, это ему ничуть не важно. Да хоть бы и пора было удалиться – уйдет так же легко…»
Из этого проистекает и вывод, которым Марк Аврелий очевидно руководствовался в своих действиях:
«Положив себе эти имена: добротный, достойный, доподлинный; осмысленный, единомысленный, свободомысленный, – смотри, держись, не переименовывайся, не нарушай их и поскорее к ним восходи… Ну а почувствуешь, что соскальзываешь и что не довольно в тебе сил, спокойно зайди в какой-нибудь закоулок, какой тебе по силам, а то и совсем уйди из жизни – без гнева, просто, благородно и скромно, хоть одно это деяние свершив в жизни, чтобы вот так уйти».
В этой максиме звучат пессимизм и глубокое разочарование в мире, в собственных силах. «Царь-философ», управляющий великой империей, не ставит перед собой великих задач.
В этом-то идеальный человек стоицизма и расходится с человеком всецело аристономическим. Аристоном наступателен, он верит в победу над любыми обстоятельствами и знает, как ее достичь. Стоик же заведомо оборонителен по отношению к жизни; он знает, что проиграет в битве с действительностью, и озабочен лишь тем, чтобы и в поражении не потерять лица.
В самом деле: несмотря на то, что по счастливому стечению обстоятельств на римском престоле оказался человек в высшей степени достойный, он не предпринял попытки улучшить действительность путем масштабных преобразований или принятия аристономических законов. Марк Аврелий довольствовался соблюдением стоического минимума: по мере сил старался сохранять порядок, мужественно сносил удары судьбы и стойко противостоял напастям, в которых, разумеется, нехватки не было, – эпидемии, неурожаи, нашествия варваров. А когда царь-философ – вероятно, почитая свой долг честно выполненным, – «без гнева, просто, благородно и скромно» ушел, все мерзости жизни вернулись на круги своя, и Рим покатился дальше, к своему краху.
Нелепо было бы упрекать античных стоиков в заниженности жизненных задач. Условия тогдашнего существования человечества, уровень его развития и не позволяли рассчитывать на многое. Победить Зло и Хаос, царствующие в мире, невозможно, поэтому нечего и пытаться; совершенно достаточно одержать эту победу внутри самого себя – вот лозунг протоаристономического человека античности. В эпоху Греции и Рима считалось, что задача эта хоть и трудна, но личности разумной и волевой она под силу.
В последующее тысячелетие эта, в общем-то, скромная планка, покажется недостижимо высокой. Вслед за погружением в дикость и варварство «темных веков» у европейца сильно поубавится самомнения. Этический идеал Средневековья по аристономической шкале будет стоять существенно ниже античного.
(Из семейного фотоальбома)
Поверху исправил число – простым карандашом, толсто. Вторую цифру, шестерку, стер резинкой, остальные не тронул. Получилось «17/VIII 1920 г.». Латинские закорючки для обозначения месяцев Филиппу нравились: солидно. Сразу видно – не пентюхом писано.
Потом, подтирая и сдувая катышки от ластика, стал вносить изменения в расположение частей и обновлять линию фронта, который еще ближе подобрался к коричневому пятну, городу Львову, загнулся полукружьем сверху, справа, снизу. Если по правде, никакой линии фронта не было. В одних селах стояли наши, в других ихние, в третьих непонятно кто. Но это в жизни бывает разножопица и неясность, а на карте всё должно быть четко, наглядно: тут красные кружочки, тут синие, тут – передовая.
Ужасно нравилось Бляхину с картой работать. Не зря весь июль месяц на ускоренных курсах при Генштабе РККА отзанимался. Между прочим, сам на учебу напросился. Надо расти над собой, если хочешь чего-то в жизни добиться.
За рвение была Филиппу награда. Во-первых, Панкрат Евтихьевич похвалил, а это редко бывает, дорогого стоит. Во-вторых, получил Бляхин звучную должность. Адъютант – это вам не «порученец», это звучит. В-третьих, если говорить о нерадостном: кабы не ежевечерняя работа по карте, положение было бы вовсе зазорное. Распоряжения за товарищем Рогачовым в тетрадку строчить – Антоха, он стенографию знает. Донесения составлять и на машинке печатать – опять Антоха. Шифровки расколдовывать – тож. А Бляхин, даром что зовется адъютантом, давай по хозяйственным надобностям хлопочи. Насчет чаю распорядиться, ночлег обустроить, одёжу Панкрат Евтихьевичу почистить. Освежить большому человеку китель или сапоги наваксить – работа незазорная, не о том речь. Обидно, если тебя только для «принеси-подай» пользуют.
Но когда вечером сядешь за стол, достанешь из скрипучего-пахучего планшета трехверстку, разложишь карандаши, сразу всем видно, кто у товарища Рогачова военный адъютант, а кто шпак-секретаришка, навроде пишбарышни.
Филипп нанес красным сегодняшнюю дислокацию бригад и полков шестой кавдивизии, сверяясь по Антохиным каракулям. Тем же скакучим некрасивым почерком были записаны две секретные депеши из Полештарма, Полевого штаба Конармии. Оттуда доносили, как за истекший день поменялась ситуация на всем «театре военных действий» (хорошее выражение, Бляхин его с курсов запомнил). На то имелась в планшете еще одна карта, стратегическая. И там всё в доскональности видно, до самого Балтийского моря: как рвутся к Варшаве войска героического Запфронта, как забирает в жменю вражеский Львов еще более героическая Конармия, как клубятся синими тучами, пятясь в бессильной злобе, полчища белополяков.
То есть, недавно еще пятились. А ныне пришлось подвинуть красную линию от Варшавы вправо – отступает чего-то наша четвертая армия. И посередке, у города Люблина неладно – на целый дюйм фронт к востоку отодвинулся.
Товарищ Рогачов давеча сказал: «Послезавтра Львов возьмем – поворачиваем на север, помогать Тухачевскому».
Антоха, будто его ума дело, влез с вопросом:
– А если не возьмем?
– Все равно поворачиваем. Главное сейчас – Варшава. Там решается судьба мировой революции.
Глядя на карту, Филипп поражался Антохиной дурости. Как это «не возьмем»? Если линейкой мерить, пятнадцать километров до Львова отсюдова, от Неслухова этого. Час ходу на рысях. Не позднее послезавтрева будет Львов советским!
Эх, попасть в настоящий большой город! Помыться, поспать на кровати – без блох, без порскающих по земляному полу мышей. Прошлую-то ночь вообще в сарайке ночевали, на сене, под капающим через дырявую крышу дождем.
Совсем иначе эта война воображалась, когда отправлялись из Москвы. В литерном поезде на два вагона, с платформой для автомобиля, положенного Панкрату Евтихьевичу по высокой должности. Бляхин думал, всё иначе будет, не как в лихие времена. Всё ж таки порядку в рабоче-крестьянской республике стало больше. Людишки понемногу начали расставляться по местам, как положено в государстве – в согласии с положением, чином, заслугами. Ордена выдают, скоро повсеместно введут знаки различия (Филипп себе на рукав уже пришил лоскут с тремя квадратиками, согласно табели). В общем, не восемнадцатый год. И война нынешняя – не с беляками, не с Махной сиволапым, а европейская, первый шаг на пути к мировой революции. Панкрат Евтихьевич – член Реввоенсовета всей РСФСР, шутка сказать. По старорежимному считать – полный генерал. Хватит себя-то ронять. Незадачная крымская командировка для человека такого масштаба была глупость, ребячество.
Когда вернулись в Москву, хорошо стало. Нравилось Бляхину в столице пролетарской революции. Казенный особняк, заседания, обмундирование по первой категории, паек – по высшей.
Ничего плохого от поездки «на театр военных действий» он не ждал. Заселился в отдельное купе салон-вагона, чайку с лимоном отхлебнул – сказал себе: «Вот так воевать можно».
Ошибся. На польском фронте оказалось похуже, чем в Крыму.
Поезд литерный остался в Буске, на станции. Дальше пути были подорваны. И пошла болтанка-моталовка по разбитым проселкам, по лесам-полям, по вшивым деревенькам, где ни помыться, ни обсушиться, ни пожрать по-человечески. Три дня прожили этой поганой жизнью, а кажется – три месяца.
И товарищ Рогачов недоволен. Тревожен товарищ Рогачов. А Панкрат Евтихьевич не такой человек, чтоб по пустякам переживать. На неустрой и бесприют ему плевать, он к удобствам равнодушный. Конная армия ему не нравится – вот что. Ругается он сильно на красного героя товарища Буденного и на прочих здешних начальников.
Члена РВС Рогачова на Конармию почему срочно кинули? Есть в Москве мнение, что заволынились Буденный с Ворошиловым на Львовщине. Не о победе над врагом думают, а о своей славе. И о том, чтоб распотрошить богатейший город, каких в разоренной России не осталось. Панкрату Евтихьевичу положено разобраться на месте: возможно ли взять Львов в два, много три дня, невеликой потерей. Если нельзя – брать товарища Буденного за шиворот и скорей тащить на северо-запад, где истекают последней пролетарской кровью измученные дивизии Запфронта. А еще товарищ Рогачов должен был проверить, правду ли доносят политработники, будто Конармия на грани разложения, дисциплина в ней ни к черту, тон задает махновский элемент, а честные партийцы из опасения за свою жизнь не смеют рта раскрыть.
Трое суток по передовой отъезжено – туда, сюда, обратно. И с каждым днем Панкрат Евтихьевич всё мрачней. Не армия это, говорит, а разбойничья орда. Грабят, женский пол насилуют, над пленными измываются, населенные пункты захватывают не какие по плану положено, а какие побогаче. У каждого конармейца конь еле бредет – в мешках хабару понапихано. Чем старше начальник, тем добычи больше. Иной комбриг целую повозку барахла в обозе держит, а у комдивов по двадцать-тридцать трофейных лошадей, главное казацкое богатство.
Нынче с утра обследовали шестую дивизию – самую боевую, ближе всех к Львову подобравшуюся, но и самую разболтанную. Под селом Задворье наблюдали в бинокли сражение: как красная конница чехвостит панскую пехоту. Впечатлительно. Герои конармейцы, нечего сказать. Но когда стрельба-рубка кончилась, когда казаки спешились, стали раненых поляков добивать, с мертвецов сапоги и одёжу стаскивать, потемнел лицом товарищ Рогачов. Велел ехать в штаб бригады – сюда то есть, в этот самый Неслухов.
Ох, крутенько поговорил Панкрат Евтихьевич с комбригом товарищем Гомозой, славы у которого не меньше, чем у самого Буденного. Они с товарищем Буденным друг на дружку очень похожи: морды у обоих красные, брови густые, усищи вразлет, только товарищ Гомоза еще кряжистей командарма, шире, круглее – будто Буденного насосом надули, как автомобильное колесо.
Героем товарищ Гомоза еще в германскую стал. В газетах про него писали, даже на лубках рисовали, вровень с казаком Кузьмой Крючковым, что на пику разом двух германцев вздел. Сам царь Николашка принимал вахмистра Гомозу во дворце, обнимал, в уста лобызал, велел в офицерский чин произвесть.
И вот такого человека – богатыря сказочного – товарищ Рогачов последними словами крыл, за ворот тряс. Ты что, рычал, мерзавец, делаешь. Во что бригаду превратил. Мы-де в Европу факел революции несем, хотим порабощенный рабочий класс освободить и на свою сторону привлечь, а твои волки кровавые Красную Армию позорят, население в врагов наших превращают. Дело пролетарской революции погубить хочешь, гад. Насмотрелся я, шипел, как вы тут воюете. К стенке тебя, комбриг, надо.
Долго ругался, даже по-матерному. Гомоза слушал молча, только лицо, без того багровое, всё гуще наливалось. Френч у комбрига генеральский, даром что без погон. На груди, рядом с двумя орденами Красного Знамени, полный георгиевский бант – никогда прежде Филипп не видывал, чтоб в Красной Армии кто-то дерзал царские награды носить. Гомозе – ему можно.
– Желаешь меня к стенке? Валяй, – сказал комбриг, когда Рогачов от ярости захлебнулся. – Я смерти не боюся. – Зажатая нагайка мерно щелкала по лаковому сапогу. – Только я вам, товарищ член Реввоенсовета, вот чего скажу. Дисциплина у меня в бригаде есть. «Ужас» называется. Глянут бойцы на меня – должны от ужаса дрожать. Никакой другой дисциплины с ими, бесами, не бывает. У меня три взыскания: малое, среднее и большое. Всякая собака про то знает. Малое – вот. – Он поднял пудовый кулачище. – До четырех зубов смаху вышибаю. Среднее – вот. – Нагайка со свистом рассекла воздух. – А большое – тута. – И похлопал крышку «маузера». – Плохо держу бригаду, сам знаю. Но не стань меня – в какую сторону хлопцы повернут, кого резать станут? Так что, расстреляешь меня иль повременишь?
Вздохнул Панкрат Евтихьевич, замолк. Минуту или две глядели они друг на друга исподлобья: один прямой, сухой, железный; второй – бык быком.
Наверное, случись это сразу по приезде товарища Рогачова в Конармию, не сносить бы комбригу головы. Не раз и не два видел Бляхин, как Панкрат Евтихьевич своею рукой, без трибуналов, вредных для революции элементов карает. Страшен усатый комбриг, а и он настоящую силу почуял. Стоял, ждал – не шелохнется.
А потому что одно дело – просто герой, и совсем другое – истинно капитальный человек. На этой войне, которую называют Гражданской, Филипп по своей ответственной, при товарище Рогачове, должности повидал вблизи много больших людей. Когда революция, наверх выдвигаются не генеральские сынки, а природные вожди, кто имеет дар за собой людей вести. Видывал Филипп и лихих, и удачливых, и грозных, и будто пламенем охваченных, и тех, которые умеют речи говорить – заслушаешься, однако ж всё это были качества временной ценности. Только для революционного времени. Отгрохочут пушки, кровь подсохнет, муть осядет, и тогда окажется, что большинство шумных героев в новой жизни ни за чем не нужны. Гомоза этот, ужас вселяющий, будет в память о прошлых заслугах какую-нибудь почетную, но не важную должность занимать и, поди, сопьется на ней от скуки. Или Буденный тот же. Это сейчас он со своей конницей птица большого полета, а на что он в солидном государстве? Вот товарищ Ворошилов, главный конармейский комиссар, этот далеко пойдет. Глаз у него хитрый, спокойный. Буденный зыкает, а Ворошилов тихонько говорит да посмеивается. Это знак силы – Бляхин по Панкрату Евтихьевичу научился такие приметы распознавать.
Капитальный человек никогда горло не дерет. Но когда говорит – все его слышат. Крепко повезло Филиппу с товарищем Рогачовым. Как есть орел – спокойного, мощного полета. Держись за крыло да не падай, и всё у тебя будет.
Один только недостаток у благодетеля. Тяжкий. Никак Панкрат Евтихьевич не поймет, что орлиный полет должен всегда вверх быть, к солнцу. Не ценит товарищ Рогачов своего исключительного положения, не брезгает с высот до самой земли спускаться. Совсем нет у человека представления о служебном росте. Как закончится война, запросто может министром, то есть народным комиссаром стать, а может вместо этого какую-нибудь ерундовую должность себе выпросить. В поезде, четыре дня тому, в хорошем настроении, стал Рогачов рассказывать, как в мирной жизни мечтает большую электростанцию построить, потому что учился где-то за границей на инженера-электрика. Электростанцию, твою мать! Антоха, дурак, слушал-поддакивал. Филипп возьми и вверни: «Электростанцию много кто построить сумеет. Дело техническое. Вот кто будет всю страну на коммунистические рельсы ставить – таких мастеров днем с огнем». Научился он такие слова находить, чтоб на Панкрата Евтихьевича действовали. И сработало. Про электростанцию эту глупую разговора боле не было.
Вывод отсюда какой? Не только Бляхину от близости к товарищу Рогачову профит, но и капитальному человеку от помощника польза. Кое в чем Филипп, пожалуй, не дурее начальника. И подскажет аккуратно, и осторожно в нужную сторону повернет. Нужны они друг дружке, как нитка иголке, а иголка нитке.
– Ладно, комбриг. Поехали, покажешь свои полки, – сказал Панкрат Евтихьевич хмуро, но уже без мертвенного блеска в глазах. – Поглядим, достаточно ли ты ужасный. Или на твое место надо кого поужасней найти.
Кирпичная морда героя не дрогнула, и голос остался таким же, но налитая фигура будто раздалась шире, чуть обмякла. Понял комбриг, что поживет еще.
– Ужасней меня, товарищ член Реввоенсовета Республики, на свете людей мало. А полки мои по-за лесом расквартированы. Напрямки надо, дорога всё одно разбитая. Не проедет ваше авто. И куда на ночь глядя? Повечеряли бы, в баньке попарились. А на рассвете покажу.
– … тебе в…, а не баньку! – гаркнул тут товарищ Рогачов. – Каждый час дорог! Дай мне коня, Гомоза, я верхом поеду.
И уехали они в густеющие сумерки, с личной сотней комбрига, с конвойным полувзводом члена РВС.
Оставив поезд, товарищ Рогачов ездил промеж частей так: в автомобиле с шофером, впереди – Филипп в кожаной фуражке с красной звездочкой, сзади сам начальник с секретарем. Потом тачанка с личными вещами, а конная охрана – то спереди, то сзади, то по бокам, в зависимости от обстановки.
Лесными тропами на четырех колесах не проедешь, поэтому шофер Ганкин остался при машине, кучер Лыхов при коляске, а Бляхин с Клобуковым – как не умеющие сидеть в седле. То есть Филипп-то умел, худо-бедно научился за два года цыганской жизни, но товарищ Рогачов сказал:
– Не возьму. Сидишь, как кошка на трубе, будешь меня позорить.
Сам-то он хорошо ездил. Хоть не по-казацки, но ладно.
– Остаешься за старшего. Тачанку не распрягать, Ганкин пусть в машине спит. Вернусь ночью – дальше поедем. Пожрать сообрази что-нибудь. Я у них там есть не стану. Для строгости.
То-то: за старшего. Филипп сказал про это шоферу, кучеру и Антохе. Последнему строго наказал далеко от хаты не отлучаться. И никто не взбрыкнул, а дисциплинированный Ганкин даже ответил по-старорежимному «есть». Признали в Бляхине начальство. Это было приятно.
Над картой он трудился в исключительно хорошем расположении духа. Думал: а ведь я теперь, если по-военному смотреть, во всем Неслухове главный командир. Комбриг с начальником штаба уехали вместе с Панкратом Евтихьевичем, так? Остались штабные, хозвзвод, обозные. Случись что – кто ими командовать будет? Адъютант товарища члена Реввоенсовета Республики, больше некому.
Дорисовав карту, Филипп озаботился ужином для Панкрата Евтихьевича. Сам наскоро попил молока, покушал хлеба с салом, но для товарища Рогачова требовалось добыть что-нибудь поосновательней. Курятины хорошо бы или колбасы, картошек отварить несколько. И самовар держать наготове, горячий. Чтоб мог Панкрат Евтихьевич чаю выпить, даже если сразу уезжать надо.
Невместные для адъютанта это были хлопоты, но Филипп их никому не уступил. Хорошо, что в Красной Армии денщиков не заведено. Никто Бляхина этой мудрости не учил, сам ее превзошел: кто о человеке, о самых главных его надобах заботится, тот ему и роднее. Сроднились они с товарищем Рогачовым за два с лишним года. Нет у Панкрата Евтихьевича на всем свете никого ближе Филиппа Бляхина. По меньшей мере еще недавно так было.
В соседней комнате зашелестела бумага. Это Антоха сидит у керосиновой лампы, книжку читает. Барчук, белоручка!
Потускнело хорошее настроение от всегдашней обиды.
Два с половиной месяца назад, когда драпали из Севастополя, Филиппу и в голову не могло придти, что кто-то втиснется между ним и товарищем Рогачовым. Тревожно было думать, что Панкрат Евтихьевич когда-нибудь возьмет да женится, а от очкастого, картавого глистеныша, который нежданно-негаданно вылез из прошлого, как из задницы, Бляхин никакой опасности не ждал.
Там как вышло?
Проводил Филипп товарищрогачовского знакомца до калитки, поручкались на прощанье, а через минуту – стук. Вернулся. Рожа белая, в красных пятнах, глазенки под очками моргают. Сказал, что на пустыре люди подозрительные – слежка.
Побежали к Панкрату Евтихьевичу. Тот с укором: «Эх, Филя. Антон-то ладно, какой с него спрос, а как ты мог слежку прошляпить?» Вот с того первого попрека всё и пошло наперекосяк.
Лазом поднялись на холм. Сверху увидели: точно, пылят по дороге грузовики с солдатами, впереди закрытый легковой автомобиль мчится. Выследили беляки руководителя всекрымского подполья!
Ушли в горы, вызвали оттуда по рации катер. Пришлось уходить обратно в Тамань. Филипп, честно сказать, радовался. Ну их к лешему, такие приключения.
Но Клобуков с того дня прилип к Панкрату Евтихьевичу, как репей. Не отдерешь. Бляхин с начальником редко когда про постороннее разговаривал, только по делу. А с Антохой товарищ Рогачов, бывает, подолгу беседы беседует. Иногда и не поймешь, о чем. В машине ехать: Филипп, значит, впереди, с шофером, а Клобуков барином, сзади. Получается, что с ним Панкрату Евтихьевичу интересней. А может, и приятней. Явился очкастый на готовенькое. Ототрет, отодвинет верного человека. Что-то с этим надо делать, пока не поздно.
На постой члену РВС выделили хорошую хату, чистую. Поповскую, что ли: в горнице одна стенка вся в иконах, другая в фотографиях, и на них сплошь попы бородатые. Две большие комнаты, спальня. Но в спальню Филипп только заглянул, больше не совался. На полу лужа засохшей крови, в ней пух и перья. То ли гуся резали, то ли человека, а пух – на кровати перина распоротая. Стояли тут, пока комбриг не выгнал, какие-то кавалеристы.
Филипп вышел во двор, где шофер Ганкин, который не мог сидеть без дела, возился с «фордом». Из-под машины торчали ноги в кожаных штанах и высоких желтых ботинках. Рядом лежало снятое колесо.
– Гляди, чтоб к возвращению товарища Рогачова авто было на ходу, – сказал ботинкам Бляхин.
– Будет, – глухо ответили из-под «форда».
Тачанка во двор не поместилась, стояла за воротами.
Нераспряженные кони хрупали зерном из привешенных к мордам мешков. Возница Дыхов чистил пулемет «гочкис», закрепленный на задке. Масляный ствол поблескивал в лунном свете.
Кучеру Бляхин ничего не сказал, опасаясь нарваться на неуважение. Дыхов был человек отсталый, грубый. Когда отрывают от работы, не любил. Но за него, как и за Ганкина, можно было не беспокоиться. Товарищ Рогачов подле себя пустых людей не терпел.
Штаб, где Филипп думал разжиться насчет шамовки, был в двух шагах, на площади, в каменном доме нерусской постройки. Хотя местечко было не польское, а украинское. И церковь на площади стояла не с католическим, а с православным крестом.
Обходя лужи, сверкающие, будто серебряные подносы, Бляхин упруго шел к крыльцу. Там, конечно, никакого часового. Прямо на ступеньке, перегородив проход, вразвалку сидели двое: какой-то мордатый, в кубанке набекрень, и тетка в военном. Боец гудел ей что-то на ухо, тиская пятерней грудь. Баба похохатывала.
Штаб бригады, нечего сказать.
– Комендант где? – строго спросил Филипп. – Я вас, товарищ, спрашиваю. Встаньте, с вами говорит адъютант члена Реввоенсовета Республики.
На освещенном луной плоском лице глаза сомкнулись в щелки, а рот наоборот раззявился, там блеснул железный зуб.
– Щас я зараз встану, – сказал хриплый голос. – Я встану.
– Ладно тебе, Харитош, – удержала его баба. – Не чепляйся, ты выпимши. У себя комендант, вы проходьте.
Бляхин начал злиться. Во-первых, как пройдешь, когда этот со своей шалавой раскорячился и шашка поперек ступеней? Во-вторых, вольница вольницей, но всему же есть предел? Ох, вернется товарищ Рогачов!
– Вы кто такой, товарищ боец? Часовой? Отвечайте по уставу!
– Хто я такой? – медленно повторил мордатый и с неожиданной легкостью поднялся. – Я смерть твоя, гнида.
Липкая ладонь ухватила за лицо, сжала так сильно, что Филипп вскрикнул от боли. От толчка он отлетел на несколько шагов, еле удержался на ногах.
На него с крыльца надвигалась черная, перепоясанная ремнями фигура. Только теперь Бляхин ощутил сильный запах перегара.
– Я тебя сейчас кончать буду, адъютант сучий. Вот этой вот рукой до нижней кишки разрублю.
Баба повторила:
– Ладно тебе, Харитош. Опять ты. Скушно!