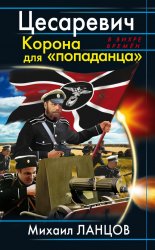1993 Шаргунов Сергей
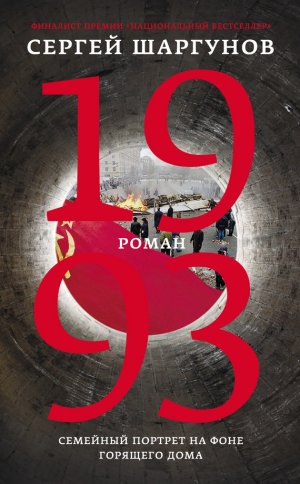
© Шаргунов С.А.
© ООО “Издательство АСТ”
Глава 1
Всю ночь с 23 на 24 июня 1993 года над Москвой шел сильный дождь, моросило всё утро, и сейчас, в полдень, еще накрапывало.
На Дмитровском шоссе в ряд вытянулась четверка троллейбусов. Их держал красный светофор.
Валентина Алексеевна сидела у окна, лбом прижимаясь к стеклу. Она ехала на собрание Белого Братства. В голове без конца играла давняя песенка: “За малинкой в сад пойдем, в сад пойдем, в сад пойдем, плясовую заведем, заведем, заведем!” В тоскливые или зябкие минуты, стараясь согреться или забыться, Валентина Алексеевна вспоминала песни детства. И даже на молитвенных собраниях, когда все пели гимны Марии Дэви, она, растворив голос в общем хоре, тайком пела свое любимое.
Позади бранились сырые пассажиры.
– Лето называется! – вздохнул кто-то.
– И что, я в этом виновата? – откликнулся женский голос.
– Да я вас вообще не трогаю!
– Ну и не трогайте тогда!
– Размечталась!
– О ком? О тебе, что ли?
– Чтоб ты сдохла!
– Только после тебя!
Валентина Алексеевна поежилась: “Злой народ стал” Машины ловчили, стягиваясь поближе к светофору. Проползла цистерна, желтая, круглая и чумазая, в темных блестящих подтеках. Следом задорно рванул грузовик с синим кузовом. Загудели одновременно два клаксона.
Гулкий удар.
Валентина Алексеевна всматривалась сквозь стекло.
Снаружи хлынуло. Она не могла отвести взгляд. Дзынь-дзынь-дзынь – мелодично и упрямо зазвенела струя в стекло.
Она смотрела и не понимала: светлая влага била, текла, расплывалась, но это не был дождь, нет, это был не дождь.
Укололо сердце, она вскочила. Люди, разом зашумев, толкали ее обратно на сиденье.
Только что грузовик протаранил заднюю стенку цистерны, и это бензин орошал все четыре троллейбуса, беспомощно вытянувшихся друг за дружкой. Струя, сильная и звонкая, хлестала в срединный троллейбус. Прямо в окно, за которым сидела Валентина Алексеевна.
Скользнула пугливая искра. За окнами ослепительно вспыхнуло. Всем стало жарко, и всех объединил крик ужаса – троллейбусы накрыла волна огня.
Валентина Алексеевна умерла от разрыва сердца за миг до того, как пламя охватило ее.
Водитель, молодой парень, вышиб монтировкой лобовое стекло и, выпрыгнув, побежал куда-то. Рога троллейбуса опалило, двери заклинило. Люди выбивали окна.
Бензин залил половину шоссе, и заполыхала огненная лужа. Кто-то, поскользнувшись, горел и уже не мог выбраться. Горящие фигуры бежали в разные стороны, раскачиваясь и танцуя. По шоссе, мимо машин. По тротуарам, мимо торговых палаток. Прохожие шарахались, или пытались сбить с них пламя, или просто остолбенело смотрели.
Усилился дождь. Поодаль накапливалась толпа.
И словно специально для толпы случилась драка двух факелов – всё пронеслось с такой скоростью, что не разобрать. Может, это влюбленные хотели отчаянными ударами спасти друг друга. Они обнялись, упали и слились в сияющий ком.
Четыре троллейбуса за минуту смешались в одно багрово-дымное целое. Рядом пылали грузовик и бензовоз.
Женщина в высоких сапогах заторможенно, широкими шагами, окутанная дымом и паром, шла по адовой луже, не выпуская из вытянутой руки длинный зонт. Сапоги ее золотисто разгорались.
Из дождя кричали:
– Беги!
– Бросай зонт!
– Падай и катись!
Внезапно, уже на пороге дождя, она раскрыла зонт над головой, и в ту же секунду грохнуло – взорвалась цистерна. Женщина упала. Следом за взрывом толпа шарахнулась, и даже самые дальние бросились врассыпную. Потом они медленно, крадучись, помаленьку опять скопились на прежних наблюдательных территориях. Зонт остался чудесно невредимым. Большой и упругий, он почти целиком прикрыл хозяйку.
Двое стояли на безопасном берегу, по виду старшеклассники. Руки их были сцеплены.
– Как на казнь любуемся! – сказал мальчишка. – Не стыдно?
– А чем мы им поможем? – спросила девочка.
– Молись!
Она послушно зашевелила губами.
– Смотри, лужи сохнут, – показал он.
Влага испарялась с суетливым шипением.
– Ой, Митя, а мы не загоримся?
Дождь, точно устыдившись своей нелепой ненужности, перестал. В небе проступила радуга, призрачная и переливчатая, как бензиновый поцелуй.
Съезжались пожарные, скорые, милиция, спасатели, репортеры. Огонь гасили пеной. Санитары тащили носилки.
– А ну брысь! – отгонял щекастый полковник камеры и фотоаппараты. – Я тебе пленку засвечу! Не вынимай ты душу! – подул он горячо на журналистку в элегантных солнечных очках.
– Как ваша фамилия? – протянул диктофон щуплый журналист с дымчатой шевелюрой.
Полковник выждал и сказал сентиментально:
– Иванов.
– А зовут Иван, да? – подхватили солнечные очки.
– Сколько погибших? – выпалил дымчатый.
– Сколько надо! – полковник отвернулся и пошел.
По вспученному асфальту волочили черные мешки. Пожарные вытаскивали из троллейбусов тела – одно за другим, одно за другим – и передавали по цепочке.
Подъехала аварийка – грузовик, где в кузове рядом с товарищами – слесарем Кувалдой и сварщиком Клещом – сидел Виктор Брянцев, электрик. Он вышел и огляделся.
– Дела-а… Как же их угораздило… – растерянно бормотал могучий Кувалда. – Чем провинились люди?
– Вот так: катаешься себе, и бабах, – тонким голоском поддержал низкорослый Клещ. – Был пассажир, и здрасьте вам: кучка пепла. И все равны: что безбилетный, что контролер…
– Хватит философствовать, – оборвал Виктор. Он был растерян больше остальных и от этого зол.
Провода свисали к земле. Возле троллейбусных остовов низко поникли фонари, как увядшие железные растения. Виктор глянул выше – на маленькую радугу в промытом светлом небе.
– Видал, а? – Кувалда сел на корточки, и, разогнувшись, показал на ладони большой значок, красным по желтому: “Хочешь похудеть? Спроси меня как!”
– Символичненько, – заметил Клещ.
– Да выбрось ты, – дернул плечом Виктор.
Кувалда швырнул значок, он покатился по асфальту. Сиротливо щелкнул и замер.
– И на кой нас вызвали? – пробурчал Кувалда. – Электричество чинить? Это вообще не наш участок.
– Да видишь, авария какая, всех и созвали, – сказал Виктор.
– Обедать пора! – крикнул из кабины Валерка Белорус, усатый водитель.
– Поехали… – согласился Виктор. – Толку от нас…
Забрались в кузов, покатили обратно в аварийку.
Ехали молча.
Аварийка находилась в центре Москвы, на первом этаже двухэтажного здания за гостиницей “Минск”. Кувалда с Клещом отправились в соседний магазин взять бутылку и еду. Виктор толкнул дверь.
– Ну что там? – подняла голову сидевшая за телефоном женщина, похожая на галчонка.
– Жуть, – сказал Виктор с нажимом. – По телевизору еще не говорили? – ткнул пальцем в сторону экрана; звук был приглушен: Богдан Титомир извивался и ответно показывал пальцем. – Пойду умоюсь.
Завернул в узкий туалет, накинул крючок на дверь. Щедро намылил руки, смыл, намылил снова, обхватил щеки. В мутном зеркале на него таращился голубоглазый мужик. Рыжеватые кудряшки. Косматые рыжие брови. Широкое мясистое лицо в молочной пене. Нагнулся. Фыркая, отмылся. Закрутил краны до упора. “Всем всё чиним, а у самих вечно вода холодная… Но сейчас даже хорошо, что холодная…”
В комнате – под клекот радио – сослуживцы уже расселись за столом. Кувалда, Клещ, Валерка Белорус, Зякин, Мальцев, Дроздов.
Окликнули:
– Иди, пожрем!
– Вить, наливаем!
Он неопределенно махнул мокрыми руками:
– Щас, щас…
Шагнул в предбанник.
– Есть будешь? – Жена всё так же сидела за телефоном. – Суп в термосе. Бутерброды.
– Да погоди, Лен. Тошно. – Сел на диван. Спросил, как бы нехотя: – А ты?
– Поела уже.
– Одна?
– Я ж на телефоне.
Он сидел неподвижно, с лицом в каплях воды. Закрыл глаза.
– Смотри, смотри! Тебя показывают!
Дернулся. Лена сделала телевизор громче.
Репортер говорил наступательным речитативом – красивый молодой человек со светлыми волосами до плеч. Черный микрофон подрагивал возле рта, фоном чернели троллейбусы.
– Предварительная картина произошедшего такова: тяжелый камаз врезался в бензовоз, в цистерне которого было около двадцати тонн бензина. Водитель камаза торопился: кузов его был забит дорогой мебелью, которую, видимо, с нетерпением ждали заказчики…
– А я где?
– Да был только что. Погоди, может, еще покажут…
– Теперь о жертвах. Сейчас ведется их подсчет. Но известно уже, что четырнадцать трупов обнаружено только в каркасе одного из троллейбусов. Борта сложились, в районе средней площадки крыша легла на основание…
Дали общий план: черные остовы, мигалки пожарных и скорых, мельтешащие фигуры с носилками и мешками.
На экране возникла студия. Дикторша, приветливая, с лукавинкой, в расстегнутой блузке.
– Мы следим за информацией с места ЧП. К другим новостям. Сегодня в Верховном Совете России первый заместитель генерального прокурора Николай Макаров выступил с докладом о ходе расследования материалов, связанных с коррупцией должностных лиц…
– Перед глазами стоит, – сказал Виктор.
– А? – Лена убавила звук.
– Перед глазами, говорю. Людей выносят. Не пойми чего. Трудно поверить, что это люди были.
– Ой, Вить, лучше не рассказывай.
– Это нам знак всем – вот что я думаю.
– Знак?
– Помнишь, Валентина книжку тебе давала… ну, брошюру… секты своей. Хренотень, понятно. Но мне там выражение одно понравилось. “Репетиция конца света”. То есть пока мир не сдох – перед этим репетиции. Вот я смотрел сегодня на троллейбусы обгорелые и вспомнил Первое мая. Недавно же было. Проспект перегородили, пожарники, неотложки, на асфальте кровь, и автобус горит. Горел, пока весь не выгорел. По ящику показывали. Может, тогда первый был… как его… знак. Сегодня второй… А впереди чего? Какие огни?
– Ты о чем? – Лена смотрела на мужа с подозрением.
– Совсем глупая?
– Сам дурак. Первое мая, Первое мая… Ты про своих любимых, что ли? – У нее замелькали ресницы. Она часто смаргивала, когда начинала волноваться. – Так они это сами устроили. Плохо ты, видать, телевизор смотрел. Им сказали: стойте и митингуйте, а они? Поперли куда не звали, вот и столкновение. Да что я тебе говорю? Всё знаешь! Еще и милиционера грузовиком задавили. И никто не виноват… – она даже присвистнула. – Коммунисты, вперед…
– Демокра-аты… – Виктор пошарил руками по дивану, словно в поисках поддержки. – Дайте людям демонстрацию провести. Они ж не на Кремль… На Ленинские горы шли… Кому мешали? И кто шел? Старики, ветераны. Их дубасить начали. ОМОН на них кинули. Черепа пробивали. Кости ломали. Ордена срывали.
– Что ты на меня ополчился? – Лена нервно засмеялась. – Я-то тут при чем?
– Ну и не спорь. Скажешь, случайное оно, сегодняшнее? – Виктор дико глянул на пальцы с налипшей пылью и снова принялся водить руками по дивану. – Разболталось всё, никакого контроля, народ на машинах лихачит. Довели страну до белого каления. Вот и горим!
– А раньше такого не было? – в тон ему резко спросила Лена. – Просто скрывали. Это сейчас свобода слова – всё быстро передают.
– Передают… – он зло усмехнулся.
Зазвонил телефон.
Лена сняла трубку и долго молчала.
– Да, да, – подтвердила наконец.
Открыла толстую тетрадь, быстро записала что-то, послушала, снова записала.
– Нет у нас никого, – сказала раздраженно. – Как это: где рабочие? На пожар всех погнали. Там все службы сейчас. Слышали, небось, чего приключилось. И как я вам помогу? Вы до утра потерпите? Подумаешь, нет воды. А у нас рабочих нет!
– Тили-тили-тесто! – в комнату ввалился Кувалда. Покачиваясь, стоял и улыбался. – Пойдем за вас накатим!
Лена прикрыла трубку ладонью:
– Утром новая смена будет, и сразу к вам отправлю. Женщина… Вы меня плохо слышите? А зачем кричите? – Кувалда выпал обратно. Лена подождала еще полминуты, что-то начертила в тетради. – Ждите до утра! – Звучно повесила трубку.
Это было тайное правило любого диспетчера – стараться не нагружать свою бригаду. Завтра Лену сменит Варя Лескова, и – вперед. Лена не только затягивала простые вызовы, передвигая их на время следующего дежурства, но иногда оберегала бригаду от срочных и важных. Прошлой зимой, когда поздно ночью прорвало трубу под кинотеатром “Пушкинский” и телефон не смолкал, что-то подсказало ей поберечь ребят. Перекинули рабочих с соседнего участка, а вторая труба за их спинами вдруг возьми и лопни, двое сварились в кипятке. “Ленка, милая! Ты нам жизнь спасла. Не послала на убой”, – говорили ее подопечные. И сразу скинулись на банку кофе и коробку конфет, потом еще Кувалда привез ей домой четыре стула, которые они вынесли в свое время аж из генеральной прокуратуры (аварийка была складом инструментов, фанерных листов, швейных машинок и прочей всякой всячины, найденной по подвалам).
Лена пробежала глазами свежую запись, закрыла тетрадь. “Надо же, воду отключили, – неприязненно вспомнила панический голос из трубки. – Что, первый день на свете живет? Перебьются!» В соседней комнате хрипло смеялись и весело бранились. “Пускай идиотничают”. Когда шумели, орали, пели, даже дрались, она чувствовала себя спокойно. Бывало, вернутся с вызова, потные, грязные, толкаются и ругаются, и она блаженно засыпает. А когда в аварийке безлюдно, все на выезде, вот тут не заснешь – тишина сверлит мозг, страшно за ребят, как они там, среди труб и проводов, под землей…
Она подперла голову рукой и вдруг вслух вспомнила о дочери:
– И что там Танюшка без нас делает?
Муж молчал. Он спал, запрокинув голову на спинку дивана.
“Одно достоинство – никогда не храпит”. У других мужики храпят, у нее – нет. Просто чудо природы. Большой, сильный, мордастый, казалось бы, должен трубить и рычать, а спит как младенец.
Они с мужем работали в разные смены: сутки через трое. Кто-то должен приглядывать за дочерью, да и отдыхать надо друг от друга (всё равно выпадало три дня общих выходных), но сегодня дежурная Лида Слепухина попросила ее заменить – свадьба сына, вот Лена с Виктором и оказались вместе. Дочка одна дома. Шестнадцатый год, боязно за нее.
…Виктор вскочил.
Кто-то тряс его за плечо, багровый и зубастый.
Виктор смотрел, не узнавая.
– Вставай, вставай! Соня какой, – Кувалда осклабился участливо. – На вызов пошли!
Виктор сел на диване.
Он был без куртки, накрыт легким шерстяным одеялом, оказывается, спал на подушке. Понятно, Лена подложила.
– Рядом тут, Михалыч, – говорил Кувалда. – Одному неохота. Сам знаешь, сколько там бомжей. С кем еще пойду? Наши упились, валяются. Я-то не пьянею, а они влежку. Работа минутная. Чоп поставлю, и дело с концом.
– Чоп?
– Ну да, чоп. Там дырка. Не варить же. У нас и народу нет – варить.
– Зачем столько трескаете? А если вызов серьезный, кого посылать? – Лена оторвалась от телефона. – Вить, сходи с ним, проветришься. Близко это, на Петровке. Под банком каким-то. Кувалда знает. Вернешься, и спи дальше. Вся ночь твоя!
Виктор вслепую сунул ноги в рабочие сапоги, которыми жена предусмотрительно заменила ботинки. Глянул на квадратный циферблат на стене: без пятнадцати десять. Долго спал.
– Чаю, может? Бутерброд вот с колбаской… – Лена зашуршала бумажным свертком.
– Не.
– Не ест он, – пояснила она как бы в пустоту. – Увидал сгоревших и есть не может. Всю жизнь теперь, что ли, будешь голодать? Пока спал, тебя опять по телевизору показывали. И Кувалду. Всю вашу троицу. Скажи?
– Показали. Вроде похожи. Ты ешь давай. – Кувалда толкнул его плечом. – На поминках тоже едят.
– Вернусь, похаваю, – бросил Виктор безразлично.
– Давай налью на дорожку, – Кувалда пихнулся снова, заглянув в лицо.
– Не могу я.
– Чудно2 поминаешь…
– Да не поминаю я никого, отстань! – Виктор прошелся по предбаннику, подергал ногами, закинул руки за затылок. – Башка трещит. Вот не пил с вами, красавцами, а весь как с похмелья.
– Надо было выпить. Или своей боишься?
– Ага, боится он. Ничего он не боится, – сказала Лена сварливо, но и с некоторым довольством.
– Я три бутылки выпить могу и трезвый буду, – сказал Кувалда. – Вы представьте, до чего допился сегодня: “Рояль” водкой запил. Спирту, значит, хлебнул. Из другого стакана – хлоп, думал, вода, а там водка. Фу-ты ну-ты… Клещ, как увидел такое дело, его стошнило.
– Вы чего там, наблевали? – спросила Лена строго.
– Да нет, он в окно…
– Точно не в комнате?
– Да нет…
– Смотри, кому-нибудь на голову наблюет.
– Да нет, там козырек железный. Он на него. Я звук слышал, гремело. А вы это… – Кувалда посмотрел на Брянцевых вопросительно и деликатно. – Я слышал про это самое… базарили… Как ненормальные. Вы чего?
– Про что? – недовольно насторожилась Лена.
– Про коммунистов, демократов, хрен вас разберет… Чтоб я со своей так…
“Слышал он… – подумал Виктор. – Как он услышал? Они же пили в другой комнате”.
– А ты ему скажи! – оживилась Лена и стала нервно пролистывать туда-обратно тетрадь. – В жизни его политика не интересовала. Перестройка мимо нас пролетела. И тут вдруг начал… По телевизору одно скажут, я смотрю, он вроде как ревнует и наоборот вякает. Я возражу, он взбесится, давай опровергать. Ну и мне обидно! Выходит, это он меня нарочно унижает. И начали мы в политике разбираться. Кому рассказать – не поверят. С какого это времени у тебя, Вить? С весны? Или раньше? Зимой еще? Когда съезд показывали? Помнишь, болели мы, кашляли, смотрели от нечего делать… Стал вдруг Хасбулатова хвалить! Лишь бы мне насолить… – Она осеклась.
Виктор, подойдя вплотную к Кувалде, положил ему руку на плечо.
– Друг. Эй, друг! Ты если в чем не понимаешь, в то не лезь.
Он говорил с такой негромкой яростью, что Лена ощутила горячую волну опасности.
– Совсем сдурели? Идите уже отсюда!
– Я? Я ничего… – Кувалда стоял прямой и недоуменный, погасив улыбку. – Спросить уже нельзя? Не кипятись ты, Михалыч. Вам жить…
– Распелась… – сказал Виктор. – Придумала и поет… – Он снял зеленую куртку со спинки стула, резко поднял молнию. – За Россию я переживаю. Чего вам непонятно?
Глава 2
Виктор родился зимой пятьдесят четвертого в Нововятске Кировской области, в большом двухэтажном бараке. В комнате была печь, которую он лет с пяти помогал топить дровами. Мама Вера, медсестра, работала сменами, по двенадцать часов. Бабушка Антонина Андриановна жила неподалеку – в деревне Шельпяки, за железной дорогой и леском, работала в колхозном саду и вдобавок возделывала свой участок. Ягоды носила на рынок в Киров – пешком восемь километров по тропинке вдоль железной дороги (поезда в Нововятске не останавливались), маленький Витя частенько следовал за ней.
Мать была им беременна, когда отец, работник лыжного комбината Михаил Бабин, попал под паровоз. Она говорила: перед этим поссорились, но не хотела рассказывать из-за чего, рассказом человека не вернешь. Сказала только однажды с какой-то обидой: “Чудной он был! Нервный”. Люди видели: он выеживался, шел по рельсе перед сигналившим поездом и наверняка хотел спрыгнуть, но не успел – его скосило, свалился по насыпи и сразу умер.
Можно было, наверно, вытравить ребенка (хоть аборты были под запретом, но все-таки она работала в больнице), однако брат, живший в Шельпяках и тогда еще бездетный, пообещал сурово: “Вера, я его возьму, если он тебе будет не нужен”.
Однажды мать получила деньги в кассе взаимопомощи на покупку мебели. Маленький Витя нашел пачку и удивился: “Зачем нам так много?”, отщипнул половину – только красных, оставив синие и зеленые, вынес во двор и раздал ребятам, которые немедленно накупили пряников и всякой всячины. “Ты что? – спросила мама холодно. – Где я теперь возьму красные деньги, а? – У нее сделался такой голос, что лучше бы отшлепала. – Они же самые дорогие!” Переживая, Витя не спал ночами и всё думал: “Что я наделал! Где мама возьмет себе новые красные бумажки?”
Мама была красивая, крепкая и звонкая – рыжина ему передалась от нее. Решительная, он побаивался ее всю жизнь.
Когда ему было четыре, она вышла за строителя Николая Брянцева. Брянцев был каменщиком по кличке Коля-руль, – всё разруливал, – напористый, лысый, с мощными кистями, дико развитыми от укладывания кирпичей. “Ни над кем не смейся! – повторял отчим. – Я дом, бывало, строю, вижу кого-нибудь лысого и кричу сверху: «Эй, лысый!». Вот и облысел быстро”. Вите было пять, когда мама родила дочку, названную Изольдой, – Изку. Им сразу дали трехкомнатную квартиру.
Витя ревновал к сестре. Приходила чужая, Изкина, баба Дуня, пеленала грудную, а он из-под кровати изо всей силы царапал старухе ноги. Она терпела, не жаловалась, пеленала… Сказала в первый же день, как пришла: “Коля, Витьку никогда не бей!” Отчим только в угол ставил.
В садике Витю за фамилию Бабин дразнили Бабой, но в школу он пошел уже Брянцевым. В детском саду он часто засиживался допоздна и оставался со сторожем Русланом Муратовичем, пожилым татарином, который приносил ему большую кастрюлю с кухни, где были разбухшие остатки компота – чернослив, курага, слива, изюм. Руслан Муратович ласково смотрел серо-каре-голубыми пестрыми глазами, как Витя, наклоняясь, скребет ложкой, выплевывает косточки на клеенку.
– Это компот волшебный, – говорил сторож, возможно, ставя какой-то эксперимент. – Всю гущу ешь, всю. Вот так, молодец. Ты никогда не умрешь. Это компот для бессмертия. Кто в свою смерть не верит, тот никогда не умрет. Ты бессмертный, запомни это, потому что ешь этот компот. Понял?
– Понял.
– Вкусно тебе?
– Да.
– Волшебный компот, – довольно кивал сторож.
– А другие днем тоже его пьют… – как-то заикнулся Витя.
– Они долго проживут, – мгновенно нашелся сказочник.
С этих пор Витя всю жизнь любил компот.
Изка заболела воспалением уха, стала тоненько надрывно плакать, и Витя вдруг начал ее жалеть. Он стоял часами у ее кроватки, заглядывал, поправлял одеяло, чи-чи-чикал языком о нёбо, убаюкивая, и у него самого в какой-то момент застреляло в ухе. Пришла баба Дуня: “Молодец, Витя, это твоя сестричка!” – он заплакал, бросился навстречу, упал на колени, обнимая толстые ноги чужой бабушки. “Да что ты, обалдел?!” – она подняла его грубым рывком…
В Нововятске городские дома перемежались с сельскими. Как-то летом вместе с приятелями Витя перелез через забор и стал в сумерках шарить в подвернувшемся огороде. Ребята что-то выдергивали из земли и бросали, объели один куст крыжовника, другой обсикали. Зато Витя, аккуратно вытянув с ботвой морковку, принес матери по пять штук в каждой пятерне.
Утром, вернувшись со смены и увидев на подоконнике оранжевые гостинцы, она спросила:
– Ты где взял?
– Нашел.
– Ты зачем их принес?
– Мам, я слышал, что от моркови люди веселеют. А ты устаешь, ты бываешь грустная.
– Пошли.
Она заставила привести ее к дому, который он нашел с тоской. К ним вышла бабуся в сарафане, заохавшая и замахавшая руками, но мама была упряма: Витя прошел на огород и воткнул в грядку всю морковь. Он плакал и сажал. С тех пор чужое он не брал.
Ему было девять, когда в леске с ним случилось страшное. Он уже дошел до насыпи, как, вовремя не услышанный из-за проходившего поезда, кто-то хлопнул его по плечу, сгреб в охапку, оттащил обратно в заросли и бросил на траву. Витя оцепенел, будто всё это ему снилось. “Только пикни – убью!” – мужик с бугристой рожей, в соломенной шляпе стоял над ним. “Я бессмертный”, – смутно вспомнил Витя и просить о пощаде не стал. Мужик ловко и быстро связал его толстой бечевой, словно бы проделывал это часто, и, оставив лежать на животе, ушел, напоследок опять сказав: “Только пикни”.
Неизвестно, ушел ли он насовсем или отошел, чтобы вернуться, – Витя напряг всё тело, ослабил узел, освободил правую руку и развязался за пять минут. Он побежал без оглядки в сторону бабушкиного дома – взлетел по насыпи и чуть не угодил под поезд. Обернулся: нет ли преследования? Соломенная шляпа мерещилась за каждой елкой.
Никому о случившемся он не рассказал, но ночами его мучили кошмары. Он узнал того мужика осенью возле их школы, без шляпы, с седым хохолком, и по тому, как затрепетал один мальчик – невысокий Вася Нилов, – понял, что был не единственным. И еще он понял: надо стать смелым.
И он стал приучать себя к смелости. Он заходил в лесок с перочинным ножом наготове, однажды забрел в самую середину, простоял, зажмурившись и досчитав до ста, а после, сохраняя достоинство перед невидимым наблюдателем, медленно удалился: сердце ухало так, что казалось, оторвется.
Вода манила Витю как главная опасность. Весной ребята собирались на окраине у реки Вятки, вдоль которой стоял город. Льдины то ползли, то припускали, сверкая и с треском ударяясь одна о другую. Витя прыгнул, поскользнулся, упал, но остался на льдине, встал и перескочил на следующую. Он не раз повторял эти прыжки. Однажды свалился в реку, но легко выбрался, наполовину мокрый, с сапогом, полным воды. Дома мать ударила его по губам ладонью, сразу всё поняв.
Она, когда сердилась, била по губам: было больно, но больше – обидно.
Летом по Вятке сплавляли лес, это дело называлось “затором”, и Витя решился пробежать по бревнам. Компанию ему составил Лешка Шмелев, друг из класса, с пушистой русой головой. Им повезло – перескочили от берега до берега и назад, несколько раз едва не угодив между мокрых жерновов.
Бабушка Анна, мать отца, из деревни Леваши, недалекой от Шельпяков, наставляла: “Витенька, если будешь ругаться – зубы сгниют, язык пожелтеет. У меня зубы хорошие, никогда по врачам не ходила. А язык во-он какой розовый! Даже если больно или обидел кто – кричать можешь, а матных слов не говори. От них все болячки”. Витя пропускал бабушкины советы мимо ушей. Особо не ругался, но и не так, чтоб ни-ни, – как вся детвора, по случаю.
У них в школе была такая забава: в классе или спортзале перебрасывать друг другу матерное словцо. Девочки в этом не участвовали, краснели, фыркали, стучали учителям. Словцо на букву “б” или на букву “х” Витя пасовал бездумно и беззаботно, но однажды, ему уже было десять, почему-то не захотел или, точнее, не смог. Как закоротило. Стало почему-то противно. В первый раз на это не обратили внимания, и во второй вроде не заметили, а в третий шпаненок Мишка Зыков, чей пароль оборвался на Вите, подойдя на перемене, громко спросил: “Может, ты девка?” – и сразу схлопотал в зубы. Мишка для видимости тоже пихнулся кулаком, но завял.
– Ты где себя изгадил? К доске прислонился? – зашумела дома мать. – Снимай немедленно…