Нестор Махно Ахинько Виктор
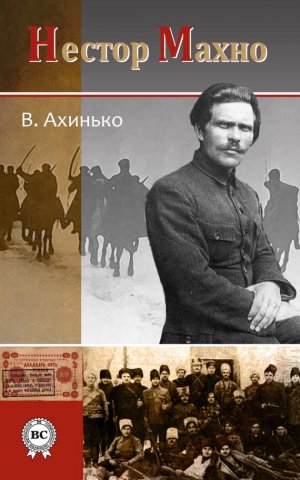
В слове Григорьева, обращенном к народу, не оставалось надежды на пощаду большевикам: «Вместо земли и воли тебе насильно навязывают коммуну, чрезвычайку и комиссаров с московской обжорки… Тобой воюют, с оружием в руках забирают твой хлеб, реквизируют скотину твою и нахально убеждают, что все это для блага народа. Труженик святой! Божий человек, посмотри на свои мозолистые руки и посмотри кругом; неправда, ложь и неправда. Ты – царь земли, ты кормилец мира, но ты же и раб, благодаря святой простоте и доброте твоей… Народ украинский, бери власть в свои руки… Да здравствует диктатура трудящегося люда!.. Долой политических спекулянтов! Долой насилие справа! Долой насилие слева! Да здравствует власть советов народа Украины!» (1,4, 204).
10 мая днем неожиданно соединиться с Григорьевым по телефону удалось Антонову-Овсеенко из Одессы. Григорьев храбрился, старался держаться твердо. Услышав голос командующего фронтом, усмехнулся: «Очень приятно, очень рад. Докладываю вам, что правительство авантюриста Раковского я считаю низложенным. Через два дня я возьму Екатеринослав, Харьков, Киев, Херсон и Николаев. Будет создан съезд Советов Украины, который нам даст правительство народное, а не правительство политических спекулянтов-авантюристов. Уважая вас, как честного революционера, сердечно прошу принять меры к предотвращению кровопролития…
– Я должен знать, что Григорьев говорит со мной.
– Это тот Григорьев, с которым вы ездили в Верблюжку…
– Правительство Украины с Раковским во главе выбрано на 3-м съезде Советов Украины. Не нужно оружия, чтобы созвать новый съезд Советов… Правительство нынешнее создано волею крестьян и рабочих…
– При помощи пулемета.
– А у вас разве их нет, чем вы будете действовать?
– На выборах их употреблять не будем.
Антонов понимал, что переубедить Григорьева нельзя; он говорил для того, чтобы выиграть время: войск для подавления мятежа не было, последняя надежда теплилась, что Григорьева уничтожат секретные сотрудники…
– Имейте твердость выслушать меня: только новый съезд Советов может дать новое правительство…
Григорьев перебил:
– Поздравляю вас. Только свободное участие всех советских партий даст нам правительство…
– Чтобы прийти к этому, не надо браться за оружие. Наше дело военных сначала отвоевать всю землю Украины и обеспечить внутреннюю свободу трудящихся…
Григорьев знал, что он смертник. Ему надоело спорить.
– Я не спорю, я только прошу, чтобы то правительство, которое так далеко стоит от народа и которое вдарилось в политическую спекуляцию, немедленно ушло от нас. И мы вместе с вами (то есть с Антоновым-Овсеенко. – В. Г.), под вашим командованием, выдержим какой угодно натиск. Народ, избавившийся от чрезвычаек и диктатуры коммунистов, воспрянет духом и пойдет вперед, не останавливаясь ни перед какими позициями врага. Вот вам, товарищ, мой ответ. Крови мы не хотим, но для того, чтобы говорить с правительством, я приказал занять Киев, Полтаву, Екатеринослав, Харьков…
Антонов сурово подчеркнул:
– Не могу допустить вашего наступления. Григорьев остался тверд:
– От наступления отказаться не могу. Прошу прислать делегацию. Думаю Екатеринослав взять без боя.
– Прощайте, ушел, – обрубил Антонов.
– Всего хорошего, – ответил Григорьев» (1, т. 4, 203–208).
На огромной территории Украины начались бои, которые продолжались более двух недель. Елисаветград несколько раз переходил из рук в руки; жестокие бои шли за Екатеринослав и Черкассы. Сил у большевиков было крайне мало. До подхода частей с фронта Екатеринослав защищали отряды коммунистической молодежи, мальчики 13–16 лет, и рабочие дружины. В Николаеве, в Черкассах, в Помощной к Григорьеву перешли красные гарнизоны. Лишь после переброски фронтовых частей в район восстания удалось переломить ситуацию: 27 мая Дыбенко отбил у григорьевцев Николаев, 29-го – Херсон. В ночь с 21 на 22 мая красный бронепоезд «Руднев» совершил неожиданный по своей дерзкой смелости налет на Александрию, где находились штаб Григорьева и стянутые для решительного боя резервы: ураганным артиллерийским и пулеметным огнем григорьевцы были рассеяны, потеряв до трех тысяч человек убитыми. С этого начался спад восстания. Подавлялось оно с исключительной жестокостью. Во всяком случае, под Кременчугом Ворошиловым и Беленкевичем применялись знаменитые «децимации» (изобретение Троцкого) – расстрел каждого десятого пленного, которые почти неизменно использовались при подавлении массовых выступлений народа против правительства.
Выхваченный из исторического контекста (что неизменно проделывается нашими историками) григорьевский мятеж предстает вспышкой нелепой, злокозненной, случайной, а сам Григорьев – просто каким-то украинским Иудой, человеком исключительного вероломства, спровоцировавшим бунт против родной, в сущности, власти тысяч крестьян, не забывших, что они крестьяне, несмотря на годы солдатчины. Но если быть честными и, напротив, вписать бунт григорьевской дивизии в контекст всего происходящего на Украине, то нам откроется абсолютная предрешенность, предопределенность этого мятежа, так давно партийными чинушами предчувствуемого и в разных местах подозреваемого. А «авантюристическая» роль самого Григорьева, упорно ему приписываемая, осмыслится как полностью фаталистическая. Он не врал, присягая Антонову-Овсеенко на верность и клянясь наступать на румын. Он тоже хотел, чтобы все кончилось для него честью и славой, его самого тошнило от дурных предчувствий неизбежности предательства. Он ведь чувствовал, как в «историческом бессознательном» – в душах десятков и сотен тысяч людей, ничего не знающих о законах, которые влекут их в коммунистическое завтра, – накапливаются злоба и возмущение против новой власти. Векторы единичных воль и раздражений соединялись, сливались в мощный, клокочущий поток; поток подхватил его, он стал голосом возмущения и злобы, полководцем ненависти; он не был вождем, он был лишь необходимым органом – командиром – того организма разрушения, которым стала его дивизия и который вовсю подпитывался извне. Он хотел справиться, совладать со своим гигантским телом ненависти, но не смог; управлять мятежом он не смог, оттого «григорьевщина» и осталась в памяти потомков какой-то кровавой блевотиной. Но и выбирать – быть или не быть восстанию – зависело не от него. Тысячи солдат его дивизии, тысячи родичей их в деревнях выбрали за него.
Дело заключалось, собственно, в том, что на Украине – в отличие от России, где большевики в 1917–1918 годах из тактических соображений воспользовались эсеровской земельной программой («земля крестьянам!»), чтобы потом протащить в деревне свою линию, – решено было не лукавить и сократить путь к коммунизму до минимума. В связи с этим произошла как бы «обратная реставрация» помещичьего землевладения: в бывших имениях и экономиях решено было создавать совхозы, замышляемые в условиях разгромленного рынка как высокопродуктивные государственные фабрики хлеба, сахарной свеклы, племенного скота. При всей внешней привлекательности этой вызревшей в Кремле идеи не учитывалась одна только малость: чтобы воплотить ее в жизнь, требовалось вновь отобрать у крестьян захваченные ими у помещиков землю, скот, инвентарь. Уравнительный передел земли отвечал убогим экономическим интересам тогдашнего крестьянства, но сколь бы ни были они убоги, это были все же не отвлеченности, а интересы, поднявшие в свое время крестьянство Украины на повсеместное восстание против немцев. Теперь ситуация повторялась – землю вновь хотели отнять. Причем чем беднее был уезд, тем больнее били правительственные меры по крестьянам, которые все еще мечтали, все еще надеялись стать хозяевами. Поэтому уже в феврале 1919 года в деревнях повсеместно начались возмущения, все усиливающиеся по мере того, как крестьяне знакомились с проводниками правительственной земельной политики – уполномоченными Наркомзема и Наркомпрода, чекистами, продотрядчиками. Все это были непонимающие, ненужные люди, абсолютно чуждые им. Когда же весной 1919-го, несмотря на полное фиаско политики комбедов, хорошо зарекомендовавшей себя в России (Украина была богаче, бедняков в деревне было меньше, а те, что были, не сразу прельстились возможностью безнаказанно грабить односельчан в пользу власти), начались принудительные хлебозаготовки, деревня ответила угрюмым сопротивлением, и скоро дело дошло до вооруженных схваток.
Задним числом конечно же партия признает потом ошибочность избранной земельной политики. Подходящие слова найдутся и у Ленина, и у Троцкого. Причем и в 1919-м, и в 1920 годах. Тактика таких признаний и украшает, собственно говоря, фасад тоталитарного режима своеобразным бюрократическим флером: товарищи, господа, смотрите – были ошибки, но мы их открыто признали, исправили. Вот решения, постановления, резолюции…
Одно из наиболее впечатляющих оправданий принадлежит Дзержинскому, который после крымской резни 1920 года, учиненной Землячкой, Пятаковым и Белой Куном, сокрушенно говорил В. Вересаеву: «Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия…» (10, 30). Мы еще дойдем до Крыма и до того, что там произошло. Сейчас нам важно продраться сквозь бесчисленные «признания ошибок» и увидеть реальность, замутненную, а то и начерно замаранную самооправданиями и партийными бумажонками.
А реально весной 1919 года на Украине непрекращающейся чередой пошли крестьянские мятежи. Первым крупным был мятеж атамана Зеленого, командира сформированной эсерами против гетмана «днепровской дивизии», которая во время встречи с красными войсками держалась дружелюбно и даже, как ожидалось, могла примкнуть к ним. С Зеленым – тридцатитрехлетним задумчивым человеком, явным украинофилом, – разговаривал Антонов-Овсеенко. Атаман осторожно выразил готовность служить советской власти, но одновременно намекал на необходимость ее расширения: господство большевиков в правительстве не нравилось ему… Договорились вроде бы до того, что части Зеленого отойдут в тыл для переформирования по принципу регулярных. Вместо этого, вернувшись к войскам, Зеленый отдал приказ о наступлении на Киев. Лозунги восставших были традиционны: за свободную Украину, за независимые от большевиков Советы, против насильственной коммуны. Действия тоже: погромы, уничтожение коммунистов, безумные, отчаянные бои с усмирителями.
29 марта был отдан приказ об истреблении Зеленого и объявлении его вне закона. Это не помогло: восстание ширилось, «банды» крестьян подходили к Киеву. Разведка доносила: «Некоторые села присоединились поголовно к бандитам; дома остались лишь старики и дети. 5 апреля бандами занята Тараща, 22-й полк здесь разбит и потерял 4 орудия… Общая численность банд до 6000, из них вооруженных винтовками несколько сотен, остальные вооружены косами, топорами, вилами… К северу от Попельни у бандитов 4 орудия. Бандиты мобилизуют население для перекапывания желдорпутей…» (1, т. 3, 344).
10 апреля отряды Зеленого ворвались в Киев, разбив коммунистический полк, и только личным вмешательством членов правительства, возглавивших партийные дружины, удалось восстановить порядок в городе. Ликвидировать восстание удалось лишь к началу мая, отряды Зеленого были рассеяны регулярными войсками, но на самом деле конфликт был просто загнан вглубь и ситуация продолжала оставаться взрывоопасной. Достаточно пролистать «Записки о Гражданской войне» Антонова-Овсеенко, чтобы получить представление о масштабах явления, столь неудачно поименованного бандитизмом, – это была самая настоящая крестьянская война против правительства, которое бросило на подавление мятежей более двадцати тысяч войск (лишь вполовину меньше, чем на «внешнем» фронте), при артиллерии и бронепоездах – что, впрочем, не обеспечило успеха.
Гомельский мятеж, возглавленный левыми эсерами-активистами – сторонниками активной вооруженной борьбы с большевиками, был подавлен сравнительно легко. Труднее пришлось с восстанием, вспыхнувшим в бедняцких – именно бедняцких, а не кулацких, – районах Литинского и Летичевского уездов: здесь повстанцы принципиально стояли за «подлинную» советскую власть, обвинять их в контрреволюционности было трудно, ибо даже их политические декларации не выходили за рамки жалоб, написанных «наверх» для выяснения нелепых, надоевших недоразумений. Атаман восставших обращался к властям:
«Все крестьянское население Литинского уезда в течение двух месяцев было узурпировано диктатурой кучки проходимцев, большей частью евреев, не избранных ими, почему крестьянство, сорганизовавшись, стало под красный флаг и сбросило навязанное ему правление евреев, называющее себя крестьянским. Город Литин и его уезд заняты красноармейскими крестьянскими войсками… Порядок в городе образцовый, что засвидетельствует посылаемая для вручений сего делегация от всех групп трудового населения. Прошу не присылать во избежание братского кровопролития войск. Если есть хорошие агитаторы (не коммунисты) христиане, прошу прислать. Всем советским учреждениям мною приказано возобновить работы…» (1, т. 4, 252).
То, что кровопролитие – не метод справиться с крестьянскими восстаниями, – понимали прежде всего военные, на которых были возложены карательные функции: ужас заключался в том, что и войска, состоящие из тех же крестьян, трясло, и вот-вот могло начаться что-то неописуемое. Мобилизации в Красную армию были полностью провалены. Армия ненавидела ЧК. Разгром и даже поголовное истребление тыловых чрезвычаек при отступлении красноармейских частей были довольно типичным явлением. Озлобление дошло до того, что даже такой надежный товарищ и проверенный герой, как командир Таращанского полка Боженко, именем которого названы улицы, послал Щорсу телеграмму следующего содержания: «Жена моя социалистка 23 лет. Убила ее ЧЕКА г. Киева. Срочно телеграфируйте расследовать о ее смерти, дайте ответ через три дня, выступим для расправы с ЧЕКОЙ, дайте ответ, иначе не переживу. Арестовано 44 буржуя, уничтожена будет ЧЕКА» (1, т. 4, 163). Кто погубил любимую жену Боженко, неясно. Но факт, что только уговоры Затонского удержали полк от похода на Киев…
Антонов-Овсеенко понимал, что для изменения ситуации необходимо принимать решения политического характера. После провала мобилизации в апреле 1919 года в записке Ленину он перечислил ряд мер, необходимых для того, чтобы удержать советскую власть на Украине. В их числе были: введение в правительство представителей демократических партий, связанных с крестьянством; изменение земельной политики; сокращение на 2/3 всех советских учреждений; отказ от продовольственной диктатуры (1, т. 4, 148).
Буквально накануне григорьевского мятежа в докладе «о борьбе с тыловыми восстаниями» он вновь предлагает: назначить новый съезд Советов Украины, «внести разъяснение по земельному вопросу», упразднить центральную украинскую ЧК, подчинить местные ЧК исполкомам Советов, упразднить продотряды, запретить работникам на местах третировать население именем Москвы… (1, т. 4, 154). Не у одного Антонова-Овсеенко была ясная голова. Член правительственной комиссии по продовольствию Ефимов сообщал в центр: «карательными отрядами украинских крестьян успокоить никак нельзя будет» – и умолял для начала изменить название партии большевиков-коммунистов хотя бы на «большевиков-общественников», потому что крестьяне так ненавидят слово «коммуна», что не могут его слышать (1, т. 4, 258).
22 мая екатеринославская большевистская газета «Звезда» поместила умную и беспощадную статью И. Сановича против ЧК, «всеобъемлющая компетенция» которых возмущает автора: почему права чрезвычаек ничем не ограничены? Для чего существуют военные и гражданские трибуналы, если ЧК имеют право внесудебной расправы? Кому они подчиняются? Он требует и изменения аграрной политики: «руководящим положением в данном случае должна быть линия наименьшего сопротивления и наибольшей близости к живым нуждам крестьянства…». Представляю, какое возмущение вызвали у товарищей по партии эти слова!
В 1933 году, когда выходили «Записки о Гражданской войне», Антонову-Овсеенко пришлось оправдываться за свои выводы 1919 года, называя их «поддакиванием кулаческим устремлениям» и «недопустимым обобщением фактов», – по-видимому, без этого самобичевания его честная книга, драгоценная для всех историков Гражданской войны, вообще не увидела бы свет. Что же касается И. Сановича, то ему уже в том самом 1919 году, без сомнения, пришлось выслушать упреки в соглашательстве и мелкобуржуазности. Умным советам умных людей, которые могли бы предотвратить реки человеческой крови, ни правительство, ни власти на местах не склонны были внимать. Преобладающая линия была другая: силой, не считаясь с жертвами, подчинить влиянию государства и партии, его возглавляющей, все закоулочки прежнего хозяйства. Окончательным и неколебимым сторонником жесткой линии по отношению к крестьянству, этому «несознательному», последнему буржуазному классу, своего рода материалу, необходимому пролетариату для выполнения своей исторической миссии, был Троцкий. Но Троцкий был не одинок. Романтическая большевичка Александра Коллонтай писала в то время: «На Украине сейчас, после закрепления власти за рабочими и крестьянами, начинает постепенно выявляться неизбежная рознь между этими несливающимися социальными элементами… мелкобуржуазное крестьянство целиком враждебно новым принципам народного хозяйства, вытекающим из коммунистического учения…» (28, 1 июня 1919 г.). Но если «целиком враждебно», то не следует ли его поголовно истребить, так же как и казачество? О том, что мысли такого рода, мысли, так сказать, обобщающие являлись в партийные головы, свидетельствует текст объявления одного из уездных военкомов, который всех трудящихся подразделил на особо благонадежных и менее благонадежных в политическом отношении: к последним, естественно, «относятся крестьяне и прочий распыленный элемент» (28, 12 февраля 1919 г.). Эти слова кажутся цитатой из Салтыкова-Щедрина или Андрея Платонова, однако за всем этим стояла, увы, не литература, а реальность.
Ленин, в целом, не склонен был к поиску серьезных компромиссов. Менять земельную политику, структуру власти он не собирался. Диктатура пролетариата казалась ему достаточно цельной и ценной политической доктриной, чтобы пожертвовать ей несколько десятков или даже сотен тысяч человек. Однако он готов был пойти на демонстрацию, на видимость компромисса, чтобы, обманув этой демонстрацией партнеров, заставить их самих работать на утихомиривание политической ситуации. Решено было вновь поиграть с эсерами в двухпартийное правительство. В шифрованной телеграмме Раковскому 18 апреля 1919 года Ленин поделился соображениями о количестве отводимых им в правительстве мест: «Насчет эсеров советую никак не давать им больше трех и хорошенечко окружить этих трех надзором большевиков, а если не согласятся – им же хуже, мы будем в выигрыше». Через шесть дней Ильич шлет Раковскому еще одну недвусмысленную указульку: в случае расхождения эсеров с линией правительства в продовольственном и других основных вопросах – «подготовить изгнание их с позором».
А эсеры, глупцы, верили, что с ними играют серьезно!
Григорьев больше не верил. То, что григорьевское восстание разразилось с такою адскою силой, было следствием именно неверия, окончательного неверия крестьян в то, что с этой жестокой и тупой властью в принципе можно договориться. Уничтожить – можно. Истребить. Вырезать под корень. Силой заставить говорить с собою по-человечески. Этим настроением была задана чрезвычайная жестокость восстания, которая в конечном счете стала причиной его погибели.
Поначалу восстание во многих вселило надежду. Популярность Григорьева среди крестьян выросла необыкновенно; от него буквально ждали чуда; количество желающих записаться в его отряды во много раз превосходило количество оружия; добровольно привозили ему тысячи пудов хлеба. Одновременно сыграть на григорьевщине хотели и политики: призывно забились сердца анархистов-набатовцев, усмотревших в восстании начало «третьей революции» против всякой власти. С Григорьевым в тонах самых нежных говорили и члены ЦК украинских эсеров, умоляя не проливать кровь (для демонстрации семнадцати эшелонов, двинутых на Екатеринослав, было вполне достаточно) и уверяя, что сейчас – особо благоприятный момент для политических превращений: все оттенки эсеров договорились между собой, большевики готовы допустить их к власти, «можно надеяться на разрешение в ближайшее время важнейших вопросов».
Григорьев, однако, уже не контролировал ситуацию. После грандиозного еврейского погрома в Елисаветграде, где «святыми тружениками» в слепой злобе было уничтожено три тысячи человек, от него отмежевались меньшевики, Бунд, эсеры, левые эсеры и даже анархисты, потерявшие многих своих товарищей, в числе которых оказался младший брат одного из большевистских вождей Г. Е. Зиновьева – Миша Злой. Не меньше жертв было и в Черкассах. В Смеле григорьевцы разграбили «буржуев», но этим не удовлетворились, стали хватать на улицах и в домах евреев, даже и бедняков, и уводить в особый вагон на станции. Шестидесяти узникам этого вагона в конце концов предложено было бежать прочь от полотна: вслед им зарычал пулемет. Лишь четверо спаслись случайно. «Ездившие на розыски трупов рассказывали, как в лесу возле Смелы ими найдены трупы, зарытые с обнаженными ногами поверх земли – головой вниз» (40, 72). Лишенная, а вернее, никогда не имевшая политического руководства, григорьевщина быстро выродилась в гигантскую погромную организацию. От атамана стали отворачиваться даже крестьяне: открывшийся 19 мая съезд крестьянских Советов Александрийского уезда резко высказался против погромов. Григорьев вынужден был оправдываться: «Я ни при чем… Ваши сыны…» Ему не вняли, постановив войти с советскими войсками в мирные переговоры. С двадцатых чисел мая григорьевские части начали потихоньку разбредаться по деревням…
Политически этот залповый выброс злобы имел только одно последствие – ЦК КП(б)У решил вопрос о вхождении в правительство левых эсеров из наиболее лояльной к большевикам группы «Борьба», отдав им, в точном следовании ленинским заветам, три второстепенных наркомата (просвещения, финансов, юстиции). Пролитая с двух сторон кровь так и осталась неоплаченной. Политика советской власти на Украине не изменилась.
Все это, однако, не замедлило сказаться на отношении «верхов» к еще одному участнику этой истории – комбригу Махно.
Уместно напомнить, что с конца марта, когда начался мятеж Зеленого, по конец мая, когда в основном было подавлено григорьевское восстание, Махно упорно сражался на фронте с белыми, хотя у него за спиной творились те же самые безобразия, что и на остальной территории Украины. Махновцы сражались с главными противниками большевиков, однако последние не переставали подозревать Махно в том, что он им изменит, изменяет или уже чуточку изменил. И до сих пор – хотя нет ни единого факта в пользу того, что Махно хоть чем-то поддержал Григорьева, – историки не могут удержаться, чтобы не намекнуть, что в принципе-то, конечно, поддерживал. Воистину, дедуктивные способности подчас идут во вред истине.
То, что начало григорьевского мятежа вызвало у большевистских руководителей панический страх, что Махно тоже выступит на стороне восставших, – это факт непреложный. Когда в ночь с 9 на 10 мая – в ту самую ночь, когда в Екатеринославе получили «Универсал» Григорьева, – Махно почему-то отказался разговаривать по прямому проводу со Скачко – наступила такая паника, словно Махно уже выступил, началась «лихорадочная поспешная бессистемная и беспричинная эвакуация» города (1, т. 4, 240). Накануне вечером Каменев телеграфировал Ленину, что «почва для выступления» у Махно вполне подготовлена.
Откуда эта уверенность? От страха, что ли? И от страха же – подозрительный, надменный тон телеграммы, отправленной Каменевым Махно, по обычаю большевистского вождя, с дороги, из поезда:
«…Изменник Григорьев предал фронт, не исполнив боевого приказа идти на фронт. Он повернул оружие. Пришел решительный момент – или вы пойдете с рабочими и крестьянами всей России, или на днях откроете фронт врагам. Колебаниям нет места. Немедленно сообщите расположение ваших войск и выпустите воззвание против Григорьева, сообщив мне копию. Неполучение ответа буду считать объявлением войны. Верю в честь революционеров ваших – Аршинова, Веретельникова и других. Каменев» (86, 145).
Верил ли Каменев в то, что Махно, четыре месяца дравшийся с белыми, откроет им фронт? Навряд ли. Деникин обещал за голову Махно полмиллиона рублей. Тогда смысл фразы, оброненной Каменевым, другой: это не опасливое предположение, а угроза. Он дал понять Махно, какая слава его ждет, если тот проявит колебания. Махно – которому на протяжении многих месяцев вдалбливалась в голову мысль, что если он не изменил сегодня, то уж непременно изменит завтра, – не замедлил с ответом:
«Заявляю вам, что я и мой фронт останутся неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не институциям насилия в лице ваших комиссариатов и чрезвычаек, творящих произвол над трудовым населением. Если Григорьев раскрыл фронт и двинул войска для захвата власти, то это – преступная авантюра и измена народной революции, и я широко опубликую свое мнение в этом смысле. Но сейчас у меня нет точных данных о Григорьеве и о движении, с ним связанном… поэтому выпускать против него воззвание воздержусь до получения более точных данных…» (2, 108).
Появление в Екатеринославе, в штабе Скачко и Пархоменко, делегации из пяти махновцев, которые просили пропустить их через линию фронта к Григорьеву, чтобы сделать о его движении самостоятельное заключение и, в случае необходимости, провести в его войсках соответствующую агитацию, вызвало крайнее замешательство. Опять стал мерещиться сговор. Однако на этот раз здравый смысл возобладал и делегатов отправили, несмотря на протесты Пархоменко, навстречу озверевшим легионерам Григорьева. Махновцы добрались до екатеринославского вокзала, занятого григорьевцами. Увидев груду трупов, евреев по преимуществу, вникли в сущность вопроса и поспешили назад. После этого Махно выпустил воззвание, в котором говорилось, что григорьевщина «пахнет петлюровщиной».
Григорьев лично пытался сноситься с Махно, но безрезультатно. Махно не собирался поддерживать его в борьбе за власть с большевиками. К тому же большая часть телеграмм Григорьева до Гуляй-Поля не дошла, а затерялась где-то в телеграфных пространствах. Часть из них перехватили чекисты. По-видимому, до штаба Махно дошло лишь одно послание Григорьева, полное скрытого за деловой лаконичностью отчаяния погибающего: «Батько! Чего ты смотришь на коммунистов? Бей их. Атаман Григорьев» (2, 112).
Махно не ответил. Он вел тяжелые бои, в которые его бросили, так и не дав вооружения, и чувствовал отчаянное, критическое, невозможное на фронте недоверие к себе со стороны красного командования. Сохранилась его телеграмма: «В Александровске местная власть распространяет слухи, что на Александровск идут три отряда повстанцев Махно и приказано быть готовыми к взрыву мостов для противодействия. Заявляю, что ни одна часть моих войск не снята с фронта, ни одного повстанца мною не отправлено ни на Александровск, ни на другой пункт Советской республики… Заявляю, что распространяемые александровскими властями слухи о движении повстанцев на Александровск есть чистейшая провокация… Примите срочные меры по прекращению подобной провокации, иначе фронту и тылу грозят неисчислимые бедствия, ответственность за которые падет всецело на руководящие органы власти. Батько Махно, адъютант Лютый» (89, 148–149).
Того же 13 мая к Каменеву из Гуляй-Поля телеграфно пробился некий Рощин из штаба повстанцев, пытаясь объяснить ситуацию:
«Злостная, черная рука сеет ложь. Тов. Махно не только успешно держит фронт, но успешно наступает. Реакционеры упорно говорят о связи Махно и Григорьева. Это ложь гнусная и хитро задуманная. Сообщение о расстреле политических комиссаров, во главе с Колосовым, есть отвратительная ложь. Все на своем посту. Вчера были взяты важные пункты: Кутейниково, Моспино, который снова пришлось сдать врагу из-за отсутствия патронов и снарядов. Немедленно высылайте патроны, высылайте вагон плоской бумаги для газет и воззваний… Неполучение денег, бумаги, патронов явится серьезным препятствием в борьбе с контрреволюцией» (89, 149).
Однако фактически судьба Махно была уже предрешена. 16 мая в Харьков приехал Лев Давыдович Троцкий.
ТРОЦКОМУ НУЖЕН КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ
Троцкий, конечно, сыграл во взаимоотношениях с Махно роковую роль: будучи сторонником жесткой линии неукоснительной партийной диктатуры, он не мог сочувствовать ни особому положению махновцев в рядах Красной армии, ни тем социальным экспериментам, которые независимо от большевиков проводились на территории «вольного района». Остается гадать, насколько его желание разделаться с махновщиной было предрешено ко времени его приезда на Украину и насколько обострилось оно фронтовыми неудачами, которые нужно было незамедлительно свалить еще на кого-то. Своенравный комбриг, пробивающийся в светлое будущее под черным знаменем анархии и всею своею нелепой фигуркой свидетельствующий об упрямстве и неблагодарности темного, тупого, кулацкого народа, был идеальным кандидатом на роль козла отпущения. Менее всего подвластную большевикам «мелкобуржуазную стихию» Троцкий не любил так же, как и Ленин: в силу догматичного, строго дисциплинированного, но какого-то бедного чувствами характера и ума, – и явно видел в ней начало прежде всего враждебное. За это винить его глупо.
Действительная вина Троцкого, действительное преступление большевистской власти заключались в том, что они, исходя из своих политических представлений, посчитали целесообразным держать части Махно в таком положении, в котором те обречены были целиком полечь, сгинуть на полях войны и тем самым оздоровить обороняемый ими участок фронта, искупив тем самым свою первородную вину перед партией большевиков. Самонадеянность большевистского руководства, посчитавшего возможным подставить Махно под разгром, в расчете, что какие-то крепкие, надежные (но еще не существующие) части опрокинут белогвардейцев и погонят их обратно за Дон, обернулась для России и Украины неисчислимыми бедствиями, которые несла с собой затянувшаяся, как запущенная болезнь, Гражданская война.
Троцкий прибыл в Харьков 16 мая с целью решительно разобраться с ситуацией на Украине, патология которой была засвидетельствована чудовищным и диким григорьевским мятежом, поставившим под вопрос не только крепость фронта, но и вообще принцип советской власти на Украине. Ленин в Москве требовал решительного наступления на Донбасс, а Троцкому в Харькове открылось, что наступать здесь никто не думает, не может, все сковано беснующимся пьяным восстанием и параличом недовольства режимом. Троцкий привык действовать решительно. Он предписывает восстание прежде всего подавить, но готов и к более широким политическим обобщениям, которые и были им сделаны в ряде докладов в Харькове и Киеве. Суть заключалась в том, что для победы над белыми нужно прежде всего ликвидировать партизанщину как принцип.
Практически это означало отказ от политики Антонова-Овсеенко, направленной на поиск общего языка с украинскими повстанцами, какую бы революционную веру они ни исповедовали, и начало враждебных действий против всех, кто не захочет войти в реорганизованную по принципам большевистского военного ведомства армию.
О возможных неприятностях Махно догадывался. Ему было известно, например, что во время григорьевского восстания его подозревали в подготовке похода на Екатеринослав и что было даже созвано специальное совещание в Александровске – что делать в этом случае, – которое успокоилось только тогда, когда Дыбенко пообещал, что в случае чего со своей дивизией он преградит путь Махно, что, впрочем, было чистым бахвальством, ибо Дыбенко-то видел, что Махно крепко ввязан в бои на фронте и никуда «пойти» не в состоянии.
На всякий случай, чтоб Махно не дергался, Дыбенко 14 мая в интервью газете «Коммунист» похвалил его: «Никто не может утверждать о причастности Махно к григорьевщине. Наоборот, честный революционер, каким он является, несмотря на свой анархизм, Махно верен рабочему движению и свято выполняет свой долг в войне против белогвардейских банд. Всякие обвинения Махно – гнусная провокация…» (12, 94). Говоря эти слова, Дыбенко мог и покривить душой, но он, во всяком случае, рассуждал здраво: Махно держит свой участок фронта и понапрасну третировать его незачем.
Приезд Троцкого сразу сместил все акценты. Грозный наркомвоенмор прежде всего устроил выволочку Раковскому за попустительство и мягкотелость. Жестокий дух внутрипартийного чинопочитания, выдаваемый за «дисциплинированность», большевиков подводил всегда: стремясь исправиться перед начальством, украинские товарищи с поистине неправдоподобной быстротой пересмотрели свои взгляды и, прежде чем Троцкий лично обрушился на Махно, поспешили сделать упреждающее телодвижение и вынесли решение о ликвидации махновщины. Все это кажется нелепостью и каким-то недоразумением. Тем не менее атмосфера на Украине была столь удушлива, столь отравлена страхами – перед Григорьевым, перед новым, еще более чудовищным восстанием, во главе которого представлялся Махно, перед белыми, – что в действиях правительства Украины определенно стал проступать какой-то маразм; это действия группы тяжелых психопатов, которые, как мы увидим, в течение десяти дней усердно боролись с несуществующим мятежом бригады Махно, сделали все, чтобы этот мятеж поднять – не подняли, развалили фронт и чуть-чуть вменились в разум только тогда, когда белое наступление стало угрожать им лично.
Махно, сколько мог, терпел давление нелепо складывающихся обстоятельств. Что его, как анархиста и убежденного партизана, не любят, он знал. Но что речь идет уже о его уничтожении – он долгое время не догадывался. Среди большевиков у него уже не было заступников, после наезда Троцкого даже Антонов-Овсеенко впал в немилость. Но Махно не унывал. Он пытался апеллировать к Кропоткину, послал ему несколько пудов продовольствия, номера газеты «Путь к свободе» и листовки, почтительно прося его «как близкого и дорогого для нас южан товарища, написать нам свое письмо о повстанчестве… Кроме того, – беспокоился он, – очень нужно было бы для крестьян, чтобы вы написали в нашу газету статью о социальном строительстве в деревне, которая пока не заполнилась мусором насилия…» (52). Судя по этому письму, Махно особенно ничего не беспокоило, он просил совета у своего вождя – и только. Весьма сомнительно, что авторитет Кропоткина удержал бы большевиков от подлости, но Петр Алексеевич, насколько известно, на это письмо не откликнулся. Да ответ и не поспел бы – буквально через несколько дней Махно был проклят и объявлен вне закона.
Впрочем, поначалу ничего как будто не предвещало трагического исхода событий. В середине мая начались попытки наступления красных на Донбасс, и Махно, ввязанный в бои еще в начале григорьевского восстания, вновь навис над Таганрогом и, овладев станциями Кутейниково и Амвросиевка, перерезал железную дорогу, главную транспортную артерию донецкой группы Добровольческой армии. Этим он должен был вызвать на себя беспощадный огонь. Махновцы чувствовали это и с тревогой предупреждали: «…Части совершенно не имеют патронов и, продвинувшись вперед, находятся в угрожающем положении на случай серьезных контрнаступлений противника. Мы свой долг исполнили, но высшие органы задерживают питание армии патронами. Просим устранить это… и мы не только полностью выполним задание, но и сделаем больше того…» (1, т. 4, 302).
В принципе, был тот редкий момент на фронте, когда смелые, слаженные действия Махно и других частей Южфронта могли бы переломить боевую ситуацию. Но конечно же Махно подмоги не получил – все резервы были брошены на подавление григорьевского восстания.
17 мая в точности повторилась апрельская история: сильным ударом кавалерия Шкуро рассекла фронт на стыке 2-й и 13-й армий и в один день прошла около полусотни километров. Закрыть прорыв было нечем: в резерве 2-й армии был один интернациональный полк численностью 400 штыков. Махно стал отступать, чем участь его была предрешена: его обвинили во всех застарелых грехах, вплоть до измены, но подмоги не дали.
В результате 21 мая командарм-2 Скачко уже определял ситуацию как безнадежную: «…Волновахский прорыв собственными силами армии не только не может быть ликвидирован, но не представляется возможным приостановить развивающийся успех противника…» (1, т. 4, 304). Но власти еще не поняли, что это – крах, и предпочитали действовать устрашением.
Вечером 25 мая на квартире X. Раковского состоялась сходка Совета рабоче-крестьянской обороны Украины с повесткой дня: «махновщина и ее ликвидация». Присутствовали: X. Раковский, В. Антонов-Овсеенко, А. Бубнов, А. Жарко, А. Иоффе, Н. Подвойский, П. Дыбенко. Поистине невозможно вообразить себе, что заставило этих людей – в тот момент, когда над фронтом нависла смертельная угроза и белая конница хлестала в прорыв, как вода в пробоину, – принять резолюцию следующего содержания: «Ликвидировать Махно в крайний срок, предложить ЦК всех советских партий (коммунистов и украинских эсеров-коммунистов) срочно принять политические меры к ликвидации махновщины, предложить командованию УССР в течение суток разработать военный план ликвидации Махно, предложить ЦК прифронтовой полосы организовать из своих отрядов полк, который должен быть немедленно брошен…» (12, 100). Этот тяжкий, вязкий текст кажется бредом: какой «полк», если у Махно 35 тысяч человек под ружьем? Зачем его «ликвидировать», если он держит фронт, и простое чувство самосохранения должно было бы подсказывать, что его надо поддержать? Что не выяснять отношения надо, не интриговать – а защищаться, любыми средствами, любыми силами?!
Но нет, даже чувство самосохранения отшибло. Почему? Тут надо разобраться. Выстроенная хронология подскажет нам, что 26 мая ВУЦИК утвердил положение о социалистическом землепользовании – сиречь об обобществлении земли под совхозы. Все, у кого была голова на плечах, не могли не понимать, что у крестьян этот декрет вызовет взрыв недовольства. Вот почему заседание совета обороны состоялось накануне, вот почему репрессивные меры требовалось разработать в течение суток: надо было срезать крестьянскую верхушку, выжечь ересь «вольных советов», разгромить партизанские отряды – созданные крестьянством вооруженные силы… Восстания боялись, ждали его, и все-таки вопрос с землей решили так, как хотел центр (Ленин потом, естественно, признал, что было допущено «много ошибок»). В этом отношении большевики были невменяемы.
27 мая заместитель наркомвоена Украины В. И. Межлаук докладывал своему начальнику Н. И. Подвойскому, что обстановка в районе Махно очень напряженная и «непринятие своевременных мер обещает повторение григорьевской авантюры, которая будет опасна ввиду огромной популярности Махно среди крестьянства и красноармейцев» (12, 102). Отметим, что ничего еще не случилось. Войска Махно сражаются. Красные комиссары в полках не арестованы. Все как всегда. Тем не менее в Совете рабоче-крестьянской обороны Украины не только ломали голову над тем, где взять войска для ликвидации еще не вспыхнувшего мятежа, но и – как пишет в своей книге историк В. Волковинский, – «в жарких спорах обсуждали кандидатуру командующего этими войсками» (12, 103). Причем предложенная Реввоенсоветом республики кандидатура П.Е.Дыбенко, который хорошо знал Махно и был с ним в контакте, стараниями Ворошилова и Межлаука была отвергнута: Ворошилов хотел разгромить «мятежников» сам и тоже, наконец, снискать себе победные лавры. Дело казалось несложным: с тылу ударить на измочаленную в боях бригаду и, арестовав командиров, разоружить и без того плохо вооруженные полки. Ворошилову так хотелось исполнить эту роль, что на Антонова-Овсеенко, который, по-видимому, был яростным противником затеваемого дела, он написал в Москву донос о том, что тот состоит в сговоре с Махно (12, 101). Ленин, окончательно запутанный поступающим с Украины враньем (он все еще полагал, что речь идет о наступлении на Донбасс за углем, в то время как до разгрома оставались считаные дни), 28 мая прислал Раковскому укоризненную телеграмму, в которой просто пересказывал выдуманное в Харькове же вранье: «…Махно откатывается на запад и обнажает фланг и тыл 13-й армии, открывая свободный путь деникинцам…» (12, 101). Думаю, что телеграмма вождя послужила дополнительным аргументом в скверной тыловой игре политиканов, которой, впрочем, предрешен был скорый конец.
Читая эти строки, читатель ведь должен одновременно слышать орудийный гул, треск пулеметов и лязг танковых гусениц – ибо, пока продолжались тыловые игры, на фронте шли непрекращающиеся бои. Махновцы дрались героически, но, действительно, гибли сотнями, не имея боевого опыта, сражаясь пешим строем против отборной донской и кубанской кавалерии. На Махно валили теперь всё – что он негоден как командир, потерял управление частями, окончательно опустился… Пока шла эта пропагандистская «накрутка», предназначенная в основном для газет, командующий 2-й армии Скачко, ничего толком не зная о тыловых интригах, допустил оплошность, стоившую ему карьеры: 29 мая, когда Совет рабоче-крестьянской обороны принял решение о мобилизации партийных сил и рабочих для борьбы с махновщиной, он санкционировал превращение разросшейся бригады Махно в дивизию, а самого Махно утвердил в должности комдива, разумно полагая, что лишь человек, знающий оперативную обстановку, еще может спасти фронт от неминуемого краха. Немедленно последовал окрик Реввоенсовета Южфронта: «Развертывать непокорную, недисциплинированную бригаду в дивизию есть либо предательство, либо сумасшествие. Во всяком случае, подготовка новой григорьевщины» (1, т. 4, 305). Опять эта навязчивая мысль об измене!
Оправдываясь, Скачко отправил Южфронту телеграмму, читая которую, невольно поражаешься глубине цинизма, с которым относились к повстанческим частям даже самые доброжелательные люди из большевистского руководства: «Столкновение между махновщиной и коммунизмом рано или поздно неизбежно… Но Реввоенсовет 2-й армии убежден, что до тех пор… пока добровольческо-казачьи войска не будут оттеснены на Кубань, вожди махновщины не будут иметь возможности идти против советской власти с оружием в руках… Вся 2-я Украинская армия только и состоит сейчас из бригады Махно. Украинские части из других армий, все сплошь вышедшие из повстанческих отрядов, не пойдут против Махно. Для ликвидации Махно необходимо иметь не менее двух хорошо вооруженных полночисленных дивизий…» (1, т. 4, 306).
Скачко, быть может, был циничен, но зато честен: его совету можно было бы и внять. Но взвинченные Троцким большевистские военачальники, похоже, действительно потеряли чувство реальности. Южфронт требовал немедленно сместить Махно с поста комдива и заменить его, как раньше было задумано, товарищем Чикванайя. То, что смещение командира, с которым отряды партизан воевали с самой зимы и которому верили больше, чем всем большевикам, вместе взятым, неминуемо вызовет возмущение, никого, по-видимому, не смущало. Хотя не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что означала для крестьян-повстанцев фигура батьки.
Командующий Южфронтом Владимир Михайлович Гиттис, воспитанник юнкерского училища, в царской армии – полковник, этого понимать не желал. Его, как человека аккуратного, привыкшего к дисциплине и порядку старой армии, «психологические моменты» партизанской войны трогали не более, чем слезы нервной женщины. Он видел одно: на правом, нелюбимом фланге его фронта стоит доставшаяся ему в наследство от Антонова-Овсеенко, зараженная анархистским духом бригада, подозрительная ему. И он действовал так, как, наверное, действовал бы любой военачальник в условиях обычной войны: смещал подозрительного ему командира и ставил своего.
Война, однако ж, шла Гражданская. Поэтому, в ответ на повторные требования штаба Южного фронта сместить Махно, из штаба махновской дивизии 29 мая пришла вдруг совершенно неожиданная по дерзости телеграмма, адресованная, помимо В. М. Гиттиса, Раковскому, Ленину, Каменеву и Антонову-Овсеенко:
«…Все одиннадцать полков повстанцев, входящие в 1-ю повстанческую Украинскую дивизию, считают т. Махно своим наиболее близким и естественным вождем… Абсолютно достоверно, что с уходом т. Махно со своего поста целые бригады не примут ничьего другого командования. Несомненно, это отзовется губительным образом на фронте и тыле революции. Поэтому штаб 1-й повстанческой Украинской дивизии войск имени батько Махно постановил: 1) настоятельно предложил т. Махно остаться при своих обязанностях и полномочиях, которые т. Махно пытался было сложить с себя; 2) все одиннадцать вооруженных полков пехоты, два полка конницы, две ударные группы, артиллерийская бригада и другие технические вспомогательные части преобразовать в самостоятельную повстанческую армию, поручив руководство этой армией т. Махно. Армия является в оперативном отношении подчиненной Южфронту, поскольку оперативные приказы последнего будут исходить из живых потребностей революционного фронта. Все оперативные распоряжения повстанческой армии будут неукоснительно сообщаться всему командованию…» Штаб напомнил, что подозрительное отношение к партизанам недопустимо, и выразил надежду, что все недоразумения «могут и должны быть устранены товарищеским путем» (1, т. 4, 307–308).
«Товарищеский путь» немедленно сыскался. От Скачко потребовали арестовать Махно и предать суду трибунала, поскольку решение, принятое повстанческим штабом, квалифицировалось как оставление фронта. При этом Реввоенсовет Южфронта настоятельно предписывал принять все возможные меры «для предупреждения возможности Махно избежать соответствующей кары» (1, т. 4, 308).
Конечно, с точки зрения формальной военной логики, декларация штаба махновской дивизии была недопустимым, мятежным вызовом. Но формальная логика не способна объяснить коллизии Гражданской войны. Декларация была ответом повстанцев на многомесячное унижение недоверием и подозрениями, мелочными придирками, закулисными играми. Сражавшиеся на фронте люди рассчитывали на человеческое к себе отношение. Они требовали уважения.
Пожалуй, из всех красных военачальников один только Антонов-Овсеенко сумел бы уладить этот конфликт. Но теперь соглашения с повстанцами уже никто не искал. Напротив, изыскивался повод для давления, подчинения их силой – именно поэтому любое колебание настроений в махновском штабе расценивалось как предательство. Дни самого Антонова-Овсеенко на посту командующего Украинским фронтом были сочтены. Для Троцкого он был слишком мягок, слишком интеллигентен, слишком много рассуждающ. Военные неудачи еще понизили его акции. Москва требовала от него немедленно, быстро и решительно закрыть прорыв во фронте – а закрывать было нечем: с трудом наскребли и бросили к Волновахе бригаду пехоты с артиллерией и бронепоезд «Ворошилов», но они были еще в пути. В конце концов Антонова-Овсеенко задергали так, что 31 мая он, не выдержав, отбил в Москву телеграмму: «Выполнить ваши приказания не могу. Делаю все, что могу, в понуканиях не нуждаюсь. Или доверие, или отставка» (1, т. 4, 311).
Конечно, и этот, по духу совершенно махновский, вопль был квалифицирован как дерзость. Язык взаимопонимания и доверия был утрачен: Украинскому фронту оставалось существовать две недели, 2-я армия была преобразована в 14-ю, Скачко смещен, вместо него поставлен командармом Ворошилов, который, дорвавшись до власти, на ином языке, кроме языка угроз и силы, с повстанцами разговаривать не хотел и не умел.
Близилась развязка. Троцкий, чье молчаливое присутствие, несомненно, повлияло на охвативший украинские верхи приступ ревностного классового служения – ибо в скользком мелкобуржуазном классе виделось ему гноище всех зол и болезней революции, – конечно, не представлял себе, какие силы сосредоточил к этому времени на фронте Деникин. Кажется поистине удивительным, что в обстановке надвигающейся катастрофы (а потеря всей Украины, безусловно, была поражением катастрофическим) народный комиссар по военным делам не придумал себе лучшего дела, чем изничтожение некоего командира дивизии, войска которого, оплеванные и оболганные с головы до ног, с яростью отчаяния продолжали драться с противником. Собственно говоря, это была уже не дивизия: после недельного сражения возле Большого Токмака от нее остались какие-то кровавые ошметья, в которых, однако, еще продолжали путаться копыта казацких скакунов Кавказской дивизии Шкуро.
2 июня в своей поездной газетке «В пути» Троцкий опубликовал статью «Махновщина», через два дня перепечатанную харьковскими «Известиями». Написанная признанным мастером партийной пропаганды статья, состоящая, по сути дела, из одних пустых фраз, не могла роковым образом не сказаться на отношениях между союзниками. Видя вопрос в плане чисто теоретическом, Лев Давыдович тем не менее уверенно пропечатывал: «„Армия“ Махно – это худший вид партизанщины… Продовольствие, обмундирование, боевые припасы захватываются где попало, расходуются как попало. Сражается эта „армия“ тоже по вдохновению. Никаких приказов она не выполняет. Отдельные группы наступают, когда могут, т. е. когда нет серьезного сопротивления. А при первом крепком толчке неприятеля бросаются врассыпную, отдавая многочисленному врагу станции, города и военное имущество…»
Троцкому еще предстояло убедиться в обратном – вот единственное, что утешает, когда читаешь эту разнузданную ложь. Но что должны были чувствовать повстанцы, если писали про них: «Поскреби махновца – найдешь григорьевца. А чаще всего и скоблить-то не нужно: оголтелый, лающий на коммунистов кулак или мелкий спекулянт откровенно торчит наружу…» Это в окопах – мелкие спекулянты? Что должен был чувствовать Махно, если о нем сообщалось в открытую: «Если он не восстал вместе с Григорьевым, то только потому, что побоялся, понимая, очевидно, всю безнадежность открытого мятежа»? В каком, наконец, смысле должно было воспринимать вопрос, сформулированный председателем Реввоенсовета республики в конце статьи: «Мыслимо ли допустить на территории Советской республики существование вооруженных банд, которые объединяются вокруг атаманов и батек, не признают воли рабочего класса, захватывают, что хотят, и воюют, как хотят?» Такая постановка вопроса подразумевала только один ответ – отрицательный. И Троцкий, словно бы набрав полную грудь воздуху, выкрикивал его: «Нет, с этим анархо-кулацким развратом пора кончить, кончить твердо, раз навсегда, чтоб никому больше повадно не было!»
Пока настроение и политическая терминология этой наркомовской истерики овладевали умами и сердцами военных и партийных работников, Лев Давыдович, как человек душевно гибкий, решил еще раз испытать Махно. 3 июня он позвонил в штаб Революционно-повстанческой армии и потребовал, чтобы она заняла дополнительно стокилометровый участок фронта от Славянска до Гришино. Махно опус Троцкого прочесть не успел, а потому не по злобе, а по-честному, по-военному сказал, что сделать этого не сможет. Если быть объективным, то придется признать, что говорил он сущую правду, ибо не может одна дивизия держать двести километров фронта.
Троцкий, быть может, не столько был взбешен этим отказом, сколько известием о том, что на 15 июня в Гуляй-Поле назначен очередной съезд махновских «вольных советов». Махно созывал его, чтобы объявить мобилизацию перед лицом деникинского нашествия – он чувствовал, что его бросили, хотя и не знал еще, что предали. Большевики же не сомневались, что на съезде повстанцы вновь поднимут земельный вопрос – а это было уже слишком…
С этого момента начинается череда событий, не всегда ложащихся в один ряд, как поступки душевнобольного, которым руководят разные, часто противоречащие друг другу порывы. Так оно и было на самом деле, ибо, если поначалу большевиками владело лишь навязчивое желание расправиться с Махно, то потом к нему все в большей мере стал примешиваться страх, ужас от чудовищного военного поражения. Объявленные Н. И. Подвойским мобилизации не удались, а те немногочисленные отряды, которые удалось собрать, вмиг были уничтожены белыми. По сути, кроме махновцев, белое наступление никто не сдерживал. Немногочисленные и только еще формирующиеся отряды 14-й армии были у них в тылу. Поэтому, когда выяснилось, что опасность отнюдь не в махновщине, что никакого мятежа нет, а есть провал фронта, за который придется отвечать лично и по всей строгости военного времени, Махно сначала захотели заставить сражаться, а потом просто стали валить на него, что ни попадя – чтоб виноватым вышел «чужой».
3 июня, поговорив с Махно и сделав для себя окончательные выводы, Троцкий направил Раковскому подробные рекомендации по борьбе с махновщиной: «Махновцы созывают съезд нескольких уездов Гуляй-Поля с целью борьбы против коммунистической советской власти. Ясно, что в данных условиях съезд является открытой подготовкой мятежа в полосе фронта. Помимо мер военного характера, относительно коих уже сделаны соответствующие распоряжения, необходимы были бы меры политического характера…» (12, 105). Когда-то советская власть замышлялась теоретиками большевизма как самое широкое самоуправление народа. Ленину в «Государстве и Революции» и в голову не приходит назвать ее «коммунистической». Но прошло чуть больше года революции и Гражданской войны – и в России было повсеместно проведено «обольшевичивание» Советов. Так партии проще было управлять народом. Троцкий экспортировал российский политический опыт на Украину – и, разумеется, ересь «вольных советов», где, может быть, большевиков вообще не было, терпеть не желал.
4 июня был упразднен Украинский фронт. Относительно Махно Троцкий издает знаменитый приказ № 1824, запрещавший махновский съезд, который «целиком направлен против Советской власти и против организации Южного фронта… Результатом съезда может быть только новый безобразный мятеж в духе григорьевского и открытие фронта белогвардейцам, перед которыми бригада Махно отступает в силу неспособности, преступности и предательства своих командиров». Делегатов и распространителей воззваний съезда вменялось арестовывать и судить трибуналом 14-й армии.
Новоиспеченный командарм—14 Ворошилов в поддержку Троцкого написал свой приказ № 1, которым тоже запрещал проведение каких-либо съездов в районе дислокации вверенных ему войск, а также под угрозой расстрела – переход бойцов своей армии в дивизию Махно.
Текст приказов в штаб Махно не поступал; о них узнали дня через три, по-видимому, из тех же «Известий», где они были опубликованы. Но за эти три дня для Махно все изменилось. Он еще ничего не знал, но он уже был преступником, объявленным вне закона. Он не мог знать о заседании Всеукраинского ЦИКа Советов и Совета рабоче-крестьянской обороны, которые вновь и вновь объявляли незаконным гуляйпольский съезд. Но в конце концов и приказы, и лихая передовая харьковских «Известий» с призывом употребить «каленое железо» (5 июня 1919 г.), и, наконец, последовавший 6 июня призыв председателя Совнаркома Украины Раковского обрушить на руководителей кулацкой контрреволюции меч красного террора должны были стать известными ему.
Того же 6 июня белоказаки прорвались в район Гуляй-Поля и под Святодуховкой начисто вырубили крестьянский полк, выступивший им навстречу во главе с путиловцем Борисом Веретельниковым, погибшим в этом бою. В тот же день на станции Цареконстантиновка Махно провел совещание командиров. Узнав о предательстве большевиков, часть – левые эсеры и анархисты – предложила открыто выступить против них. Старые повстанцы из крестьян воспротивились, зная, что несет им деникинское нашествие. Что делать, было не ясно. Вскоре после заседания штаба группа «набатовцев» во главе с Аршиновым покинула Повстанческую армию, пообещав, что всеми доступными средствами пропаганды будет распространять правду о махновском движении. Под такое дело батька дал им в дорогу денег. Вскоре от армии откололась и группа боевиков из контрразведки Черняка, которые предполагали, разделившись на три группы, совершить ряд террористических актов – взорвать харьковскую Чека, убить Колчака и Деникина. Потребовали 700 тысяч рублей. Махно дал. Часть харьковской группы всплыла потом в Москве, среди «анархистов подполья», «колчаковцы» затерялись где-то, «деникинцы» частью погибли – во всяком случае, бывшая среди них Маруся Никифорова была схвачена белой контрразведкой в Крыму и повешена в Симферополе.
7 июня отчаянной атакой Махно отбил у белых Гуляй-Поле. По-видимому, к этому дню масштабы белогвардейского наступления начали, наконец, обрисовываться перед красным командованием, и злорадство по поводу разгрома анархо-кулацких отрядов все чаще стало перемежаться у военных чиновников приступами страха. К Махно вдруг на прославленном бронепоезде «Руднев» выехали Ворошилов и Межлаук, отправив телеграмму, чтобы держался до последнего. В бронепоезде был создан совместный штаб махновцев и 14-й армии. Поскольку Ворошилов был генералом без армии (он, если помним, принял под свое командование 2-ю армию Скачко, которая, по собственному признанию командарма, только и состояла из бригады Махно), то план его, по-видимому, был прост: устранив Махно и наиболее ретивых его командиров, подчинить себе оставшиеся партизанские части. Вопрос: виделся ли Махно с Ворошиловым, а если виделся, почему тот не убил его? Может быть, момент был неподходящий. Во всяком случае, у Махно было много поводов для подозрений в том, что игра ведется нечисто. Вышел приказ Троцкого № 105 – «Перебежчикам к Махно – расстрел». Восьмого числа – новый приказ: «Конец махновщине!» – в котором махновцы объявлялись главными виновниками ни для кого уже не тайного разгрома красного фронта:
«Кто является виновником наших последних неудач на Южном фронте и в особенности в Донецком бассейне?
Махновцы и махновщина».
Со злорадством: «Махновские части оказались совершенно небоеспособными, и конные белогвардейцы гнали их перед собой, как стадо баранов».
Лживо: центральная советская власть наведет порядок в гнилых местах и уже направила для этой цели в район махновщины «надежные честные воинские части». «Махновщина ликвидируется».
Махно знал, что ликвидируется: сначала «надежные части» разгромили сельхозкоммуну имени Розы Люксембург, избив крестьянина-председателя Кирьякова, а через несколько дней пришли деникинцы – и расстреляли его.
Он понимал, конечно, что так дело для него добром не кончится. Но он не знал, где выход. В эти дни он казался подавленным, совершенно лишенным воли к действию. Красный комбриг Е. Брашнев в очерке «Партизанщина» вспоминал, что застал Махно одного в пустом штабе в Гуляй-Поле: он не знал, где его войска, взирал на пришедших с равнодушным недоумением… Брашнев жалел, что не убил тогда Махно. Но в тот момент он казался слишком жалким.
Между тем тот, по-видимому, решал, что ему все-таки делать. В том, что после всего случившегося его непременно расстреляют, он, как человек неглупый, конечно, не сомневался. Он не хотел, чтоб его расстреливали, и стремился оставить за собою место революционера. Для этого у него был только один шанс: играть без правил. Не подчиняться судьбе. Вновь начинать партизанскую войну на свой страх и риск. 9 июня со станции Гайчур он отправляет Троцкому (копии Каменеву, Ленину, Зиновьеву) два длинных послания, прося освободить его от командования дивизией и одновременно пытаясь воззвать к революционной совести своих предполагаемых адресатов. Его слова полны горечи:
«Я прекрасно понимаю отношение ко мне центральной власти. Я абсолютно уверен, что эта власть считает повстанческое движение несовместимым с ее государственной деятельностью. Она полагает также, что это движение связано лично со мной…
Это враждебное отношение – которое теперь становится агрессивным – центральной власти к повстанческому движению неизбежно ведет к созданию внутреннего фронта, по обе стороны которого будут трудящиеся массы, верящие в революцию.
Я считаю это величайшим, непростительным преступлением в отношении трудящихся и считаю своим долгом сделать все, чтобы избежать этого.
Самое простое средство для центральных властей избежать этого преступления заключается, на мой взгляд, в следующем: нужно, чтобы я покинул свой пост…» (95, 573).
В другом месте он поясняет:
«…Несмотря на то, что я с повстанцами вел борьбу исключительно с белогвардейскими бандами Деникина, проповедуя народу лишь любовь к свободе, к самодеятельности – вся официальная советская пресса… распространяла обо мне ложные сведения, недостойные революционера… Троцкий в статье под названием „Махновщина“… доказывает, что махновщина есть, в сущности, фронт против советской власти, и ни слова не говорит о фактическом белогвардейском фронте, растянувшемся более чем на сто верст, на котором, в течение шести с лишним месяцев, повстанчество несло и несет неисчислимые жертвы…
Я считаю неотъемлемым, революцией завоеванным правом рабочих и крестьян самим устраивать съезды для обсуждения как общих, так и частных дел своих. Поэтому запрещение таких съездов центральной властью есть прямое наглое нарушение прав трудящихся» (2, 126).
Выговорившись, Махно опять просит освободить себя от обязанностей командира дивизии и выражает надежду, что «после этого центральная власть перестанет подозревать меня, а также все революционное повстанчество в противосоветском заговоре и – отнесется к повстанчеству на Украине как к живому, активному действию массовой социальной революции, а не как к враждебному стану, с которым до сих пор вступали в двусмысленные подозрительные отношения, торгуясь из-за каждого патрона…» (2, 127).
Получив, благодаря телеграмме, координаты Махно, Ворошилов приказал двинуть свой бронепоезд на станцию Гайчур. Однако заманить Махно в бронепоезд Ворошилову так и не удалось. Он выжидал. В результате выжидания бронепоезд был окружен белыми. Как писал Махно в книжке «Махновщина и ее вчерашние союзники – большевики», ему пришлось выручать своих «палачей» из западни, для этого ударив в тыл белым небольшим конным отрядом при четырех пулеметах. Ворошилов через ординарца Махно рассыпался в изъявлениях благодарности и передал батьке послание, в котором опять, как ни в чем не бывало, просил навестить-таки его в бронепоезде и обсудить план совместных действий. Махно ответил, что ему известен приказ Троцкого и та роль, которая отведена в реализации этого приказа Ворошилову. Поэтому от визита в бронепоезд он отказался, но сообщил о своих планах: с рейдовой группой проникнуть в глубокий тыл Деникина и опустошить его. Письмо было подписано: «Ваш старый друг в борьбе за торжество революции».
Махно, конечно, хитрил, смиренной речью послушника и скромнеца, добровольно устраняющегося от политики, усыпляя бдительность тех, кто послан был уничтожить его. Внезапно с отрядом всадников в несколько сот человек – в основном старых повстанцев 1918 года – он появился в Александровске и официально сдал дела дивизии. Председатель александровского исполкома Н. Гоппе попросил было его прикрыть город, но Махно сказал, что на это у него нет времени. Схватить его никто не решился, да и не пытался.
Отряд ушел за Днепр, на правый берег, в тыл – но к красным. Через несколько дней комдив Дыбенко получил неожиданный и дикий приказ от своего бывшего подчиненного: оставить Никополь. Это был вызов. Махно ничего не забыл и не простил большевикам предательства. 15 июня, выступая перед повстанцами, ушедшими вместе с ним, Махно договорил то, чего не сказал ни Троцкому, ни Ленину: «…Вопреки желанию Троцкого – толкнуть нас в объятия Деникина – мы выдержали экзамен блестяще. Окруженные трибуналами, которые нас расстреливают, не имея патронов и снарядов, мы… продвигались вперед. Однако так продолжаться больше не должно… ибо немыслимо умирать на фронте, когда в тылу расстреливают. Мы вышли из подполья и посмей трибунал арестовать кого из нас – мы закатим такую истерику, что задрожит и Киев. Довольно сентиментальности: надо действовать, да так, чтобы красный фронт разыграть в пользу повстанчества…» (12, 112). Мало кто понял глубинный смысл речи, которую он говорил. Но он как-то почуял, что его звездный час еще впереди, что он уведет Красную армию под свои знамена и «разыграет» красный фронт…
Узнав, что Махно улизнул, Ворошилов не сдержал злобы: 15 июня в бронепоезде «Руднев» были схвачены члены штаба Махно Бурбыга и Михалев-Павленко и 17 июня, как изменники, казнены в Харькове. Несколько дней ревтрибунал 14-й армии работал на станции Синельниково: первые жертвы красного террора не превышали нескольких десятков человек. Правда, среди них оказался ни в чем не повинный политкомиссар махновской бригады Озеров, присланный в штаб Антоновым-Овсеенко. 25 июня ревтрибунал судил его и приговорил к расстрелу: за все свои стратегические просчеты революционные вожди сполна рассчитались со своими подчиненными…
Венчала этот список позорных дел еще одна газетная кампания, развязанная в Москве в ведомственной газете Троцкого – «Известиях народного комиссариата по военным делам», с целью соответственного поднесения столичному общественному мнению боевых неудач Красной армии. Здесь, в Москве, далекой от украинских проблем, Махно было можно обвинять во всем, в чем угодно. 25 июня некий Иринарх Зюзя изобличал бывшего комдива Махно не только в предательстве, но и в том, что он своими прежними успехами способствовал концентрации сил противника.
В том же духе и в той же стилистике было выдержано еще несколько публикаций: «Деникин был на краю гибели, от которой его могли отделять всего несколько дней, но он хорошо угадал кризис партизанщины и накипь кипения кулаков и дезертиров…» (27 июня 1919 г.).
После этого стоит ли говорить, что Махно обвинялся в прямом сговоре со Шкуро и в отказе сражаться?
7 июля прорезался, наконец, спокойный, уверенный голос вдохновителя пропагандистской кампании, которому нужно было спихнуть на партизан украинскую катастрофу, масштабы которой с каждым днем внушали в столице все больший ужас. Нарком по военным делам товарищ Троцкий в тоне, приличествующем не газетной шавке, но государственному деятелю, взвешенно заключал: «Всесильные на грабеж, махновцы оказались бессильными против регулярных частей…» В этой фразе, если вдуматься, задана тема для всех последующих фальсификаций, всех исторических неправд о Махно.
Товарищ Троцкий не хотел брать на себя ответственность за разгром. Товарищ Троцкий оставался чист.
ВСЕ КУВЫРКОМ
Сдержать белогвардейское наступление все это, естественно, не могло. Разгром был полный. А. И. Деникин со сдержанной гордостью вспоминал это время: «Кавказская дивизия корпуса Шкуро разбила Махно под Гуляй-Полем и, двинутая затем на север к Екатеринославу, в ряде боев разбила и погнала к Днепру Ворошилова… Опрокидывая противника и не давая ему опомниться, войска эти прошли за месяц 300 с лишним верст. Терцы Топоркова 1 июня (13-го н. ст.) захватили Купянск; к 11-му (24), обойдя Харьков с севера и северо-запада, отрезали сообщения харьковской группы большевиков на Ворожбу и Брянск и уничтожили несколько эшелонов подходящих подкреплений… Правая колонна ген. Кутепова 10 (23) июня внезапным налетом захватила Белгород, отрезав сообщение Харькова с Курском. А 11-го (24), после пятидневных боев на подступах к Харькову, левая колонна его ворвалась в город и после ожесточенного уличного боя заняла его.
16 (29) июня закончилось очищение Крыма, а к концу месяца мы овладели и всем нижним течением Днепра до Екатеринослава, который был захвачен уже 16 (29) числа по собственной инициативе ген. Шкуро.
Разгром противника на этом фронте был полный, трофеи наши неисчислимы…» (17, 104–106).
Как видим, для командующего Вооруженными силами Юга России разгром Махно представлялся лишь частностью в очень крупномасштабной операции, а не ключевым моментом, предопределившим развал Украинского и Южного фронтов, и уж тем более не предательством, каким бы хотелось объяснить этот развал Троцкому. Однако наркомвоенмор, будучи верен себе, продолжал отыскивать виноватых и клеймил на этот раз 13-ю армию А. И. Геккера: «Армия находится в состоянии полного упадка. Боевая способность частей пала до последней степени. Случаи бессмысленной паники наблюдаются на каждом шагу. Шкурничество процветает…» Впрочем, не без сарказма добавляет к этому Деникин, все сказанное в равной мере могло быть отнесено к 8, 9, 14-й армиям (17, 106).
Крымская армия Дыбенко, столкнувшись с высадившимся в районе Коктебеля белогвардейским десантом генерала Слащева, тоже очень быстро потеряла боеспособность и стала попросту разбегаться. «Сил, действительно революционных, оказалось не так уж много, – с горечью констатирует современник. – А присосавшийся для наживы элемент побежал, увлекая за собой и сознательную массу» (37, 199). По Херсонской губернии, куда изливался поток бегущих из Крыма, слонялись банды дезертиров, получивших среди крестьян насмешливое название «житомирские полки» – за то, что они коротали время, скрываясь в жите, во ржи, промышляя грабежом и убийством. К ним присоединились, почувствовав гнильцу и неопределенность момента, местные криворожские бандиты, руководимые знаменитыми Скляром и Сидором, прозванным за свой огромный рост «полтора Сидора»: «Это был зверь в образе человека, он мало того, что убивал, но вырезывал сердце, такую операцию он проделал на станции Белая Криница над одним матросом и одним красноармейцем латышского батальона» (37, 199). В той же Белой Кринице «полтора Сидора» был все же схвачен красными и убит.
Вообще, на Украине творилось что-то невообразимое: вслед за красноармейцами и бывшими махновцами, сведенными в 58-ю стрелковую дивизию, шли толпы беженцев (большинство этих людей погибли в страшном 1919 году, но пока что они были живы и, как всякие живые люди, хотели есть и пить и, главное, хотели уцелеть и спасти близких). Жара в то лето стояла невыносимая, над дорогами тонкой кисеей висела бурая пыль. Кичкасский мост через Днепр был забит толпами людей и гуртами скота; иногда появлялись битые, потерявшие всякое представление о ситуации на фронтах красноармейские части, требовали пропустить за Днепр немедленно, вклинивались в гущу людей: орали бабы, ревели быки, скрежетали орудия…
Наводить порядок на переправах выезжал сам Дыбенко, внушал ужас: описано, как командира какой-то растерявшейся части он на глазах народа, не разбираясь, как и что, для примеру оборав, застрелил. Другого – тому повезло, оказался «братишка», матрос, – помиловал. Велел только развернуть людей на сто восемьдесят градусов и топать обратно, и, протопав километров пятьдесят или сто, окапываться и держать там позицию. В общем, послал на гибель – обычный грех, сопутствующий любому отступлению, когда верхи, потеряв контроль над ситуацией, бросают людей в огонь, чтоб получить хоть минутную передышку.
Спас Днепр – естественная водная преграда, преодолеть которую с наскоку белым было невозможно. Выстроив по Днепру линию обороны, красное командование спешило прежде всего разделаться с остатками партизанщины и выжечь, если таковой наличествовал, всякий дух своеволия. Степан Дыбец (из члена бердянского ревкома превратившийся в комиссара боевого участка от Херсона до Грушевки) упоминает, в частности, как пришлось разоружить мелитопольский полк, проявлявший явное своеволие и открытое нежелание вписываться в структуру большевистской армии. Но в целом повстанцы Махно показали себя бойцами надежными и хладнокровными: говорить, что именно они спасли фронт от полного развала, как делают апологеты Махно, конечно, глупо; но то, что дрались не за страх, а за совесть, то, что спасали, – не подлежит никакому сомнению. Об отношении к себе деникинцев бывшие партизаны никаких иллюзий не питали – те их считали скотом, взбунтовавшимся быдлом, достойным самого жестокого наказания. И как бы ни были мягки, как бы ни были проникнуты отвращением к большевистскому произволу и насилию «Очерки русской смуты» А. И. Деникина, доблестные войска его, занимая пораженные «краснотой» районы, творили те же произвол и насилие, третируя фабричное население и прочий мелкотравчатый элемент, возомнивший себя хозяином земли, и уж совсем не сдерживались в таких проклятых перед Богом, Царем и Отечеством местах, как Гуляй-Поле. Здесь был учинен жесточайший погром: жгли дома махновцев и евреев, издевались, расстреливали; более 800 гуляйпольских евреек, вполне в духе петлюровцев, были изнасилованы казаками Шкуро. Жену батькиного брата Саввы Федору, прежде чем расстрелять, господа офицеры долго и вдумчиво пытали: били, кололи штыками, отрезали ей грудь. Сельхозкоммуны были разгромлены; земля и инвентарь опять возвращены прежним владельцам.
Несмотря на это, красные бывших махновцев все равно подозревали: если не в намерении изменить, то, так или иначе, в чем-то нехорошем. В этом отношении наиболее показательна судьба Василия Куриленко – одного из самых смелых и талантливых махновских командиров, которого не только некоторые дальновидные большевики старались залучить к себе, но который и сам, в общем-то, чем дальше, тем больше, склонялся – если можно так сказать – не к партизанчеству, а к красноармейчеству.
Степан Дыбец утверждает, что еще в период боев на повстанческом фронте Куриленко, командовавший Новоспасовским (по названию деревни) полком, намекал ему, что, зная бердянский ревком как солидных людей, он бы охотнее работал с ними, чем с Махно. Когда же Махно оставил командование дивизией, руки у Куриленко оказались развязаны, и он, ничуть не артачась, подчинился красному командованию и справно занялся обороной отведенного ему боевого участка. Испортил отношения с Куриленко опять же Дыбенко, продолжавший числиться командующим фактически более не существующей Крымской армии и потерявший пост наркомвоенмора Крымской советской социалистической республики, поскольку таковая была упразднена белыми. Неудачи военной и политической карьеры, неотступно преследовавшие Дыбенко со времени разгрома под Нарвой в 1918 году, досадовали его необыкновенно, и он ездил по фронту в чрезвычайном раздражении. Приехав вместе с Дыбецом в Новоспасовский полк, он, зная о причастности полка к махновщине, по ничтожному поводу устроил командиру Куриленко дикую выволочку перед строем бойцов (вспомним вскользь, что Дыбенко, хоть и бородатому, было тогда всего только тридцать годков, а он уже был шишка, номенклатура; Куриленко же было порядка двадцати восьми, но он был так себе, партизанский командир, которого можно было не только унижать безнаказанно, но и в порошок стереть в два счета). Куриленко все же не сдержался и отвечал партийному «генералу» довольно резко. Дыбенко приказал: отстранить Куриленко от командования полком и направить к нему в штаб в Никополь. Практически это был смертный приговор. Все понимали это. Знавшие Куриленко командиры Красной армии решили его не уступать и оставить командовать полком, надеясь, что дело забудется. Не тут-то было! Однажды, просматривая перечень полков, занимавших линию обороны по Днепру, Дыбенко вновь наткнулся на фамилию бывшего махновца и, вспомнив его дерзость, повторил вызов.
Дыбец не хотел терять Куриленко. Решено было на время спрятать его в штабе боевого участка. Куриленко вызвали в штаб. Он приехал, сопровождаемый эскадроном: иначе полк не отпускал.
Куриленко сказал, что еще пригодится Красной армии.
Сказал, что выполнит любой приказ, но к Дыбенко не поедет, ибо не хочет умирать униженно и зря.
Дыбец вышел к эскадрону и объявил о своем решении оставить пока Куриленко при штабе. Как комиссар, он должен был военную демонстрацию полка пресечь и осудить, и он сделал это: «Забирайте свой эскадрон, чтоб этой демонстрацией и не пахло. Понятно? И не вздумайте еще когда-нибудь нас припугнуть. Так легко вам это не сойдет…»
Люди выслушали комиссара. Люди сказали:
– Ты понимаешь, Дыбец, угроза тут неуместна, мы люди военные, но если что-нибудь с ним случится, с тебя будем спрашивать. Ты не обижайся. Но только таких, как Куриленко, у нас мало. Имей в виду, что твои приказы будут выполнены. Но не дай Бог выйдет какой случай с Куриленко. Не дай Бог нам его потерять… (5, 98).
Оказавшись в безопасности при штабе (из списка командиров полков Куриленко выбыл, а списками штабных Дыбенко не располагал), Куриленко, однако, стал томиться такою лютой тоской, что просил его либо расстрелять, либо дать ему хоть какое-нибудь дело. Ему поручили сформировать кавалерийский полк: ни людей, ни лошадей, ни оружия не дав при этом. Через неделю он привел полк в пятьсот человек, в конном строю, с мешками вместо седел, с пиками вместо сабель. Просил дать ему боевой участок, чтобы можно было отбить у белых лошадей и оружие.
Лучше всего характеризует Куриленко блистательно рассказанный Дыбецом эпизод проверки им присланного в полк комиссара. Куриленко интересовало: доверяют ли красные ему, что за птицу прислали – соглядатая или помощника, бойца или труса. Вместе с новым комиссаром Куриленко объехал эскадроны. Потом поинтересовался: «Может быть, у тебя, комиссар, есть замечания?
– Нет, обойдусь без замечаний. Ты же опытный полковой командир. Поработаю, позабочусь о бойцах, чтоб они бодро жили.
– Правильные слова. Теперь еще одно к тебе дело. Прикинь-ка, какое тут расстояние до следующего села?
– Черт его знает. Пожалуй, верст пять-шесть.
– И это правильно. Глаз у тебя хороший. В бинокль на село хочешь посмотреть?
– Давай.
– Казачий разъезд видишь?
– Вижу.
– И я видел. А теперь едем туда молоко пить» (5, 115). Куриленко стегнул свою лошадь. Комиссару ничего не оставалось, как ехать за ним. Они подъехали к ближайшей хате – а казачий разъезд был в другом конце села, – попросили у бабы молока. Внезапно подскакал казак:
– Откуда вы? Какой части?
– А ты какой части? Вижу, что донец. – Разговаривая, Куриленко попивает молоко. – Много вас тут? Сотня где стоит?
– Там-то.
– А кто командир сотни?
– Такой-то.
– Ara, я так и думал. Поворачивай и доложи своему командиру, что приезжал в гости молоко пить красный полковой командир Куриленко. Понял, что я тебе говорю? (5, 116).
Покончив с молоком, Куриленко достал маузер:
– Если не поедешь докладывать, стреляю.
Казак сорвался прочь, а Куриленко с комиссаром хорошей рысцой поскакал в другую сторону. Комиссар ему понравился.
Рассказанная Степаном Дыбецом и записанная Александром Беком история поистине романтична, полна особого очарования того беспощадного времени. Проникнувшись им, читатель захочет, может быть, узнать продолжение, захочет узнать, что стало с этим бравым человеком, как кончил он свой путь – стал славным красным командиром или злая казацкая пуля сразила его во цвете лет и силы? Нет. Слушай, читатель, то, чего недосказал Александр Бек: Василий Куриленко был зарублен в кровавом бою с красными в ночь на 8 июля 1921 года, после того как махновцы, уходя от преследования, прошли «изгородь» из пяти бронепоездов на линии Константиноград—Лозовая, вырвались из полного окружения возле деревни Константиновка и, разделившись на части, пытались уйти от погони. На хуторе Марьевка часть махновцев была истреботрядом «настигнута и изрублена», и среди них погиб «известный атаман» Василий Куриленко, в прошлом красный командир. Воистину – во время Гражданской войны неисповедимы пути Господа Бога нашего…
Кто бы, к примеру, мог предположить, что Махно уничтожит атамана Григорьева? Положительно, никто. Встречи двух атаманов боялись как огня, полагая, что она закончится невиданным сговором против советской власти. Но тогда, когда ее ждали, она не произошла, а когда произошла – вытанцевалось все иначе, чем представлялось и красным, и Григорьеву, видевшему в Махно нерешительного союзника, которого должно было несколько взбодрить объявление вне закона.
Однако последовательно. Пройдя, после заочного обмена любезностями с Ворошиловым, с отрядом своих повстанцев через Александровск и не обращая внимания на настойчивые мольбы предгубисполкома товарища Гоппе защитить город от белых, Махно перешел на правый берег Днепра и углубился в пустоватое пространство красного тыла, совсем еще недавно выжженного григорьевским восстанием, – в пространство, где по деревням еще шатались атаманские недобитки, а в городах стояли красные гарнизоны, прочие же части после подавления мятежа были двинуты против Деникина. Этот урок – передышки в сравнительно глубоком красном или белом тылу, когда воюющие стороны скованы напряженной борьбой и не могут позволить себе роскошь отвлекаться на рейдирующий позади фронта партизанский отряд, – Махно усвоил прекрасно. Впрочем, он все же напомнил большевикам о себе, совершив внезапный налет на Елисаветград – с целью освобождения из местной тюрьмы заключенных там махновцев и анархистов, но налет закончился неудачей, гарнизон города мужественно защищался, и махновцы отскочили сильно потрепанными. Это был первый открытый выпад против недавних союзников.
Вообще же в это время – хоть счет шел буквально на часы и отряд находился в постоянном движении, шли на тачанках, останавливаясь на отдых на три-четыре ночных часа, – Махно проявляет некоторую нерешительность. Разрыв с большевиками его, пожалуй, травмировал. К тому же, перейдя с левого берега Днепра на правый, он оказался оторванным от своего района и вступал на территорию, контролируемую Григорьевым, который, несмотря на разгром и обещанную за его голову награду в полмиллиона рублей, все еще не был пойман и продолжал трепать красных уцелевшими небольшими отрядами. Теперь уже Махно нельзя было избежать встречи с мятежным атаманом. Встреча произошла в конце июня возле села Петрово, километрах в шестидесяти от линии фронта. О подробностях ее мы знаем из показаний Алексея Чубенко, которые тот дал ГПУ в 1920 году. Проверить их невозможно, сравнить не с чем. Поэтому вопрос – доверять ли целиком или принять как некую условную, приемлемую для ГПУ версию событий – остается проблемой для каждого читателя. Раздражают постоянные – нужные ГПУ и большевистской пропаганде – упоминания Чубенко о пьянстве Махно и членов его штаба. Он явно подчеркивает – это заметит внимательный читатель – эту особенность фронтового быта, явно выпячивает ее, хотя пили и в красных, и в белых штабах, и не только пили: в ход шел и кокаин, огромные партии которого ходили по России в это время. Согласно Чубенко, Григорьев приехал к Махно с тремя приближенными. Войдя в штаб Махно, первым делом спросил:
– А у вас тут жидов нет? Ему кто-то ответил, что есть.
– Так будем бить, – усмехнувшись, сказал Григорьев. «В это время подошел Махно и разговор Григорьева был прерван» (40, 79). Могла ли состояться подобная интерлюдия? В принципе, могла. Григорьев политических пристрастий четких не имел: он был военный, выскочка, выдвиженец войны, он, как Махно, не сидел шесть лет в кандалах за политику. Ища опоры и понимания в народе, он эксплуатировал самые темные его инстинкты – ненависть к евреям, которая была делом давним, а теперь вот подогревалась еще причастностью евреев к делам новой власти, к большевикам. Вот если бы эти слова были вложены в уста Махно, это была бы стопроцентная ложь. Послушаем, однако, что далее показывает Чубенко.
Махно и Григорьев поговорили об «Универсале» – обращении Григорьева к народу. Махно сказал, что кое с чем не согласен, но в целом хотя бы видимость взаимопонимания была достигнута, поскольку тут же было созвано совещание по объединению сил. «Махно задал вопрос: „Кого мы будем бить? Коммунистов?“ Григорьев отвечал: „Будем Петлюру бить“. Махно говорил, „что будем Деникина бить“, но Григорьев вдруг уперся, заявив, что Петлюру и коммунистов он знает, а Деникина не знает и ничего против него не имеет» (40, 79). Если рассказанное правда, то это поистине забавно: каждый атаман выражал готовность биться только с тем противником, которого «знал лично». Несколько раз то григорьевцы, то махновцы выходили посовещаться. Поначалу 7 из 11 махновцев были за то, чтобы с Григорьевым не соединяться, а немедленно его расстрелять. Махно, однако, настаивал на объединении, говоря, что григорьевские повстанцы – жертвы обмана, а Григорьева расстрелять всегда успеется. В результате 9 из 11 проголосовали за объединение. Когда Аршинов, склонный изображать Махно революционным рыцарем без страха и упрека, пишет, что Махно с самого начала хотел убить Григорьева и все эти переговоры затеял только как камуфляж для этого убийства, он, в данном случае, исторической правды не выдерживает. Григорьев был нужен Махно. Убить Григорьева – значило обратить против себя его людей, а у Махно было слишком мало сил, чтоб отбиваться. Он явно хитрил. Батька решился на этот новый альянс, чтобы посмотреть, что получится. Зачем был Махно Григорьеву? Вероятно, он нужен был Григорьеву для того, чтобы своею физиономией как-то обозначить политическое лицо движения, лично у Григорьева совершенно стершееся во время мятежа, и придать партизанской борьбе идейный смысл, которого, как Григорьев сам понимал, явно недоставало.
Был образован совместный штаб. Григорьев был назначен командующим всеми вооруженными силами, а Махно – председателем Реввоенсовета, которому командующий подчинялся. Начштаба стал брат Махно Григорий, начальником снабжения армии – григорьевец, начальником оперативной части – снова махновец.
Союз, однако, получился некрепким: махновцы сразу заметили «кулацкую ориентацию» Григорьева, что не нравилось ни бойцам, ни командирам, ни анархистам из штаба: избивает евреев, грабит русских, разоряет крестьянские кооперативы, не гнушаясь поборами с бедняков, благоволит к кулакам, у которых если что и забирает, то только за плату… Махновцы, возросшие и окрепшие на экспроприации кулачества, к такому не привыкли. В «вольном районе» ничего подобного не водилось. Докладывали Махно и о недоразумениях более серьезных: о том, как Григорьев расстрелял махновца, который ругал попа и украл у него с огорода пучок луку, о том, как Григорьев втихую одному помещику отправил пулемет, два ящика патронов, винтовки и обмундирование на несколько человек, о том, как в районе Плетеного Ташлыка Григорьев в очередной раз уклонился от боя со шкуровцами, мотивируя отступательный маневр слабостью сил… Махно выслушивал, но до поры молчал. За месяц сотрудничества с Григорьевым он понял, что союз этот ему невыгоден. Политически Григорьев был деградант и авантюрист, от этого страдала репутация армии. Махно понимал, что поднять крестьян могут только революционные – хотя и не большевистские – лозунги. Григорьев начинал мешать ему. Однако, чтобы убрать Григорьева, нужен был повод более значительный, чем расстрел повстанца, укравшего лук у попа, и предполагаемое сочувствие белым: устранение Григорьева должно было быть понято его людьми – иначе дело могло обернуться междоусобицей. Но тут случай помог Махно: в конце июля повстанцы захватили двух подозрительных людей, которые, будучи представлены в штаб, хотели видеть самого Григорьева. «Махно назвался Григорьевым, и тогда один из них вынул письмо от командования белой армии, отправленное Григорьеву. Махно расстрелял парламентеров, а его штаб в тот же день за обедом, распивая самогонку, решил расстрелять Григорьева» (40, 81). Повод был хорош.
Вечером того же дня, 27 июля, в селе Сентове состоялся большой митинг – Аршинов вообще называет его «съездом повстанцев Екатеринославщины, Херсонщины и Таврии», утверждая, явно преувеличенно, что присутствовало около 20 тысяч человек. Григорьев выступал первым и призвал бороться с большевиками любыми средствами, в союзе с кем угодно – имея в виду, очевидно, белых. Местные крестьяне, однако, большого энтузиазма не проявили, да и вообще бросалось в глаза их нежелание записываться в Повстанческую армию – из-за того, что григорьевцы и махновцы разбили крестьянский кооператив. Настал решительный момент. Чубенко выступил и назвал Григорьева контрой и царским слугою, у которого в глазах «до сих пор блестят его золотые погоны» (40, 81).
Григорьев вскинулся. Махно удержал его.
– Пусть говорит, – сказал он. – Мы с него спросим. После выступления Чубенко направился в помещение сельского Совета, за ним двинулись Григорьев с телохранителем, Махно, Каретников, Троян, Лепетченко, Колесник. Незаметно Чубенко изготовил на боевой взвод свой револьвер «библей».
Григорьев, видимо, ничего не подозревал. Он тоже был вооружен: двумя револьверами системы «парабеллум», один из которых висел в кобуре у пояса, а другой, привязанный ремешком к поясу, был заткнут за голенище.
– Ну, сударь, дайте объяснение, на основании чего вы говорили это крестьянам? – обратился он к Чубенко.
Тот с холодной беспощадностью изложил атаману все его прегрешения: и бесплатные реквизиции сена у бедных крестьян, и расстрелянного махновца, и нежелание наступать на Плетеный Ташлык, где были шкуровцы. Когда Чубенко помянул двух офицеров, которые привезли Григорьеву ответ деникинцев, Григорьев понял, что попал в западню. Он схватился за револьвер, «но я, – пишет Чубенко, – будучи наготове, выстрелил в упор в него и попал выше левой брови. Григорьев крикнул: „Ой, батько, батько!“ Махно крикнул: „Бей атамана!“
Григорьев выбежал из помещения, а я за ним и все время стреляя ему в спину. Он выскочил на двор и упал. Я тогда его добил» (40, 83).
Телохранитель Григорьева хотел убить Махно, но Колесник схватил его за маузер и случайно попал пальцем под курок, так что тот не мог выстрелить. Махно же, забежав сзади телохранителя, пять раз выстрелил ему в спину. При этом пулями, прошедшими навылет, был ранен и Колесник, который вместе со своим противником повалился на пол.
В тот же день григорьевцы были разоружены, какая-то часть их присоединилась к Махно, но небольшая. Махно же, покончив с Григорьевым, приказал во что бы то ни стало захватить одну из железнодорожных станций и телеграфировал: «Всем. Всем. Всем. Копия – Москва, Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев. Подпись: Махно. Начальник оперативной части Чучко».
Казнь Григорьева произвела хорошее впечатление на леворадикальные круги и восстановила поколебленный было авторитет Махно среди левых эсеров и анархистов, которым Григорьев после всех бесчинств его солдатни и погромов представлялся более чем сомнительной фигурой. Москва хитренько помалкивала. Меж тем Махно, оказавшись во главе довольно крупного отряда, численностью тысячи в три человек, осмыслял новое свое положение. Он становился последним крупным партизаном на Украине. Он был последним партизаном и первым среди партизан.
Ему ничего не оставалось делать, как начинать все сначала.
С развернутыми черными знаменами, с обозом беженцев, на тачанках, украшенных лозунгами «Свобода или смерть», «Земля – крестьянам, заводы – рабочим», отряд, вновь обретший революционный дух, двинулся на запад. В районе станции Помощная – где не было ни красных, ни белых, Махно остановился. Здесь он решил закрепиться и формировать новую армию. О том, что недостатка в бойцах у него не будет, он уже догадывался.
Для Красной армии ситуация на Украине складывалась все хуже. Фронт был разорван на части, прорыв белых в районе Харькова стал причиной спешного отхода войск. Высшее командование было растеряно до предела и столь же горячо поддавалось гибельному унынию, сколь совсем недавно еще полно было ликованием по поводу скоро грядущей победы. Значительные силы на юге Украины не успели вовремя отойти и были, по существу, отрезаны белыми. Бывшие махновцы из 58-й стрелковой дивизии после расформирования Крымской армии Дыбенко оказались в рядах 12-й армии, очутившейся в наиболее тяжелом положении. Со взятием Екатеринослава и Полтавы и началом деникинского наступления в низовьях Днепра Южная группа войск оказалась в стратегическом окружении. Здесь, правда, надо учитывать, что в Гражданскую «окружение» не было явлением столь гибельным, как, скажем, в Отечественную войну – несравненно меньшие силы были вовлечены в боевые операции, окруженными особенно некому было заниматься, некому было их планомерно уничтожать, закупорив в каком-нибудь «котле», которых так много было в 1941-м. В некотором смысле 12-я армия оказалась попросту в тылу у белых, точно так же, как в тылу у белых, несколько севернее красных, группировался возле Помощной Махно, к которому начали помаленьку прибиваться отступающие красные части. Сильнейшим ударом для командования 12-й был бунт 58-й дивизии и переход к Махно двух или трех бригад бывших махновцев, организованный Калашниковым и Дерменджи. С ними ушла и часть красноармейцев.
История с бунтом 58-й достаточна темна, чтобы вызвать наше любопытство. Официальные историки это обстоятельство упоминают невнятно и вскользь, словно его и не было. В. В. Комин пишет, например: «Вскоре вокруг батьки снова стали группироваться его бывшие и новые вооруженные отряды. Пришли к нему командиры Калашников, Будалов, Дерменджи со своими частями, порвав с красными» (34, 39). Аршинов, настроенный по отношению к Махно явно апологетически, от усердия трактует еще более туманно: «В конце июля крымские части большевиков сделали военный переворот и пошли на присоединение к Махно, взяв в плен своих командиров» (2, 135). Я понимаю, что Аршинову прежде всего надо засвидетельствовать разрыв «народа» с его лжедрузьями большевиками. Но из-за этого пропагандистского пафоса неясно даже, что «крымские части большевиков» – это в основном бывшие махновцы. Полным мраком покрыто присоединение к Махно красноармейской бригады под командованием М. Полонского – односельчанина батьки, который когда-то, в 1918-м, спорил с ним на митингах в Гуляй-Поле. В газетной заметке, посвященной Полонскому, утверждается, что командование бригады пошло на соединение с Махно под давлением обстоятельств, поскольку под Уманью-де бригада была окружена. Но это явная неправда: Махно оказался под Уманью после целой череды боев с белыми в двадцатых числах сентября и сам был окружен, никто к нему не присоединялся. Все уцелевшие части Южной группы Красной армии к тому времени пробились километров на 350 к северо-западу и в районе Житомира соединились с основными силами. А бунт 58-й дивизии случился на месяц раньше, в августе – следовательно, мы можем предположить, что командование бригады Полонского «под Уманью» никакого «решения», хотя бы даже и вынужденного, о присоединении к Махно не принимало, но в августе, когда забунтовала 58-я, просто покорилось обстоятельствам. Тут вылезает то, что историкам старой школы хотелось бы спрятать: с развалом фронта ряд частей Красной армии начал явно тяготеть к Махно, который недвусмысленно заявлял о своей готовности не оставлять Украину и отстаивать ее до конца: «Все, кому дорога свобода и независимость, обязаны оставаться на Украине и вести борьбу с деникинцами» (34, 40). Большевики, отступавшие в Россию, в этом контексте выглядели предателями. Махно же обещал разгромить Деникина и установить истинную советскую власть с настоящими коммунистами во главе. Притягательность его непрерывно росла.
Из воспоминаний о 12-й армии А. Кривошеева видно, что искать спасения у Махно красноармейцев вынудила не только злостная агитация его «агентов», но и чувство тупика и заброшенности, вызванное развалом фронта и оставлением Украины. «Армия стала рваться на клочки, потянулась отступать по разным направлениям. Екатеринослав был сдан. Неуспевшие перейти Днепр потянулись к западу по Правобережью на соединение с частями Киевского района. Но белые пошли наперерез. Они разорвали армию на три клочка, один из которых отступил на Харьков—Екатеринослав, другой на Киев, а третий даже и сюда не мог попасть, так как в помощь белым еще и Махно начал разоружать своих же и перерезал линию Вознесенск—Помощная. К нему тогда целиком перешли две бригады, уже переформированные из Крымской армии, командование над которой принял тов. Федько и которая была названа 58-й дивизией» (37, 199).
Нарисовать в подробностях, как произошел бунт, нельзя: достоверных свидетельств нет, додумывать бессмысленно. Обойдемся теми малыми крохами, которыми мы располагаем. Степан Дыбец в своих воспоминаниях прямо свидетельствует, что бунт в дивизии был подготовлен приказом об оставлении позиций на Днепре и отходе на Кривой Рог: о том, что харьковский прорыв деникинцев грозит окружением с севера, бывшие повстанцы, составлявшие ядро дивизии, не знали. Сами они действовали успешно, поэтому приказ упал как снег на голову. Всюду пошел ропот: «Чего ж мы будем отходить, когда надо наступать?» (5, 119).
Опять сказались партизанские настроения. На марше несколько полков прямо заявили: «Не будем закрепляться, хватит отступать, надо идти в наступление, надо родные дома отвоевать» (5, 120). Однако не успела дивизия занять указанные ей позиции, как пришел новый приказ – отступать дальше, на линию Долинская—Николаев. «Теперь, – вспоминает Дыбец, – отступали со скандалами. Войска начали явно колебаться, митинговали, не хотели отходить. Самые надежные наши полки стали разлагаться… Полков пять или шесть отказались отступать… Тавричане тянутся в Таврию, мелитопольцы – на Мелитопольщину. А тут все дальше уходим, шагаем по херсонским степям. Подводы, скот, крестьяне, женщины – нет конца отступающему множеству. Обоз несусветный и нельзя от него избавиться: семьи идут с полками» (5, 120).
Ситуация эмоционально складывалась тяжелейшая и явно выходила из-под контроля. При переходе на линию Долинская—Николаев куда-то задевался 6-й Заднепровский полк, которым командовал бывший махновский командир Калашников. Командование бригады думало, что полк, со скотом и подводами, отстал в пути. Но это была не задержка. Это был бунт.
В ночь на 14 августа 6-й Заднепровский полк объявился в Новом Буге и арестовал весь штаб боевого участка. Сам Дыбец так описывает этот момент:
«Часа в четыре утра, в комнату, где я спал, стучат:
– Просят в штаб, экстренная телеграмма.
Открываю дверь. Вваливаются человек восемь. У меня в углу стояла винтовка. Отрезают меня от винтовки.
– Пожалуйте в штаб.
Все это показалось мне подозрительным. Но рожи наши – не из белого офицерья…
Иду в штаб с этой гурьбой. Входим. И вот:
– Возьмите еще одного арестованного…» (5, 121).
Калашников арестовал всех своих военкомов, всех политработников и объявил об измене большевиков и предательстве ими интересов народа Украины. Был арестован командир первой бригады Кочергин. Воспротивившийся перевороту отряд немцев-спартаковцев и моряков был разбит махновцами. Отдельным «надежным» частям, быстро собранным в батальон, в самом начале заварушки на подводах и тачанках удалось прорваться к штабу дивизии, к комдиву Ивану Федько. Эти части спешно были двинуты на Николаев и Одессу, на соединение с частями 45-й стрелковой дивизии, которой командовал Иона Якир. Но и в Николаеве обстановка была накалена до предела. Вот-вот мог вспыхнуть бунт. Поскольку экипажи автоброневиков колебались, переходить к Махно или нет, решено было взорвать броневики. Были взорваны лучшие, вооруженные морскими орудиями: «Спартак», «Урицкий», «Худяков» и «Имени Свердлова». Подоспевшие части мятежников внесли еще больший разлад. Штаб дивизии, вместе с Федько, был арестован. На митинге агитаторы Калашникова звали красноармейцев в Повстанческую армию, говорили об измене большевиков и требовали предать их суду народа. Самосуд был предотвращен частями дивизии, состоявшими из московских рабочих, которым удалось освободить командиров. Вскоре подошли войска 45-й дивизии, посланные для усмирения беспорядков. Видя, что сагитировать оставшиеся части не удастся, махновцы, запалив вокзал и склады, оставили город. К восставшим, правда, перешли расчеты 40 орудий, сами же пушки были брошены.
Случившееся можно истолковать в самых различных терминах. Естественно, в первую голову говорят о подрывной пропаганде махновцев, прельстивших красноармейцев вольностями службы в Повстанческой армии. Аршинов как будто подтверждает это: «Был дан пароль свергать красных командиров и группироваться под общим командованием Махно» (2, 129). Кубанин тоже не считает восстание стихийным. По его мнению, махновцы продемонстрировали традиционную хитрость, сохранив свои части под видом красноармейских, а потом «взорвав» дивизию изнутри. И только из воспоминаний Дыбеца становится ясно, насколько сильна была эмоциональная подоплека выступления – хотя и он не пишет о колоссальном разочаровании народа Украины в большевиках, как своих правителях и защитниках. К тому же присутствие баб на возах, конечно, сказалось роковым образом. Советские историки именно этого не хотят замечать – что бунт 58-й дивизии случился из-за желания драться с белыми, отвоевать свои очаги. И в этом желании единодушными оказались и преданный Махно Калашников, и Куриленко, который о Махно имел свое суждение и даже, оказавшись среди восставших, заявил, что со своим полком придерживается самостоятельной политической линии. Отныне, однако, судьба его была решена: он был в числе бунтовщиков, он вновь из комполка превращался в атамана.
То, что оставление Украины и пространств юга России было для многих людей огромной личной трагедией, очень трудно понять, не пережив опыт беженства. Для кого-то движение фронта было лишь перемещением флажков на карте, занимательной военной игрой, а для кого-то личной драмой, разворачивающейся в дилемму: уходить от родного дома или биться за него? На этот вопрос должен был ответить каждый мужчина, каждый воин. И если взглянуть на происходящее с этой точки зрения, то с мятежом 58-й дивизии легко соотнести так называемый «мятеж» командира донского казачьего корпуса Ф. К. Миронова, будущего командира 2-й Конной, который тоже в конце августа не выдержал и, разметав стоящие перед ним красноармейские части, двинулся из Саранска освобождать от белых родные станицы. Предательство большевиков казалось и ему совершенно очевидным. «Чтобы спасти революционные завоевания, – писал он в своем воззвании, – остается единственный путь: свалить партию коммунистов. Причину гибели нужно видеть в сплошных злостных деяниях господствующей партии, партии коммунистов, восстановивших против себя общее негодование и недовольство трудящихся масс… Вся земля – крестьянам, все фабрики и заводы – рабочим, вся власть – трудовому народу в лице подлинных советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Долой единоличное самодержавие и бюрократизм комиссаров и коммунистов!» (31, 125). Текст этого воззвания кажется написанным под диктовку Махно. И тот и другой пытались осмыслить и каким-то образом выразить свой протест против диктата и гнусности формирующегося режима. Правда, из мироновского мятежа вышел конфуз: с ним выступил недоформированный корпус, числом всего человек в 500. И даже в партизанский отряд, рейдирующий по тылам Деникина, мироновцы не успели превратиться, ибо были блокированы и разоружены. А с Мироновым вышла странная история. Его арестовали и судом трибунала приговорили к смерти. А потом вроде бы ВЦИК за предыдущие революционные заслуги помиловал его. Но в том-то и дело, что весь процесс был инсценированный – и о приговоре и о последующем помиловании все было известно заранее. Инициатором спектакля, кажется, был Троцкий: ему нужно было Миронова наказать, но расстреливать его он опасался, боясь, что взметнутся красные казаки, и тогда, пожалуй что, фронту не устоять. Он расправился с Мироновым, когда Гражданская война уже закончилась: что-то тот не то сказал о политике партии, его арестовали снова и в 1921-м расстреляли-таки во дворе Бутырской тюрьмы под циничным предлогом – «попытка к бегству».
С махновцами вышло иначе: из Нового Буга Калашников повел к Помощной на соединение с Махно двенадцать тысяч человек. Это была большая сила. Пленных везли с собой. «Всем нам, рабам божьим, Калашников заявил, что расстреливать нас не будет, а довезет к Махно», – вспоминал С. Дыбец. Охраняла арестованных рота когда-то разоруженного им за самовольный уход с фронта мелитопольского полка, но из-за того, что в свое время Дыбец командиров полка не расстрелял, отношение к пленникам было сносное. «Калашникову пришлось считаться еще с тем, что некоторые полки, хотя и двигавшиеся с ним к Махно, оставались в той или иной мере нашими, – свидетельствует Дыбец. – Полк Куриленко был за нас, новоспасовцы тоже. Они открыто заявили Калашникову, что если на пути к Махно что-либо произойдет со штабом, то перестреляют весь 6-й Заднепровский (полк Калашникова. – В. Г.). И, как я приметил… даже выделили своих делегатов, которые наблюдали, чтобы ничего с нами не стряслось» (5, 126).
В селе Добровеличковке[11] Махно на белом коне встретил армию, которую вел к нему Калашников. Расцеловался с ним. Калашников указал на пленных:
– Вот доставил на твое усмотрение штаб боевого участка. Махно даже не оглянулся в сторону арестованных:
– Что ж, всех расстреляем.
В разговор вмешался Уралов, анархист из культпросветотдела, знавший Дыбеца еще по Бердянску:
– Как же расстрелять, когда там Дыбецы? Он и она.
– А, Дыбецы! – вскрикнул Махно. – Ну-ка, дай его сюда!
– Известно ли тебе, что я теперь коммунистов расстреливаю, так как объявлен вне закона?
– Известно.
– Ну так вот что. Рука у меня не поднимается на этого старого ренегата. Может быть, это моя слабость, но я его не расстреляю. И приказываю, чтобы волос с его головы не упал в расположении моих войск… Слыхали? (5, 127).






