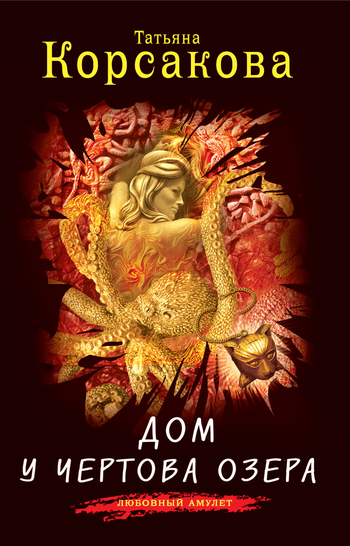Ответный темперамент Берсенева Анна

– В Чудцеве, я слышала, Игнатовичи жили.
– Игнатовичи? Не знаю, – пожала плечами мама. – Это твои знакомые?
– Нет, – сказала Ольга. – Их я не знала. Но знаю их внука.
И тут же поняла, что это не так. Ведь она совсем ничего не знает о Сергее Игнатовиче и, кстати, не знает даже, Игнатовичи ли были его бабушка с дедушкой. Может, это было родство с материнской стороны и фамилия у них была другая.
Она не знала о Сергее ничего. Но мысли ее возвращались к нему снова и снова, и самые неважные мелочи, связанные с ним, приобретали в ее мыслях какой-то огромный масштаб.
– Я пораньше лягу, – пытаясь избежать этих мыслей, сказала Ольга. – Мне завтра на работу рано, надо хоть немного выспаться. Я ведь и не собиралась вообще-то сегодня приезжать, как-то неожиданно получилось.
Спать Ольге совсем не хотелось, но так же не хотелось ей, чтобы мама почувствовала, в каком счастливом смятении она находится. Мама была проницательна и почувствовать это могла вполне.
– Ложись. Я еще почитаю.
Мама посмотрела на нее с тем мимолетным вниманием, которого Ольга как раз и опасалась. Этим вниманием она всегда выхватывала главное, что было в человеке вообще и в его сиюминутном состоянии в частности.
– Что ты читаешь? – чтобы отвлечь от себя это мамино внимание, спросила Ольга.
Она надеялась, что в ее голосе прозвучит интерес к книге, который маму и обманет.
– Мемуары Тенишевой, – ответила мама. – Неля вчера приезжала и привезла. Я, знаешь, заметила, что одни мемуары в последнее время и читаю. Возраст, Оля, возраст! Очарование вымыслов сходит как позолота, и интересна становится только правда.
– Ну, у Нели-то возраст еще не такой уж большой, – возразила Ольга.
Шестидесятилетняя Нелли была средняя из сестер Луговских. Правда, много лет она считалась младшей – до тех пор, пока во Франции не обнаружилась Мария.
– Потому Неля мне эти мемуары и отдала, – сказала мама. – Не возись с посудой, Оля, я сама уберу.
Ольга оставила тарелки на столе, поцеловала маму и ушла в дом. Когда она поднималась по лестнице, ей казалось, что мама смотрит ей вслед с тем самым мимолетным вниманием, от которого не скроешь сильных чувств.
Глава 9
Если бы Оля была не Оля, а какая-нибудь посторонняя женщина, то Татьяна Дмитриевна подумала бы, что она влюбилась.
Она с детства обладала способностью улавливать трепет и смятение, которыми сопровождались в людях сильные и в силе своей всегда тревожные чувства. У маленькой девочки такая способность могла бы показаться странной, но Таня умела ее скрывать. Даже не скрывать, а сдерживать. Она вообще была сдержанная, характером удалась в отца. Однако при такой природной сдержанности у Танечки никогда не было недостатка в поклонниках. Теперь, в старости, она даже немножко жалела свою единственную дочь. Конечно, муж Оле попался очень достойный, но поженились они рано, и за хорошего мужа ей пришлось заплатить единственностью любовного чувства. Впрочем, ее это, похоже, не угнетало: Оля была цельной натурой, и дробное восприятие мира, одним из проявлений которого являются многочисленные любовные увлечения, вообще было ей не свойственно. Еще в детстве, когда ее подружки то собирали марки, то ходили в драмкружок, то занимались бисероплетением, Оля изучала французский язык, потому что собиралась посвятить этому всю свою жизнь. И для того чтобы заниматься этим единственным избранным делом, ей нисколько не приходилось себя ограничивать – она просто занималась тем, что ей нравилось, и не испытывала в связи с этим ни зависти к подружкам, ни хотя бы любопытства к тем бесчисленным занятиям, которые они так самозабвенно перебирали.
Сначала Татьяна Дмитриевна предполагала, что французский язык является для ее дочери тем, что называют одной, но пламенной страстью, но вскоре заметила, что Оля отдается своему занятию вовсе не со страстью, а со спокойным, ровным вниманием. Однако и вялости, за которую такое внимание можно было бы принять, в ней не было нисколько.
Ни вялой холодности, ни жесткой ограниченности – в ней не было ничего, что могло бы свидетельствовать об ущербном восприятии жизни. Да, дело было лишь в том, что ее дочь была цельной натурой. Это Татьяна Дмитриевна поняла еще в Олином детстве, и ни разу за сорок лет у нее не было повода усомниться в таком своем понимании.
И вдруг сегодня она почувствовала в дочери такую тревогу, которой в Оле не было прежде никогда, за это она могла поручиться.
Это было так удивительно, что Татьяна Дмитриевна даже не поверила себе.
«Просто я, наверное, сама растревожилась, – подумала она. – Юность вспомнила… Как странно! Не думала, что чувства могут тревожить в воспоминаниях».
Татьяна Дмитриевна сидела на веранде, фонарики мерцали над нею, посверкивали в траве, давно пора было спать, но память ее была взбудоражена, и она не ложилась – понимала, что надо дать своей памяти волю.
Таня ходила в школу уже второй месяц, но возможность полюбить свою новую жизнь или хотя бы к ней привыкнуть с каждым днем становилась все более призрачной.
Все здесь было иначе, чем в Париже, ну просто все! Вечерами в кровати Таня плакала, как маленькая, и лишь природная сдержанность не позволяла ей разрыдаться в голос, так, чтобы прибежала мама.
В парижской жизни была тонкая непредсказуемость; только в Москве Таня поняла, как она была прекрасна. Понимание, что теперь вместо той непредсказуемости, той летящей прелести каждого дня будет что-то совсем другое, и будет всегда, – это понимание как раз и заставляло ее плакать. Как назвать это теперешнее «другое», Таня не знала. Может быть, грубость? Да, пожалуй. Московская жизнь была невыносимо груба, неутонченна.
«Зачем мы сюда приехали? – вытирая слезы углом одеяла, думала Таня. – Немцы, возможно, и не станут еще воевать с французами. А если станут, то не обязательно выиграют войну. А если выиграют…»
Дальше развивать эту мысль ей все-таки не хотелось. Представить, как она стала бы жить в Париже под властью фашистов, было невозможно.
Но Москва все равно не становилась ей милее; с этим ничего нельзя было поделать.
Школа, в которую она поступила, была неподалеку от дома. Но небольшое расстояние от Ермолаевского, в котором они жили, до Леонтьевского переулка, где находилась школа, Таня каждый день преодолевала с таким трудом, будто это была каторжная дорога, ведущая прямо в Сибирь.
Переходя Тверской бульвар, она с завистью смотрела на маленьких детей, которые гуляли с мамами и нянями по весело хрустящей, посыпанной мелким гравием аллее. Счастливые, им не надо в школу! А у нее первый урок история, и придется отвечать о разнице между Эрфуртской и Готской программами немецких социал-демократов, а она понятия не имеет, что это за программы такие, потому что всю ночь читала «Мадам Бовари» и выучить урок не успела.
Стоило Тане подумать о школе, как ноги ее делались чугунными, а сердце тоскливо сжималось.
«Ничего, – говорила она себе, – ничего, ничего. Осталось всего две недели. Потом экзамены, а потом каникулы. И снова в школу только осенью».
Но сами эти слова, «снова в школу», даже произнесенные лишь мысленно и по отношению к отдаленному будущему, нагоняли на нее еще большую тоску.
А когда здание школы – красивое вообще-то, похожее на пряничный домик, – вырастало в просвете между домами Тверского бульвара, к которому примыкал Леонтьевский переулок, то тоска переходила в безнадежное уныние.
Но предаваться унынию было уже некогда: звонок слышен был на улице, и Таня взбежала на школьное крыльцо.
В класс она влетела за минуту до исторички Мастеровой, чуть не столкнувшись с нею в дверях. Та посмотрела на Таню с неодобрением, но ничего не сказала и даже, кажется, замедлила шаги, чтобы ученица Луговская успела занять свое место рядом с Петей Вересовым.
– Что это с тобой? – шепотом поинтересовался он.
У Вересова был повод для недоумения: за все время, что Таня Луговская училась в девятом «А» классе, она не опоздала на уроки ни разу.
Объяснять Пете про «Мадам Бовари» не хотелось, да, к счастью, и не пришлось: историчка всегда начинала урок сразу, с порога, не оставляя ученикам времени на посторонние разговоры.
В том, что ее сегодня непременно спросят, Таня не сомневалась: у нее было чутье на неприятности, во всяком случае, на вот такие, мелкие; считать невыученный урок крупной неприятностью она все же не могла.
И точно.
– Луговская, к доске! – раздался металлический голос Мастеровой.
Пока Таня шла к доске, чугун в ее ногах стал по меньшей мере вдвое тяжелее. Хотя разве может стать тяжелее чугун? Уж какой есть.
«Что за глупости в голову лезут?» – успела еще подумать Таня и тут же услышала:
– Расскажи нам, что ты знаешь о Готской программе немецких социал-демократов.
Историчка всегда подчеркивала это «ты» и «нам», когда спрашивала Таню. Словно проводила между нею и всем классом черту. Таня не страдала мнительностью и подозрительностью, а потому была уверена, что это ей не мерещится.
И конечно, именно Готская программа! Впрочем, вопрос о программе Эрфуртской был бы ничем не лучше.
– Я ничего не знаю о Готской программе, Надежда Петровна, – сказала Таня, глядя в маленькие серые глаза исторички.
А что еще она могла сказать?
– Интере-есно… – еще больше сощурив глаза, протянула Мастеровая. – Почему, можно тебя спросить?
– Потому что… – Таня запнулась. Но выдумывать какие-то несуществующие причины она все-таки не видела смысла. – Я вчера увлеклась книгой и читала до утра.
– И что же это была за книга?
– «Мадам Бовари» Флобера.
– И на каком же языке ты читала Флобера? – не отставала Мастеровая.
– На французском, – с удивлением ответила Таня.
– Почему?
– Но ведь она написана на французском…
Таня произнесла это осторожным тоном, чтобы Мастеровая не подумала, будто она считает ее дурой. Хотя почему «будто»? Таня ведь именно дурой ее и считала.
– Существует русский перевод, – поморщилась Мастеровая. – Раз ты живешь в нашей стране, то должна читать на ее языке.
Что на это ответить, Таня не знала. Что книги лучше читать на том языке, на котором они написаны? Ей казалось, это само собой разумеется…
К счастью, историчка и не ожидала от нее ответа.
– Ладно, Луговская. – Она вздохнула так тяжело, словно призывала весь класс посочувствовать своей тяжкой доле – вот, мол, с кем приходится иметь дело! – Готской программы ты не знаешь. Расскажи тогда, что ты знаешь о немецкой социал-демократии вообще.
О немецкой социал-демократии Таня знала примерно то же, что и обо всех ее программах, то есть ничего. Зачем ее об этом спрашивать? Она ведь сказала, что не выучила урок!
– Я не выучила сегодня урок, – повторила Таня.
– Это я уже слышала, – поморщилась Мастеровая. – Потому и даю тебе последнюю возможность избежать неудовлетворительной оценки. Живя в Европе, ты не могла ничего не слышать о такой сильной социал-демократии, как немецкая. Вот и расскажи нам, что ты слышала.
– Ничего, – повторила Таня. – Я не слышала о ней ничего. В Европе все говорят только про немецкий фашизм.
«И только поэтому мы уехали из Европы», – хотела добавить она.
Но не добавила, потому что вдруг подумала, что это, может быть, не вся правда. Из обрывков родительских разговоров, которые она стала все чаще слышать в последнее время, можно было сделать и другие выводы.
– Фашизм – сознательный выбор немецкого трудового народа, – ледяным тоном отчеканила историчка.
– В этом весь и ужас, – сказала Таня.
– Не понимаю, что ужасного ты видишь в фашизме, – пожала плечами та. – Руководство нашей партии и страны рассматривает Гитлера как своего союзника в борьбе с мировым империализмом.
Мастеровая проговаривала каждое слово внятно, словно гвозди вколачивала. И с каждым словом Таня чувствовала, что ее первоначальное легкое раздражение против исторички превращается в настоящее возмущение.
– Гитлер антисемит! – воскликнула она. – Он ограничивает права евреев, отнимает у них имущество! Разве этого мало, чтобы считать его…
– Он отнимает имущество у представителей эксплуататорских классов, – перебила ее историчка. – Это, к твоему сведению, называется экспроприацией экспроприаторов и является важнейшей частью классовой борьбы. В нашей стране этот процесс начался после Великой Октябрьской социалистической революции и привел к созданию великого государства рабочих и крестьян. Надеюсь, хотя бы это тебе известно, – язвительно добавила она.
– Но это же совсем другое! – задыхаясь от возмущения, воскликнула Таня. – Это… – Она хотела сказать, что отнимать чье бы то ни было имущество вообще нельзя, но в последнюю секунду поняла, что говорить это бесполезно. Да и не это казалось ей главным в неожиданно возникшем споре с историчкой. – Гитлер унижает людей из-за их национальности! Он измеряет циркулем строение их черепов и после этого отправляет их в концентрационные лагеря. И немцы это одобряют! Но как же можно одобрять такое? И что же будет дальше? Людей начнут убивать за то, что у них черепа не такой формы, какую считает правильной Гитлер? А душевнобольных людей он уже убивает, когда отправляет в лагеря! Потому что они ведь не могут жить без врачебной помощи!
Таня чувствовала, что от волнения говорит все менее правильно – французские конструкции просвечивают в русских фразах.
– Прекрати кричать, Луговская, – поморщилась историчка. – Кто тебе сказал эту ерунду про душевнобольных?
– Об этом пишут все французские газеты!
– Французские газеты занимаются клеветой.
– Гитлер диктатор и скоро начнет войну! Он захватит всю Европу!
– Вот что, Луговская… – Лицо исторички стало красным, потом белым. Потом она медленно приподнялась на стуле и развела руки, словно хотела защитить класс от Тани. – Эту буржуазную пропаганду оставь для разговоров у себя дома. А в школе будь добра учить уроки как положено. Садись – «неудовлетворительно»!
Она посмотрела на Таню с ненавистью. Мало сказать: с ненавистью – из ее глаз будто выметнулись стальные иглы.
Возражать ей было невозможно. Можно возражать словам, мыслям. Но этому ненавидящему взгляду…
Таня повернулась так стремительно, что скользнул по паркету каблучок ее туфли, и выбежала из класса.
Глава 10
Она летела по Тверскому бульвару, и гравий не успевал скрипеть у нее под каблуками.
«Это совсем другие люди! – лихорадочно мелькало у нее в голове. – Они думают совсем по-другому, чем… Чем люди! Я не могу с ними жить, никогда не смогу!»
Обычная сдержанность изменила Тане настолько, что если бы слезы не стояли у нее в горле, то она даже не думала бы все это, а выговаривала бы вслух, просто выкрикивала.
«Зачем папа нас сюда привез? – судорожно пытаясь сдержать слезы, думала она. – Мама не хотела ехать в Москву, я знаю. И… никто не хотел!»
Она вдруг вспомнила, как накануне отъезда пришел проститься на бульвар Пастера, где они снимали квартиру, Иван Алексеевич Зеленин, папин однокурсник по Петербургской военно-медицинской академии. Он и теперь работал вместе с папой в клинике, но не врачом, а санитаром. Папа говорил, это из-за того, что Иван сгубил свой талант пьянством, а мама возражала – не пьянством, а ностальгией.
Тем вечером, впрочем, Иван Алексеевич выпивал немного. О причине посиделок – отъезде Луговских в Москву – не было сказано ни слова, но мысль об этом висела в воздухе, и атмосфера за столом казалась мрачной. Во всяком случае, Таня чувствовала ее именно такою и поэтому ушла спать пораньше, сказав, что устала, собирая вещи в дорогу.
На самом деле она не устала нисколько, дело было вовсе не в этом. Тоска лежала у нее на сердце, и мрачный вид Ивана Алексеевича и его молчание лишь усиливали эту тоску.
Дверь в ее комнату была закрыта неплотно, и она слышала разговоры за столом. Если можно было назвать разговорами короткие незначительные фразы, которыми обменивались взрослые.
– Что же ты делаешь, Митя? – вдруг услышала Таня.
Голос Ивана Алексеевича прозвучал с таким глухим отчаянием, что она насторожилась.
– Ты о чем, Ваня? – спросил отец.
В папином голосе, напротив, не слышалось ничего, кроме обычной его ровной сдержанности.
– Сам ты все прекрасно понимаешь, – ответил Иван Алексеевич. – И куда едешь, и к кому – не можешь не понимать. Вот я и спрашиваю: что ты делаешь?
– Я не люблю риторических вопросов, Иван. Да и ты, насколько мне известно, тоже.
Тане показалось, что она видит, как папа поморщился. Хотя сквозь узкий дверной просвет ничего из происходящего за столом она видеть, конечно, не могла.
– Хорошо, спрошу иначе: если тебе все равно, что будет с тобой, то неужели так же все равно, что будет с твоей дочерью? Это, по-твоему, тоже риторика?
– Это не риторика. Это пустой пафос.
– Не такой уж пустой. – Странно, что Иван Алексеевич не обиделся на резкость, с которой папа произнес эту фразу. – Неужели ты не понимаешь, что Таню они заставят работать на макаронной фабрике? И это еще в самом лучшем случае.
Тут в разговор наконец вмешалась мама.
– Ваня, – нежным своим, тихо звенящим голосом сказала она, – все уже решено. Зачем теперь объяснять? Через год, не позднее, в Париже будут немцы. По-моему, это достаточное объяснение нашего отъезда.
– Сие никому не известно, – отрубил Иван Алексеевич. – А вот что большевики мостят тундру людскими костями, известно доподлинно. Желаете поучаствовать в освоении красного Севера?
Теперь Тане показалось, что она видит растерянность в маминых прекрасных глазах.
– Прекрати, Иван. – Папин голос прозвучал совсем уж резко. – Тебе и так понятно все, что касается моего отъезда. Я в этом уверен.
Молчание повисло за столом. Иван Алексеевич прервал его первым.
– Да, – сказал он. – Понятно, Митя. Я, знаешь, когда к вам сегодня шел, то всё стихи вспоминал. Молодой какой-то поэт, никому не известный. Я его книжечку еще в Берлине купил. Тоже к вам в гости тогда шел, на Тауенцинштрассе, и в книжную лавку случайно по дороге завернул. Книжечка потом при переездах затерялась, и стихи я долго вспомнить не мог. Вот, сегодня только вспомнил.
И он прочитал ровным глухим голосом:
- Бывают ночи: только лягу,
- в Россию поплывет кровать;
- и вот ведут меня к оврагу,
- ведут к оврагу убивать.
Он читал дальше и дальше – про покров благополучного изгнанья, который защищает этого поэта… И вдруг закончил резко и отчаянно, как будто на последнем в жизни выдохе:
- Но, сердце, как бы ты хотело,
- чтоб это вправду было так:
- Россия, звезды, ночь расстрела,
- и весь в черемухе овраг!
– Такие вот стихи, – помолчав, сказал Иван Алексеевич. – А под немцами в самом деле жить нельзя. Это я еще в Берлине понял, хотя тогда они были настроены сравнительно вегетариански.
Больше про отъезд Луговских в Россию тем вечером не говорили.
И вот теперь Таня бежала по Тверскому бульвару, в горле у нее стояли слезы, и ей казалось, что она уже работает на макаронной фабрике. Сплошная макаронная фабрика была вокруг нее, ничего больше!
– Таня! – вдруг услышала она. – Таня, постой!
Останавливаться не хотелось – из-за слез. Из горла они поднялись уже к глазам, вот-вот готовы были пролиться, и этого никто не должен был видеть. Но все же Таня замедлила бег и, не останавливаясь совсем, на ходу обернулась.
По аллее быстро шел Дима… Дима… Как же его? Он был Таниным одноклассником, но фамилию его она не могла сейчас вспомнить. Да и его имя вспомнила лишь потому, что оно совпадало с папиным. Не сказать, чтобы этот Дима был каким-нибудь особенным тихоней, но почему-то он не был в классе заметной личностью. И неизвестно, был ли он личностью вообще.
Впрочем, и те одноклассники, которые обращали на себя внимание интересной внешностью или бойкостью ума, тоже не вызывали у Тани приязни. Все они были людьми из другой жизни; между ними и Таней возвышалась невидимая, но неодолимая стена.
– Таня, подожди! – Дима уже стоял перед нею. В отличие от Тани, он не задохнулся от быстрой ходьбы. – Вот. Ты забыла.
В руке у него была Танина сумка. Та, с которой она ходила в школу в Париже. И, увидев эту сумку, такую родную, такую милую в своем простом изяществе, Таня не выдержала – слезы наконец прорвали последнюю преграду у нее внутри и полились по щекам так, словно она попала под дождь. При этом она не сдержала и невнятный всхлип – он тоже вырвался из ее горла.
– Не плачь, Таня, – сказал Дима.
Его голос прозвучал на удивление ровно. Впрочем, почему на удивление? Может, он по натуре был флегмой, ведь Таня не знала. Но от ровного звучания его голоса она вдруг почувствовала себя спокойнее.
Сказать что-либо, однако, она все же не смогла, только помотала головой. Дима при этом посмотрел на нее так внимательно, словно она сделала что-то из ряда вон выдающееся.
– Что ты так на меня смотришь? – сквозь слезы выговорила Таня.
– Я не на тебя, – тем же спокойным голосом ответил он, – а на твои слезы. Ты головой помотала, они сразу разлетелись и засверкали как алмазы. Я даже подумал было, что это у тебя из сережек алмазы выпали.
Он объяснил все это так обстоятельно, что Таня невольно улыбнулась. Хотя слезы все еще текли по ее щекам.
– Я не ношу алмазов, – сказала она. – И вообще никаких драгоценностей не ношу.
– Потому что это дурной тон?
– Да нет, – пожала плечами Таня. – Просто не люблю. Может быть, позже мне это понравится. У мамы, например, есть нитка старого жемчуга, и она его с удовольствием носит. И сережки жемчужные тоже.
Просто диво какое-то! Что это она вдруг взялась рассказывать про мамины обыкновения незнакомому и даже чужому человеку?
– Тебе тоже пошел бы жемчуг, – сказал Дима. И добавил с некоторым смущением: – Я, правда, жемчуга никогда не видел, но думаю, что пошел бы. Хотя исхожу при этом, конечно, из тех представлений, которые получил из книг.
Его обстоятельность не только смешила Таню, но и вызывала к нему приязнь.
– А я в одной книге читала, что островитяне жуют жемчужины, которые добывают из океана, – сказала она. – Только не помню, для чего они это делают.
– Ты не расстраивайся, – сказал Дима.
– Я и не расстраиваюсь. Не все ли равно, для чего жемчуг жуют! Это же в Тихом океане где-то.
– Не из-за жемчуга не расстраивайся, а вообще. Историчка дура, это все знают. Чего из-за нее расстраиваться?
– Я не из-за нее… – пробормотала Таня.
Не объяснять же, что она расстроилась и даже заплакала из-за своего полного и неизбывного одиночества. Ну да, у нее есть папа и мама. И они родились здесь, в России, и сюда теперь вернулись. Но ведь она, Таня, родилась в Париже, и Россия ей совершенно чужая. И жизнь здесь примитивна, как жизнь инфузории-туфельки, и она никогда к этой жизни не привыкнет!
Из-за того, что она снова вернулась к той мысли, от которой ее отвлек было Дима, по Таниному лицу, наверное, пробежала тень. И Дима эту тень, наверное, заметил.
– Просто ты после школы всегда домой сразу идешь и ничего поэтому не видишь, – сказал он.
В его манере говорить было что-то необычное, может быть, даже парадоксальное. Или нет, не парадоксальное… Таня догадалась: Дима словно бы проговаривает вслух лишь краткие отрезки своих мыслей, сами же мысли текут в его голове непрерывным потоком. Потому и интересно слушать эти серединные фразы, догадываясь по ним о содержании целого.
– А что я должна видеть?
Таня хотела задать свой вопрос с вызовом, но это у нее не получилось, и вызова в ее голосе не прозвучало.
– Ты не очень-то видишь, как здесь живут, – ответил Дима. – Потому тебя здешняя жизнь и пугает.
– Ничего она меня не пугает… – пробормотала Таня. – Но я ее в самом деле не понимаю, конечно, – все-таки сдалась она.
– Это не страшно.
– Но обидно же! – вырвалось у Тани.
Только теперь, произнеся эти слова, она поняла, что они – правда. До сих пор Таня была уверена, что московская жизнь вызывает у нее лишь неприязнь. А оказывается, ей просто было обидно… Как странно, что до сих пор это не приходило ей в голову!
– По Москва-реке пустили речной трамвай, знаешь? – сказал Дима.
Да, мысли его текли необычно и неведомо. Но при этом он смотрел на Таню так внимательно, что невозможно было сказать, будто он думает о своем. Видно было, что он думает о ней.
– Не знаю, – сказала Таня. – То есть не знаю, что его по Москва-реке пустили. Речной трамвай – это ведь маленький кораблик, да? По Сене такие ходят. Я каталась.
Она вспомнила, каким счастливым был тот день, когда папа пригласил их с мамой покататься на маленьком речном кораблике.
Как радостно сверкала в солнечных лучах вода Сены и посверкивали гранитными искрами ее берега, а когда кораблик заплывал под мост, то казалось, что попадаешь в таинственную пещеру с сокровищами… Потом они гуляли по Люксембургскому саду и сидели на траве, и всем им троим было так хорошо, так легко… Лучше было не вспоминать об этом сейчас! Иначе слезы снова полились бы из глаз.
– Если хочешь, можно в Коломенское сплавать, – сказал Дима.
– Но ведь это, кажется, другой город? – удивилась Таня.
– Другой город – Коломна, – сказал Дима. – А Коломенское в Москве. Я там часто бываю. Но на речном трамвае еще ни разу туда не плавал. Если хочешь, можем вместе поплыть.
– Ты меня приглашаешь? – улыбнулась Таня.
– Да, – кивнул он.
Кажется, его совсем не раздражала ее манера говорить и держаться, которая, Таня видела, раздражала всех ее московских одноклассников.
– Что ж, спасибо, – улыбнулась она. – Я с удовольствием поеду с тобой в Коломенское.
Глава 11
– Наверное, тебя в тот день не было на занятиях. Наверное, ты болел.
– Скорее прогуливал.
– Может быть. Во всяком случае, тебя не было, когда нас всех водили тренироваться в Осоавиахим, иначе ты точно это запомнил бы. Это такой бред, что его невозможно не запомнить!
Таня сидела на склоне холма, глядя на белую колокольню, которая возвышалась на противоположном холме прямо над рекой и тонула в небе, а Дима стоял перед нею, и поэтому, глядя на колокольню, она то и дело встречала его внимательный взгляд.
– А что он говорил? – спросил Дима.
– Он говорил – послушай, я запомнила до слова. – Таня постаралась, чтобы ее лицо приняло бессмысленное выражение, и пробубнила, подражая голосу инструктора из Осоавиахима: – «Раньше инструкторы с вами много допускали словесности за счет личного показа и отработки одиночного бойца. Привожу пример, как извращались с их стороны команды. Вроде того что «приставь заднюю ногу», тогда как у человека есть только правая и левая нога. Откуда-то еще нашли заднюю ногу».
Ей ненадолго хватило серьезности в воспроизведении этакого чуда. Дима расхохотался, и она вслед за ним.
– Ну как? – сказала Таня, отсмеявшись. – По-твоему, можно всего этого не замечать? И это не режет слух?
– Режет. Но ты не обращай внимания.
– Я стараюсь, но не могу, – грустно сказала Таня. – Здесь всего этого слишком много. Какая-то сплошная макаронная фабрика.
Она думала, что он удивится и спросит, при чем здесь макаронная фабрика, и трудно будет в двух словах объяснить, что она имеет в виду. Но Дима сказал:
– Скорее качели.
Удивиться пришлось ей самой.
– При чем здесь качели? – спросила она.
– Я тоже об этом думал, Таня, – сказал Дима. – Трудно всего этого не замечать, ты права. Слишком много всякого дурацкого. Но это как на качелях, понимаешь? Качнешься назад, и так замутит, что кажется, вот-вот сблю… – Он смутился и поправился: – В общем, плохо себя почувствуешь. А потом, из самой мертвой точки, качели обратно летят. И так хорошо становится, что сердце замирает. Ну, это я глупо, конечно, объясняю, – добавил он. – И непонятно.
– Нет, почему же… – медленно проговорила Таня. – Я, кажется, понимаю… А когда качели обратно летят – это что?
– Это, например, когда встречаешь очень хорошего человека. Не то чтобы гения, а просто доброго, толкового, такого, знаешь… живого. И кажется, что ты до него взлетел. Вот это и есть – как на качелях. Сначала тебе надо попасть в самую тошнотную точку – ну, вроде того инструктора из Осоавиахима, – чтобы потом долететь до самого прекрасного человека.
– Но разве по-другому нельзя? – сказала Таня. – Разве нельзя, чтобы были просто хорошие люди, обязательно надо, чтобы сначала дураки?
– Может, и необязательно. Но почему-то получается так. Во всяком случае, у нас. Может, во Франции по-другому, но я же там не был.
– Во Франции?.. – задумчиво проговорила Таня. – Да, там по-другому.
Она снова вспомнила, воспроизвела в себе то ощущение, которое связывалось у нее с парижской жизнью. Оно было легким, счастливым, многообразным и очень… ровным. Да, именно так. Полета на качелях – вниз до тошноты, а потом вверх до восторга – в нем не было точно. Но разве она хотя бы раз почувствовала восторг за то время, что жила в Москве?
– Ты очень умный, Дима, – сказала Таня. – Мне жаль, что мы с тобой никогда не говорили прежде вот так откровенно. Я сказала что-то смешное? – вглядевшись в его лицо, спросила она.
– Нет, ты что! – смутился он. – Ты не смешно говоришь, а красиво. Очень необычно.
– Немножко не по-русски, да? – догадалась она. – Это из-за Франции. Мы говорили по-русски дома, но в школе и вообще за порогом дома я, конечно, почти совсем не говорила по-русски. И русских друзей у меня не было, и у родителей их тоже было мало. Наша семья жила обособленно от парижского русского общества, я даже не знаю, почему.
– Ты очень красиво говоришь, – повторил Дима. – Я никогда не слышал, чтобы так говорили. Ну что, отдохнула?
Таня присела на склоне потому, что устала, бродя по тропинкам Коломенского. Дима не обманул ее, здесь в самом деле было необыкновенно красиво. И очень просторно. Людей на этих просторах совсем не было, и поэтому они казались просто бескрайними, ограниченными только рекою и небом. И купола прекрасной белой церкви тоже были похожи на небо, потому что они, эти купола, были голубые и на них сверкали золотые звезды.
– Я отдохнула, – кивнула Таня и поднялась с травы. – Но мы можем еще погулять?
– Конечно. Если ты хочешь. Я-то сюда часто езжу. Я и раньше хотел тебя пригласить, только… Ну, в общем, не решался.
– Почему? – улыбнулась Таня.
– Мне казалось, ты надменная. – Сказав это, он покраснел и торопливо добавил: – Не обижайся!
– Я не обижаюсь, – снова улыбнулась она. – Ты мне подарил прекрасный день. Только пропустил из-за меня школу.
– А, ерунда! – махнул рукой Дима.
Они поднялись вверх по склону и снова оказались на заросшей травою тропинке, с которой сошли, когда Таня устала.
– А почему ты часто бываешь в Коломенском? – спросила Таня. – У тебя здесь какие-нибудь дела?
Она заметила, что Дима снова смутился. Все чувства вообще были очень заметны на его лице.