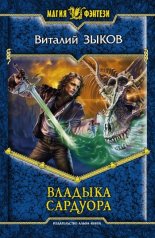100 великих загадок XX века Непомнящий Николай

— А что бывало каждую субботу у этой лестницы?
Больная не могла припомнить; видно было с ясностью, как она с трудом пытается совладать с изменяющей ей памятью. Но картины прошлого ускользали от нее.
Несколько времени спустя она сказала, обращаясь ко мне:
— Тетушка всегда звала меня “Schwipsik”.
— Да, — откликнулась великая княгиня, — я всегда обращалась к ней именно так.
Нет сомнения, ей было приятно и радостно услышать это. В полдень она покинула нас: ее ждали к завтраку в датском посольстве.
Вскоре она снова была у нас, но на сей раз ее сопровождала дама, уже прежде приходившая навестить больную вместе с господином Жийяром в Мариинской больнице. Это была Шура, которую так ждала больная.
Шура была страшно взволнована. Она подошла к постели своей бывшей воспитанницы и с улыбкой обратилась к ней по-русски:
— Как вы себя чувствуете?
Великая княгиня наклонилась к ней и спросила мягко, будто желая ее подбодрить:
— Ну кто же это?
— Шура! — выдохнула она.
Мы все слышали это. Великая княгиня Ольга Александровна захлопала в ладоши и воскликнула с необычайной радостью:
— Верно, верно! Но теперь надо говорить по-русски: Шура по-немецки не знает ни слова.
Эта просьба, казалось, не слишком обрадовала больную. Она предложила ей сесть — опять на немецком — и не сводила с нее глаз. Затем она взяла свой флакон с одеколоном, вылила несколько капель Шуре в ладонь и попросила ее протереть свой лоб. Шура со слезами на глазах рассмеялась. Это был совершенно особенный жест, характерный только для великой княжны Анастасии Николаевны: она ужасно любила духи и иногда буквально “обливала ими свою Шуру”, чтобы та “благоухала, как букет цветов…”
Великая княгиня не раз говорила, что племянница ее похожа скорее на великую княжну Татьяну. Господин и госпожа Жийяр разделяли ее мнение. Великая княгиня призналась даже, что, если бы ей сказали, что перед нею была именно Татьяна, она поверила бы этому не задумываясь. Перед отъездом она беседовала с датским послом:
— Мой разум не позволяет мне поверить, что это Анастасия, но сердцем я чувствую, что это она. А поскольку я воспитана в религии, которая учит слушать прежде всего доводы сердца, а не рассудка, я не в силах оставить это несчастное дитя.
Прощаясь, великая княгиня Ольга нежно поцеловала больную в обе щеки и шепнула:
— Не стоит печалиться. Я буду писать, госпожа фон Ратлеф мне тотчас же ответит. Нужно только выздороветь, сейчас это самое главное.
Супруги Жийяр уезжали на следующий день. Госпожа Жийяр была совершенно растрогана и никак не хотела уходить от больной, которая совсем загрустила, видя, что все опять ее покидают. Госпожа Жийяр была безутешна; отойдя от кровати со слезами на глазах, она обняла меня и разрыдалась:
— Я так любила ее прежде, так любила!.. Почему же я и эту женщину люблю так же сильно? Если бы вы только знали, что творится сейчас в моей душе! Почему, скажите мне, почему я так полюбила эту бедняжку?..
Слова эти прекрасно выражают чувства, обуревавшие эту искреннюю женщину. Господин Жийяр, которому переживания жены показались излишними, прервал наше прощание.
Перед самым отъездом господин Жийяр и его супруга, беседуя с его превосходительством господином Зале, заметили:
— Мы покидаем вас в убеждении, что не можем определенно отрицать, что она — великая княжна Анастасия Николаевна.
Господин Жийяр обещал вернуться, когда больная совсем поправится и сможет лучше отвечать на его вопросы. Он просил меня постоянно держать его в курсе событий и заверил нас, что даже в Лозанне постарается выполнить все наши просьбы и поручения. Должно же, сказал он, когда-нибудь “разъясниться это странное дело”».
«Отчет» господина Жийяра об этой поездке противоречит приведенным выше воспоминаниям госпожи фон Ратлеф:
«В конце октября мы с женою снова отправились в Берлин и остановились, как и в первый раз, в датском посольстве, куда вскоре прибыла и великая княгиня Ольга (27 ноября 1925 года). В прошлое наше посещение, как вы помните, госпожа Чайковская не только не узнала нас, но даже приняла мою жену за великую княгиню Ольгу. На сей раз она явно знала о нас больше и ожидала нашего визита, что подтверждают некоторые строки из письма, адресованного мне датским посланником (оно датировано 16 октября 1925 года).
На следующий день по приезде в Берлин, не дожидаясь, пока приедет великая княгиня Ольга, я в одиночестве отправился в клинику, чтобы побеседовать с госпожой Чайковской Я нашел ее сидящей в кровати, она играла с подаренным ей котенком. Она подала мне руку, и я присел рядом. С этого момента и до тех пор, пока я не ушел, она не отводила от меня взгляд, но не промолвила ни слова — я настаивал напрасно — и никак не дала понять, что знает меня.
На другой день я опять появился в клинике, но усилия мои оставались столь же бесплодны, как и накануне. Госпожа Чайковская избегала отвечать на мои вопросы; стоило мне проявить настойчивость, как она откидывалась на подушки, закрывала глаза и повторяла одно: “Ich weiss nicht, ich weiss nicht!” (Я не знаю, не знаю!).
Великая княгиня Ольга и моя жена посетили наконец клинику в Моммсене; госпожа Чайковская очень мило встретила их, протянула им руки, но никто не заметил ни одного из тех неожиданных движений, которые диктует обычно нежность и которых можно было бы ожидать, будь перед нами действительно великая княжна Анастасия.
Впрочем, ни в этот, ни в последующие дни она ни разу не назвала их по имени. Великая княгиня Ольга, как и мы оба, не нашла ни малейшего сходства между больной и великой княжной Анастасией — исключение составлял лишь цвет глаз — и, как и нам прежде, эта женщина показалась ей совершенно незнакомой. Мы начали разговор с того, что попытались изъясняться с ней по-русски, но вскоре убедились, что, хотя она и понимает русский язык, правда, не без труда, но говорить сама не может. Что же касается английского и французского, то это и вовсе был бесполезный труд, и мы вынуждены были общаться на немецком. Мы не смогли скрыть изумления. Великая княжна Анастасия прекрасно говорила по-русски, довольно хорошо по-английски, сносно по-французски и совсем не знала немецкого. Госпожа Чайковская не могла недооценивать значения нашей встречи; она прекрасно знала, зачем мы прибыли, и, согласитесь, было бы странно, если бы она, владея хотя бы одним из этих языков, не пожелала продемонстрировать нам свои знания.
Что же касается великой княгини Ольги и моей жены, то ими руководили лишь жалость, которую вызывала несчастная больная, и опасение допустить ошибку, которую после уже невозможно будет исправить. Они показывали бедняжке фотографии, которые освежили бы ее память, будь это действительно Анастасия Николаевна. Мы привезли много снимков покоев императорской фамилии в Царском Селе, среди прочих там были фотографии спален императрицы и великих княжон: больная почему-то не узнала их. Когда она рассматривала снимок маленькой детской столовой, мы так и не добились от нее, где именно во дворце находится эта комната. (Эту же самую фотографию показывал ей два месяца назад господин Зале, и тогда госпожа Чайковская не вспомнила даже мою жену, сидящую за столом. А ведь до того самого дня, когда нас всех отправили в Сибирь, великие княжны каждое утро завтракали с моей женой в этой самой столовой!) Если бы госпожа Чайковская была Анастасией Николаевной, разве она колебалась бы хоть одно мгновение?
Мы показали ей множество фотографий, сделанных в Крыму и в тринадцатом году во время путешествия императорской семьи по Волге, по случаю трехсотлетия дома Романовых. Эта поездка была необычным событием в довольно однообразной жизни великих княжон: они впервые видели живописные края, ставшие когда-то колыбелью великой династии, впервые их взорам предстала Волга, река, воспетая всеми русскими поэтами, им в первый раз довелось провести столько времени в дороге, путешествуя не на привычном для них “Штандарте”. Ни один из снимков не вызвал отклика в памяти госпожи Чайковской. Единственное, что удивляло нас, это та уверенность, с которой она находила на любой фотографии членов царской семьи: самого императора, императрицу, наследника и великих княжон.
Здесь следует рассказать об одном событии, которое поможет наконец внести ясность в это необыкновенное дело. Полковник Куликовский, сопровождающий великую княгиню Ольгу в Берлин, узнал от одного из своих старых сослуживцев, господина Баумгартена, что между 1922 и 1925 годами госпожа Чайковская не раз бывала в русских эмигрантских обществах. Эта новость нас удивила, и мы с господином Куликовским решили разыскать людей, знавших ее раньше. Господин Баумгартен любезно познакомил нас с М.Н. Швабе, одним из своих друзей, и с его супругой.
Для нас, почти незнакомых с прошлым госпожи Чайковской, эта встреча была настоящим откровением. От четы Швабе мы узнали, что она долгое время жила у барона фон Кляйста, русского эмигранта, уроженца одной из прибалтийских провинций, который сперва поверил, что и впрямь имеет дело с великой княжной Анастасией. Госпожа Чайковская общалась со многими русскими, среди прочих — с госпожой Толстой и ее детьми. Что касается госпожи Толстой, то до революции она жила в Царском Селе, и дети ее, с необычайной любовью относившиеся к наследнику и великим княжнам, не раз встречали их во время прогулок в парке. Несомненно, что госпожа Чайковская могла узнать от Толстых множество деталей, касающихся жизни императорской семьи в Царском Селе.
В то время, то есть между 1922 и 1925 годами, здоровье госпожи Чайковской было несравненно лучшим, чем нынче, она много гуляла по городу, даже делала покупки и часто навещала супругов Швабе, к которым была нежно привязана. У них она могла увидеть много всего относящегося к царской фамилии: фотографии, фотокопии, брошюры и еженедельники — словом, всю огромную коллекцию материалов, собранную господином Швабе для журналов, которые он издает (чтобы заработать кусок хлеба, он открыл в Берлине небольшую типографию). Она часами разглядывала снимки членов императорской семьи, которые неблагоразумно приносили ей люди, окружавшие ее, и постепенно научилась узнавать эти лица на любой фотографии.
Госпожа Швабе тоже поведала нам много весьма интересных деталей, которые у нее была возможность наблюдать во время частых визитов госпожи Чайковской. Вначале она искренне была уверена, что “незнакомка” — и впрямь та, за которую себя выдает, но вскоре ее начали мучить подозрения, постепенно убедившие ее в обратном. Теперь у нее не осталось сомнения в том, что госпожа Чайковская явилась не из России, что она никогда не была православной: об этом красноречиво свидетельствует множество эпизодов, которые она пересказала нам и которые мы не приводим здесь лишь из соображений лаконичности.
Супруги Швабе рассказали нам, что недостающие зубы госпожи Чайковской — результат посещений дантиста в Дальдорфе, а отнюдь не ударов прикладами во время страшной екатеринбургской ночи, как утверждала госпожа фон Ратлеф. Но самое главное, что удалось нам узнать, была история со словечком “Schwibs”, столь удивившим нас в устах больной. Услышала она его впервые следующим образом.
В 1922 году в Берлин прибыл П. Булыгин, бывший русский офицер, ездивший в 1918 году по поручению великой княгини Ольги в Сибирь в надежде разыскать сведения об императорской фамилии; в качестве пароля великая княгиня и назвала ему это домашнее прозвище. Булыгин, коротко знакомый со Швабе, часто рассказывал им о своем сибирском путешествии. Познакомившись с госпожой Чайковской, они попросили своего друга назвать им какую-нибудь характерную деталь, чтобы испытать “незнакомку”, и Булыгин рассказал им об этом прозвище. Что же касается госпожи Чайковской, то она так и не сумела ответить на этот вопрос, и госпоже Швабе пришлось слог за слогом открыть ей прозвище…
В тот же день, вечером, мы все, вместе с господином Зале и его супругой, ужинали в посольстве, и я решил воспользоваться случаем, чтобы познакомить великую княгиню со всеми новостями, которые узнал за сегодня. Господин Зале нашел, что мой излишне красочный рассказ мог неблагоприятно повлиять на слушателей, и заметил мне, что я явно вышел за рамки своей роли простого свидетеля, поспешив сделать выводы из еще не проверенных фактов. Но господин Куликовский поддержал меня, посоветовав великой княгине самой выслушать мнение госпожи Швабе. Остановились мы на том, что за ней пошлют, и через час госпожа Швабе повторила, на сей раз в присутствии великой княгини, супругов Зале и моей жены все столь важные подробности, которые мы узнали от нее чуть раньше.
На следующий день мы снова отправились в клинику, чтобы расспросить больную еще раз. С тем, чтобы проверить то, что узнал накануне, я попросил госпожу Ратлеф о небольшой услуге, цели которой намеренно не стал ей сообщать, а именно: зарисовать расположение зубов госпожи Чайковской. Любому, взглянувшему на этот рисунок, сделалось бы понятно, что недостающие зубы не были выбиты ударом: в этом случае их не хватало бы лишь в каком-то одном месте; у больной же они отсутствовали то здесь, то там по всему ряду.
В этот раз мы показали госпоже Чайковской брошь, подаренную моей жене императрицей в 1913 году во время празднования трехсотлетия дома Романовых. Сколько мне помнится, Анастасия Николаевна сама должна была выбрать ее по просьбе матери и всякий раз после бывала очень рада, когда видела ее на моей жене. Мы даже сделали госпоже Чайковской небольшую подсказку, назвав даты 1613–1913, но украшение ничего не напоминало ей; она вернула его нам, проявив к нему совершенно никакого интереса.
Последнее, что мы решились сделать, это показать ей маленькую серебряную иконку святого Николая. Императрица подарила ее моей жене в память происшествия на “Штандарте” возле финских фьордов 29 августа 1907 года. Великим княжнам она тогда же надела в точности такие иконки, и они всегда носили их при себе. Когда госпожа Чайковская прочла число, выгравированное на обратной стороне, мы спросили ее, знает ли она, что оно означает, и доводилось ли ей прежде видеть что-то подобное, но так и не добились вразумительного ответа…
Итог нашего расследования был сугубо отрицателен: мы совершенно уверились в том, что перед нами чужой человек, и впечатление это лишь усиливалось тем немаловажным обстоятельством, что больная так и не сумела ничего поведать нам о жизни императорской фамилии.
С другой стороны, нам показалось, что госпожа Чайковская, к которой мы питаем вполне искреннее сочувствие, сама абсолютно убеждена в том, что она действительно Анастасия Николаевна. Итак, что же за создание было перед нами? Быть может, речь идет о каком-то случае психической патологии, о самовнушении больного человека, о сумасшествии, наконец?..
Великая княгиня Ольга уехала из Берлина 30 октября, а на следующий день отправились и мы, так как мой отпуск уже подходил к концу».
В том, что касается «дела Анастасии», и великую княгиню Ольгу, и супругов Жийяр, без преувеличения, можно упрекнуть в нерешительности. Тем не менее довольно странным выглядит их поведение в последующие месяцы.
Первой на сцене появилась великая княгиня Ольга. Она прислала «незнакомке» поздравление с Рождеством 1925 года, написанное, по словам госпожи фон Ратлеф, «весьма дружелюбно». В свертке, который был передан вместе с посланием, был жакет, связанный самой великой княгиней для больной. Жийяры тоже не забывали писать:
«Как дела в Берлине? Надеюсь, вы ведете себя разумно и едите как следует, чтобы хорошенько набраться сил, а не скармливаете свои обеды обжоре Кики, который готов поглотить все без остатка? Постарайтесь писать почаще — вы нас очень обяжете — и не сердитесь, если мои ответы слишком задерживаются».
14 декабря 1925 года Шура пишет:
«Передайте ей (больной. — Авт.), прошу вас, что не проходит и дня, чтобы я не вспоминала о ней и не посылала ей в душе самых сердечных приветов».
И опять Пьер Жийяр, 30 декабря 1925 года: «Как чувствует себя больная? Довольно ли у нее сил, чтобы начать вставать? Хочется верить, что она уже может отвечать на вопросы и что память ее стала лучше, а ответы более ясными и точными.
Моя жена была совершенно растрогана, получив открытку, которую вы прислали. Подпись и впрямь чрезвычайно напоминает подпись великой княжны Анастасии, когда ей было лет 13–14. Следовало бы узнать, доводилось ли больной встречать подпись великой княжны на какой-нибудь открытке или книге. Еще было бы замечательно, если бы она сама написала несколько строчек… Вы будете очень любезны, если передадите больной открытку, которую мы посылаем с этим письмом»…
27 января 1926 года: «То, что говорит больная о собственном полке великой княжны Анастасии, оказалось совершенно правильным…»
Этим письмом переписка вдруг обрывается. Больше от великой княгини Ольги или от Жийяров в Моммзенском санатории не получили ни одного письма.
Отчего так «резко все переменилось», как выразятся приверженцы Анни? Вот что говорит на сей счет Пьер Жийяр:
«С самого начала я допустил серьезную ошибку: я исправлял все оплошности, содержащиеся в письмах, приходивших ко мне. Через несколько месяцев я стал замечать по письмам моих многочисленных берлинских корреспондентов, что в городе сделались известны сомнительные откровения больной, но не те, которые получал я, а отредактированные и исправленные по моим же собственным указаниям! Но самое ужасное состояло в том, что в Берлине, как я узнал из письма господина Швабе от 9 января 1926 г., только и разговоров было, что о предстоящем выходе какой-то книжонки о госпоже Чайковской, где говорилось, что великая княгиня Ольга, моя жена и я единодушно опознали больную. Господин Швабе прибавлял, что к этой публикации причастен, кажется, доктор Руднев. Я тотчас же написал госпоже фон Ратлеф, что, если все, что я узнал, верно, я незамедлительно опубликую в прессе категорическое опровержение. Угроза возымела действие: я получил от нее ответ, она утверждала, что ни Руднев, ни сама она ничего не знали о готовящейся публикации, и умоляла не предпринимать никаких решительных действий. Я понял, что удар попал в цель: и впрямь, после уже и речи не было ни о каких брошюрах…
С этого времени письма госпожи Ратлеф приходили все реже и наконец совершенно прекратились месяца два спустя, в июне 1926 г.»
Около того же времени датский посол господин Зале обратился к господину Жийяру с просьбой изложить полностью свое мнение о деле незнакомки. Письмо Пьера Жийяра к дипломату было весьма категорическим. Вот его финал:
«Заканчивая это длинное письмо, я могу лишь еще раз подписаться под тем, о чем уже говорил вам в своем письме от 3 февраля 1926 г., а именно, что если бы меня попросили высказать свое суждение, то я, не колеблясь, ответил бы, что больная — совсем не та, за кого себя выдает».
Это письмо положило конец участию Пьера Жийяра в деле госпожи Чайковской…
Точку в этой истории поставил Гамбургский процесс 1961 года. Рискнем в последний раз утомить внимание читателя цитатой.
«Суд пришел к выводу, что госпожа Андерсон не может претендовать на титул великой княжны по следующим соображениям:
1. Истица отказалась от медицинской и лингвистической экспертиз, на проведении которых настаивал суд;
2. Судебный референт, знающий русский язык, не смог засвидетельствовать, что она когда-либо владела им;
3. До 1926 года истица говорила лишь по-немецки; славянский акцент, по утверждениям свидетелей, появился значительно позже, примерно в то же время, когда она выучила английский язык,
4. Ни один из свидетелей, лично знавших Анастасию, не опознал истицу; последняя тоже не сумела однозначно вспомнить никого из свидетелей;
5. Воспоминания, которым она придает столь важное значение, вполне могли быть заимствованы из обширной литературы, посвященной истории императорской фамилии;
6. Графологическую и антропологическую экспертизы по ряду причин следует считать неудовлетворительными.
Суд постановил, что ГОСПОЖА АНДЕРСОН НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ИМЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ АНАСТАСИИ».
Что ж, поставим точку и мы.
ПРОПАВШАЯ СВЯТЫНЯ: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
(Материал Н. Кривцова)
Есть в Португалии небольшой городок — Фатима. В туристических путеводителях он отмечен как одно из важнейших паломнических центров всего Пиренейского полуострова. Но удивительно то, что, оказывается, святыня в Фатиме непосредственно связана с Россией, а главное — и об этом не пишут никакие путеводители! — с католическим храмом соседствует православный, который вплетен в историю одной из самых загадочных пропаж XX века…
…Обогнув справа храм и пройдя несколько десятков метров по парку, вдруг увидел поднимающуюся из-за деревьев православную луковку. А через пару минут передо мной предстала и церковь — судя по архитектуре, не очень давней постройки. Точнее не церковь, а довольно внушительное здание, над центральной частью которого и красовался купол-луковка. Неподалеку от него, на крыше, в небо смотрела тарелка спутниковой антенны.
— Это здание «Голубой дивизии», — объяснила гид.
Что за «Голубая дивизия»? Откуда православный храм в паломническом центре католиков? Вопросы, увы, оставались пока без ответов.
Мы прошли внутрь. На втором этаже, под куполом, помещалась церковь. Действительно православная. Среди икон я нашел образ преподобного Германа Аляскинского, канонизированного русской зарубежной православной церковью и наиболее почитаемого в Америке. Больше ничего узнать о храме не удалось: коридоры и лестницы здания были пустынны, а внизу, в холле, у киоска, где продавались иконки, открытки, религиозная литература и видеокассеты, висела табличка: «Буду через полчаса».
Но прежде чем мы покинули храм, гид поведала мне самое удивительное: долгие годы, до недавнего времени, здесь хранилась подлинная икона Казанской Богоматери, считающаяся пропавшей уже много десятков лет! Позже эту информацию мне подтвердил и португальский журналист Жозе Мильязеш Пинту, много лет проведший в России и хорошо знающий нашу страну. Жозе еще сам видел икону в Фатиме — старинную, в дорогом золотом окладе, украшенном драгоценными камнями…
…В 1579 году в Казани, которая лишь совсем недавно была отвоевана у татар, разразился мощнейший пожар, истребивший значительную часть города. Недалеко от того места, где начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший вместе с другими. Когда стрелец хотел приступить к постройке нового дома на пепелище, его девятилетней дочери Матроне явилась во сне Божья Матерь и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтоб они взяли икону Ее из недр земли, и указала ей место на пепелище сгоревшего дома, где икона скрывалась. Девочка сначала никому о своем сне не говорила, потом сказала матери, но та не обратила внимания на слова ребенка. Когда же сон повторился в третий раз, Матрона все-таки заставила свою мать прислушаться. И 8 июля Матрона на пепелище нашла икону, на которую ей указала Божья Матерь.
Икона была завернута в рукав ветхой одежды, но при этом сама совсем не пострадала. С иконы сняли список и послали царю Ивану Грозному, который повелел на месте обретения иконы основать женский монастырь…
С той поры икона находилась в Богородицком монастыре в Казани, инокиней которого стала нашедшая ее Матрона. Поначалу икона была чтима лишь как местная. Но в 1611 году, в Смутное время, ее список приносили из Казани в Москву вместе с казанским ополчением в стан князя Дмитрия Пожарского по распоряжению патриарха Гермогена (на следующий год погибшего мученической смертью и причисленного впоследствии к лику святых). 22 октября 1612 года этот список находился у Дмитрия Пожарского во время сражения с поляками. Князь, как известно, одержал победу, и царь Михаил Федорович велел чествовать чудотворную икону дважды — 8 июля, в день ее обретения, и 22 октября, в день связанной с ней победы русского оружия.
Оригинал же иконы так и оставался в казанском Богородицком монастыре, став на три века важнейшей святыней не только города, но и России. Паломники со всей страны специально приходили в Казань поклониться святому лику, который продолжал творить чудеса.
Еще при Иване Грозном икону одели в ризу червонного золота, а Екатерина II в 1767 году при посещении Богородицкого монастыря надела на икону бриллиантовую корону. Вельможи и купцы соревновались в украшении иконы драгоценными камнями и жемчугами…
Но 29 июня 1904 года икона пропала. С этого момента и начинается удивительная история ее поисков, неожиданных ее появлений в различных местах, мистификаций и загадок.
Дело о пропаже и поисках иконы Казанской Богоматери — одно из самых известных в российской дореволюционной криминалистике. Расследование с перерывами велось более десяти лет. В архиве Департамента полиции хранилось два обширных тома «О похищении в Казани из девичьего монастыря чудотворной иконы Казанской Божией Матери», которые охватывают период 1910–1917 годов.
Пропажа иконы взбудоражила всю страну и обсуждалась на самом высоком уровне, вплоть до императора Николая II. В томах дела масса писем и телеграмм от таких людей, как председатель совета министров Столыпин, министр юстиции Щегловитов, министр внутренних дел Хвостов, директор департамента полиции Виссарионов, член государственного совета, камергер двора князь Ширинский-Шихматов, московский генерал-губернатор Гершельман, князь Оболенский, начальник московской сыскной полиции Кошко, великая княгиня Елизавета Федоровна, церковные иерархи…
Пропажу святыни обнаружили ранним утром 29 июня 1904 года. Дверь в храм была взломана, церковный сторож Захаров связан. Исчезли две иконы: Казанская Богоматерь и Спас Нерукотворный.
На ноги тут же была поднята полиция, и по горячим следам похититель был быстро найден. Им оказался Варфоломей Чайкин (известный еще как Стоян), крестьянин двадцати восьми лет, рецидивист и специалист по церковным кражам. В 1903 году он похитил из Спасского монастыря в Казани митру и другие церковные вещи, в Коврове из кладбищенской церкви — ризу с иконы, в 1904 году совершил кражи в Рязани, в Туле (тогда была похищена риза с иконы Казанской Богоматери стоимостью 20 тысяч рублей), в Ярославле. Причем самих образов он не крал, а лишь сдирал с них ризы. И на этот раз он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжег в печи.
25 ноября 1904 года начался судебный процесс. На нем было шесть подсудимых: сам Чайкин-Стоян и некто Комов — виновники кражи, церковный сторож Захаров, которого подозревали в соучастии, ювелир Максимов, обвинявшийся в содействии и скупке золота и жемчугов с икон, сожительница Чайкина Кучерова и ее мать Шиллинг, которых обвиняли в укрывательстве виновников кражи и похищенных ценностей.
Примечательно, что Чайкин на предварительном следствии отрицал уничтожение икон. Но сожительница, ее малолетняя дочь и мать показывали, что видели, как он разрубал иконы на щепки и сжег в печи. При обыске в печи были действительно найдены 4 обгорелые жемчужины, загрунтовка с позолоты, 2 проволоки, 2 гвоздика, 17 петель, которые, по показаниям монахини-свидетельницы, находились на бархатной обшивке иконы. По показаниям Шиллинг, пепел от икон был брошен в отхожее место, где и был найден полицией.
В итоге Чайкину дали двенадцать, а Комову — десять лет каторги, Максимову — два года и девять месяцев исправительных арестантских отделений, Кучеровой и Шиллинг — пять месяцев и десять дней тюрьмы. Захарова оправдали.
Однако поиски иконы и проработка других возможных версий продолжались. Уж больно большую ценность для всех россиян имела знаменитая икона, не говоря уж о стоимости ее оклада, уж больно мощный резонанс вызвало это похищение. Тем более что помимо следов сожжения иконы и некоторых деталей оклада, а также показаний подсудимых, никаких других свидетельств у полиции не было. Стоит также помнить, что похищены были две иконы, и пепел мог принадлежать лишь одной из них — менее ценному Спасу Нерукотворному. К тому же оклады обеих икон найдены так и не были. Поэтому возникла версия, что икону Казанской Богоматери Чайкин за огромную сумму перепродал старообрядцам — они действительно занимались широкой скупкой дониконовских икон, в частности брали их из старинных московских храмов во время разорения Москвы в нашествие Наполеона.
12 ноября 1909 года в недрах полиции появился секретный доклад. В Казань был послан специальный чиновник, так как до министерства дошли «серьезные сведения о сохранности чудотворной иконы Казанской Божией Матери». Товарищ министра внутренних дел Курлов отстранил казанского губернатора и начальника казанского жандармского управления от розыска, доверив его автору доклада Прогнаевскому. А Кошко направил в помощь ему двух самых опытных агентов. Один из них и доложил о продаже иконы старообрядцам.
Чайкин в то время находился в тюрьме в Ярославле. К нему подослали шпионов, через которых полиция надеялась узнать о местонахождении святыни. Но он теперь лишь твердил о сожжении иконы, а не о продаже. Однако слухи о возобновлении следствия расходились уже по всей империи, причем не минуя и тюрем.
И вот неожиданно иеромонах Иллиодор получает из саратовской тюрьмы от арестанта Кораблева письмо, в котором тот говорит, будто знает, где находится икона. Иллиодор тут же докладывает об этом епископу Саратовскому Гермогену, который вступает в контакт с Кораблевым.
Кораблев сообщает, что икона якобы действительно находится у старообрядцев, и обещает помочь ее вернуть. Он даже намекает на то, что, возможно, для ее вызволения придется пойти на преступление, но он готов на все, если ему смягчат участь и переведут в другую тюрьму, где он смог бы вступить в контакт с другими участниками «дела». Однако если отцы Гермоген и Иллиодор верят Кораблеву, опытный в делах сыска Прогнаевский вскоре убеждается, что никаких данных у арестанта нет, а он просто хочет организовать побег.
Но у «версии» Кораблева находятся влиятельные сторонники. Гершельман, например, говорил о возможности смягчения участи Кораблева даже на аудиенции у Николая II. Но самое примечательное: он считал, что «важно восстановить святыню», так как для церкви и православных «не так важно, будет ли получена действительно украденная икона или какая-нибудь другая».
Тем не менее после заключения Прогнаевского вновь начинается следствие. На этот раз уже в Санкт-Петербурге — к этому времени Чайкин находится в знаменитой Шлиссельбургской тюрьме.
Известный криминалист Михаил Гарнет, автор многих работ по истории русской криминалистики, считал, что доказательства сожжения Чайкиным иконы неоспоримы. По его мнению, это подтверждается показаниями осужденного на допросе в Шлиссельбурге 29 июня 1912 года. Чайкин тогда говорил: «Мне ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут».
Однако поиски иконы продолжались. И тут возникает «дублер» Кораблева — каторжанин читинской тюрьмы Блинов. Причем все идет по тому же сценарию. Блинов просит о смягчении участи, о переводе в другую тюрьму. Его версию поддерживают епископ Читинский Иоанн и даже великая княгиня Елизавета Федоровна, которую ставят в известность о предложениях арестанта и которая через посредников вступает в переговоры с вором. В 1915 году, несмотря на уже идущую мировую войну, в Курске проводится специальное совещание по разработке новой версии. Однако следователи обнаруживают, что Кораблев лишь хотел сделать копию и выдать ее за настоящую икону, и его снова заковывают в кандалы. Окончательной правды не удалось добиться и от Чайкина.
Так поиски пропавшей иконы в России ни к чему не привели. А затем началась революция, гражданская война. Было уже не до иконы…
Была ли сожжена икона? Если нет, где она находится? А если была действительно уничтожена Чайкиным, то куда делась ее драгоценная риза? Эти вопросы так и оставались без ответа многие годы. Конечно, специализация Стояна на похищении одних лишь окладов, показания его самого и свидетелей подтверждают версию об уничтожении иконы. Но, с другой стороны, прожженный рецидивист прекрасно понимал, что стоимость самого образа гораздо выше стоимости ее ризы. И в уничтожение им святого лика только по «идейным соображениям» верится с трудом.
Если же икона Казанской Богоматери была на самом деле сожжена, то какой же образ висел в Фатиме? Подделка? А может, старинный список?
Действительно, проследить возможный путь иконы из России в Португалию было бы гораздо проще, если бы с нее еще в XVI – самом начале XVII века не было сделано несколько списков, причем следы некоторых из них тоже теряются.
Вспомним, что сразу по обретении иконы в Казани с нее был сделан список и отправлен Ивану Грозному. Известно также, что в Москву к Дмитрию Пожарскому в 1611 году вместе с казанским ополчением попал другой список из Казани. После решающей победы над поляками он принадлежал князю Пожарскому и находился в его приходской церкви — Введения на Лубянке, а в 1633 году был собственноручно перенесен князем в Казанский собор на Красной площади. Значит, в начале XVII века в Москве было уже два списка чудотворной иконы.
Как повествует церковная литература, икона Казанской Богоматери, перенесенная из Казани в Москву в 1579 году (вероятно, тот самый список, сделанный сразу по обретении иконы), оставалась там до 1721 года. Тогда, по воле Петра I, она была перенесена в Петербург, во временную каменную церковь, которая стояла на месте нынешнего Андреевского собора на Васильевском острове, а оттуда — в Троицкий собор, что на Петербургской стороне. В правление Анны Иоанновны был возведен деревянный храм в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте около нынешнего Казанского собора. Туда в 1737 году и перенесли икону, украшенную по распоряжению императрицы драгоценными камнями. Со времен Павла I собор именовался Казанским. 15 сентября 1811 года, по сооружении нового здания собора (ныне существующего), икона была перенесена и помещена в его иконостас. Известно также, что императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна прибавили к окладу иконы много драгоценных камней и жемчуга, а от великой княгини Екатерины Павловны получен в дар редкой величины синий яхонт.
В книге Семена Звонарева «Сорок сороков» говорится, что «петербургский» список в начале XIX века был сделан с иконы, хранящейся в Казанском соборе Москвы, специально для Казанского собора в «северной столице». А значит, сам список, сделанный для Ивана Грозного, оставался в первопрестольной.
Но какая бы икона ни попала в Петербург — оригинал, выполненный в 1579 году для Ивана Грозного, или список с принадлежавшего Пожарскому образа, который был сделан в начале XIX века, — не вызывает сомнений одно: этот образ после закрытия Казанского собора на Невском проспекте был перенесен во Владимирский храм, Действующий и по сей день.
А что же стало с иконой, находившейся в Казанском соборе в Москве? После закрытия собора на Красной площади его храмовый образ был сначала передан в Богоявленский собор в Дорогомилове (ныне разрушен), а из него после закрытия и этого храма в 1930-е годы икона пропала…
Любопытно, что в Москве, в Богоявленском соборе в Елохове, ныне имеется еще один список Казанской иконы, также находившийся в казанском ополчении в 1612 году.
Разобраться во всем этом довольно сложно, так как в церковной литературе списки тоже называют «чудотворными иконами», и понять, идет ли речь об оригинале или о копиях, невозможно.
Наверняка же известно следующее. Список, сделанный для Ивана Грозного (1579 год), либо находится в Петербурге, либо он пропал. Один список (не позднее 1611 года), прибывший в Москву с казанским ополчением, находится в Елоховском соборе в Москве. Другой список (не позднее 1611 года), также из ополчения князя Пожарского и хранившийся в Казанском соборе в Москве, утерян. Соответственно, мы имеем дело не с одной пропажей: в 1904 году в Казани исчез оригинал, в 1930-е годы в Москве исчез список, находившийся в Казанском соборе. Возможно, исчез (правда, неизвестно когда и где) и самый первый список, выполненный в 1579 году. Значит, если Чайкин сжег оригинал, то в Фатиме мог объявиться один из старинных списков. Так что надо искать следы не одного, а нескольких образов. А раз так, то легче вести поиски с конца, то есть из Фатимы.
Время пропажи одного из старинных списков иконы Казанской Богоматери — 1930-е годы — невольно наталкивало на мысль о возможной причастности к появлению образа на Пиренейском полуострове известного коллекционера Калюста Гульбенкяна, музей имени которого является важнейшим художественным музеем Португалии. Дело в том, что в конце 1980-х годов в журнале «Огонек» появилась большая статья о художественных ценностях, проданных в 1920–30-е годы из советских музеев за рубеж, в которой говорилось и о нефтяном магнате Калюсте Гульбенкяне.
Ссылаясь на монографию Джона Уокера о вашингтонской Национальной галерее, автор статьи в «Огоньке» пишет, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов Гульбенкян, иракский армянин, глава «Ирак петролеум компани», помог русским коммунистам реализовать на мировом рынке нефть и уговорил их продать ему ряд произведений искусства из Эрмитажа, чтобы увеличить запасы твердой валюты. Для этого он попросил одного молодого немецкого историка искусств быть его агентом по приобретению произведений искусства в СССР. Но тот от его предложения отказался.
Однако, говорится далее в статье, Калюст Гульбенкян успел кое-что приобрести и существенно пополнил основанный им в португальской столице культурный фонд — «своеобразный филиал Эрмитажа», открытый Гульбенкяном в 1930-е годы. Поэтому, подумал было я, не мог ли пропавший в 1930-е годы список какими-то путями оказаться в его коллекции в Лиссабоне, а уже оттуда перекочевать в Фатиму?
Однако оказалось, что статья в «Огоньке» содержит ряд существенных неточностей. А визит в Музей Гульбенкяна и наведение самых первых справок сразу разрушили эту версию. Музей Калюста Гульбенкяна в Лиссабоне является частью приватного фонда, созданного нефтяным магнатом, которому Португалия во время Второй мировой войны предоставила убежище и налоговые льготы. В благодарность за это Гульбенкян и передал приютившей его стране свои художественные коллекции и львиную долю своего несметного состояния в виде культурного фонда в 1955 году.
Таким образом в 1930-е годы «филиал Эрмитажа» в португальской столице Гульбенкян создать никак не мог. К тому же Гульбенкян, действительно покупая в Советской России произведения искусства, не ведал, что ему продают шедевры из музеев. И, узнав это, он отказался впредь приобретать картины в СССР. Об этом свидетельствует письмо, написанное Гульбенкяном 31 июля 1930 года Георгию Пятакову, главе Госбанка СССР: «Вы знаете, я всегда придерживался мнения, что вещи, которые многие годы хранятся в ваших музеях, не могут быть предметом распродаж. Они не только являются национальным достоянием, но и великим источником культуры и национальной гордости… Я искренне убежден, что вы не должны ничего продавать даже мне…»
Так что обвинения в адрес создателя богатейшего музея Португалии в заведомом опустошении художественных собраний России несправедливы. Любопытно, что текст этого письма цитируется и в «огоньковской» статье. Однако ее автор почему-то не берет его в расчет. Но для нашего розыска главное другое: Гульбенкяна интересовали произведения лишь классиков западноевропейской живописи и искусство Востока. В общем, как бы то ни было, икона Казанской Богоматери в Португалию попала не через Гульбенкяна. Но тогда как?
Поэтому я решил выяснить, что это за организация «Голубая дивизия», которая построила рядом с католической святыней православный храм, где икона и хранилась?
И тут мне помог Жозе Мильязеш Пинту. Прежде всего, он рассказал мне о православной церкви в Фатиме и «Голубой дивизии».
Оказалось, что «Голубая дивизия» — католическая организация антикоммунистической направленности, которая была создана после Второй мировой войны в США с целью препятствовать распространению коммунизма в мире. Особенно прочны ее позиции в Латинской Америке, а также Испании и Португалии. И на месте явления Божией Матери в Португалии — а данные Ею в 1917 году пророчества непосредственно касались судьбы России — «Голубая дивизия» и решила поместить знаменитую чудотворную икону из России. Свое здание в Фатиме «Голубая дивизия» построила в 1950-е годы, а православная церковь при нем, зовущаяся там «Византийской», была специально предназначена для знаменитой иконы. Так что икона попала в Португалию из США. И значит, в Америку ведут следы пропавшего образа из России.
Мильязешу Пинту удалось проследить и путь чудотворного образа из России в Фатиму. Согласно его данным, исчезнувшая в 1904 году икона с войсками Врангеля была перевезена в Крым, оттуда в Румынию, а затем оказалась в США. А там от русских эмигрантов икона и перешла к «Голубой дивизии».
История эта выглядит весьма правдоподобно, однако удивительно, как о столь знаменитой иконе не было ничего слышно несколько десятилетий!
Интересно, что в 1960-е годы из Англии поступили сведения, что у одного коллекционера обнаружена «древняя Казанская икона Богоматери, во многом походившая на подлинную». Ее — как говорится в книге «Сорок сороков» — перевезли в США, где архиепископ Сан-францисский Иоанн Шаховской попытался организовать сбор средств для приобретения святыни, но нужной суммы собрать так и не удалось. Как икона оказалась у коллекционера в Англии (говорят, он выставлял ее на знаменитой «Сотби») — информации об этом нет. Но главное, что и по этой версии Казанская Богоматерь оказалась в Америке! Но что это была за икона? Оригинал (уцелевший, а вовсе не сожженный Чайкиным)? Один из старинных списков? Подделка?
Относительно иконы, прибывшей из Англии, специалисты выяснили, что оклад ее — подлинный, с самого чудотворного образа из Казани, украденный Чайкиным, но сама она — замечательная копия XX века. О дальнейшей судьбе этого образа в книге «Сорок сороков» говорится следующее: «В конце концов икона была приобретена католической церковью и помещена в знаменитом месте явления Божией Матери в Португалии в 1917 году — Фатиме, в Восточном центре католиков».
Какая же из версий ближе к истине? Если верить Мильязешу Пинту, икона оказалась в Фатиме еще в конце 1950-х годов. В Англии же икона «всплыла» только в 1960-е годы. Причем и она якобы завершила свой путь в Португалии. Какая же все-таки икона попала на Пиренейский полуостров из США? Может, еще один «двойник»? Но как тогда быть с окладом висевшей в Фатиме иконы, который, судя по описаниям португальского журналиста, был старинным и, возможно, действительно принадлежал оригинальной иконе? Так что необходимо искать следы иконы все-таки в США 1950–1960-х годов.
Единственное, что можно сказать почти с уверенностью, — оклад иконы, хранившейся в Фатиме, был подлинный. Но насчет самой иконы ясности нет. Была ли это оригинальная икона из Казани, «московский» список из Казанского собора, пропавший в 30-е годы, или «прекрасная копия» XX века?
Дать ответ на этот вопрос было бы несложно, если бы можно было увидеть саму икону. Но она вновь исчезла из поля зрения. Правда, на сей раз это была уже не пропажа. И следы иконы не потерялись: она оказалась в Ватикане.
Как удалось выяснить Жозе Мильязешу Пинту, по условиям прежних владельцев иконы, она должна была вернуться в Россию после падения коммунистического режима. Возможно, икона и возвратилась бы после всех перипетий на родину. Однако возникло одно весьма существенное препятствие.
Кому возвращать образ? Русской православной церкви или Русской зарубежной православной церкви? К сожалению, обе церкви пока никак не могут прийти к согласию. Поэтому вместо России икона из Фатимы и была переправлена в Ватикан, где находится и по сей день. И когда Россия вновь обретет ее, так и неясно.
Так что по-прежнему судьба чудотворной иконы Казанской Богоматери окружена загадками. На многие вопросы могла бы пролить свет экспертиза «всплывавших» в Англии, в США, а затем и Португалии иконы и оклада, но до недавнего времени ни Ватикан, ни тем более такие организации, как «Голубая дивизия», не были доступны для наших специалистов. А нынешним (как и бывшим) обладателям святого образа, естественно, не очень бы хотелось, чтобы в результате экспертизы икона, вокруг которой в XX веке было столько шума, оказалась подделкой. Здесь будет уместно вспомнить, что еще в дореволюционной России имевший аудиенцию у Николая II московский генерал-губернатор Гершельман считал, что «важно восстановить святыню», и «не так важно, будет ли получена действительно украденная икона или какая-нибудь другая».
ОГНЕННЫЙ ШАР НАД КАЛУГОЙ
(Материал Г. Черненко)
В мае 1934 года Константин Эдуардович Циолковский совершенно неожиданно для себя заинтересовался одним замечательным небесным явлением. Правда, сам он его не видел, но собрал множество свидетельств и на их основании выдвинул вполне обоснованное предположение о произошедшем.
Поздно вечером 14 мая семнадцатилетний внук ученого Всеволод Костин, сидя на веранде у деда, вдруг заметил вдали огненный шар, стремительно летящий по небу. Пораженный зрелищем, юноша вскочил со стула и, не отрывая глаз, следил за движением странного небесного тела.
Местность вокруг ярко осветилась. От земных предметов поползли черные тени. Шар размером вполовину меньше Луны двигался в западном направлении наклонно к горизонту. Его ядро голубовато-зеленого цвета пульсировало, то расширяясь, то вновь сжимаясь. За шаром тянулся желтовато-красный прерывистый след и летели искры. Несколько минут спустя огненное тело будто рассыпалось, и все опять погрузилось в темноту.
С минуту юноша стоял в оцепенении. Придя в себя, он хотел было отправиться к Константину Эдуардовичу, который работал в своем кабинете, но раздумал, — не решился беспокоить деда в столь поздний час (было уже около полуночи). Рассказал он об увиденном лишь на следующий день.
Легко представить недовольство Циолковского «деликатностью» внука, лишившей ученого возможности наблюдать редчайшее явление. А оно чрезвычайно заинтересовало Константина Эдуардовича. Он долго расспрашивал внука, стараясь выяснить мельчайшие подробности происшедшего. Особенно интересовала его траектория движения шара относительно звезд. Это было важно для определения места возможного падения космического тела. По предварительному мнению Циолковского, в тот вечер в земную атмосферу ворвался гигантский метеор или болид.
Константин Эдуардович решил обратиться к очевидцам редкого явления через газету.
21 июня 1934 года в газете «Известия» появилась его заметка под названием «Кто видел болид?». Ученый писал в ней: «Диаметр болида был, по-видимому, не меньше 500 метров… Думаю, что его могли видеть в радиусе 200–300 километров от Калуги… Всех, видевших болид, прошу сообщить мне».
В июле Циолковский писал в Париж известному теоретику межпланетных путешествий А.Я. Штернфельду: «При сем прилагаю сведения о громадном болиде, пролетевшем над Боровском Калужской области. Получено мною о болиде 200 писем. Его видели в образе падающей звезды даже за 1000 километров от Москвы». Скоро число таких писем перевалило за полтысячи — с зарисовками, описаниями, уточнениями. Доцент Ленинградского астрономического института И.И. Путилин, видевший полет шара, будучи в Москве, уточнял в письме к Циолковскому: «Из Вашего описания в газете не ясно, был ли взрыв. Между тем мною взрыв был ясно виден, причем через 240 секунд донесся его звук».
Одних очевидцев поразило неожиданное появление шара и его слепящая яркость («будто свет вольтовой дуги»), других — радужность цветов в разные моменты — от голубого и зеленоватого в начале полета до оранжево-красного и лилового в конце. Третьи сообщали о грозной мощи громовых ударов и долгом рокочущем гуле. Одному из наблюдателей показалось, что шар состоял из 10–12 фрагментов. Циолковский тщательно изучил каждое письмо — почти на всех есть пометки ученого.
Материал был собран обширный, и на его основе Константин Эдуардович начал работать над большой статьей, которую назвал «О болиде 14 мая 1934 года». Проанализировав свидетельства очевидцев, он упомянул мнение старых людей, которые писали, что «никогда не видели ничего более грандиозного».
Метеор пролетел над всей Московской областью и даже за ее окраинами. Его видели в Рязани, Москве, Туле, Кашине, Торжке, Ржеве. Короче говоря, явление наблюдали даже на Украине и в Западной области, а освещение атмосферы — еще дальше, до Бессарабии.
Ученые, понятно, тоже не оставили явление 14 мая без внимания. Академия наук срочно направила в район Боровска специальную экспедицию. Возглавил ее известный специалист по метеоритам, уже дважды побывавший на месте Тунгусского взрыва 1908 года, Леонид Алексеевич Кулик. Обращаясь через местную газету к населению, он призывал лиц, наблюдавших падение шара, оказать содействие ученым. Узнав, что Циолковский также исследует это явление, Кулик написал ему письмо в Калугу: «Глубокоуважаемый тов. Циолковский. Вашу заметку я прочитал на ходу во время работы. Посылаю предварительную информацию в виде местного листка. О ходе дальнейшей работы буду уведомлять. Имеющиеся у Вас материалы не откажите сообщить мне, хотя бы в копиях. Я буду здесь на работе до середины июля. С искренним уважением к Вам, Л. Кулик».
Константин Эдуардович знал Кулика, прославившегося смелыми экспедициями к месту падения Тунгусского метеорита, и не мог не откликнуться на его просьбу. В письме Кулику он сообщил, что получил сотни свидетельств, и «по минованию в них надобности» пообещал все выслать в подлиннике. И выполнил свое обещание: наиболее важные свидетельства отправил в Ленинград, в метеоритный отдел Минералогического музея, который тогда возглавлял Л.А. Кулик.
Увы, результаты боровской экспедиции Кулика оказались неутешительными. Несмотря на упорные поиски, не удалось найти даже крохотного кусочка метеорита. Правда, среди жителей окрестных сел ходили слухи, что кто-то из крестьян якобы видел в заболоченной низине огромный шар, причем настолько горячий, что подойти к нему не было никакой возможности. Но слухи эти не подтвердились.
Поиски Кулик прекратил. Через год, в сентябре 1935 года, Константин Эдуардович Циолковский умер, так и не успев довести до конца исследование замечательного явления.
С тех пор прошло 70 лет. Космическое тело, по-видимому упавшее в глухих боровских лесах, не найдено до сих пор. Удастся ли его когда-нибудь найти?
КАТАСТРОФА САМОЛЕТА «МАКСИМ ГОРЬКИЙ»
(Материал В. Иванова)
В свое время в архивах было обнаружено предсмертное письмо летчика Николая Благина, пилотировавшего машину, которая врезалась в самолет «Максим Горький». Но эта находка только добавила новые вопросы о причинах аварии, случившейся без малого семьдесят лет назад, 18 мая 1935 года. На глазах у собравшихся на Центральном аэродроме москвичей самолет-гигант «Максим Горький» столкнулся в небе с сопровождавшим его легким самолетом. Обе машины рухнули на землю, унося с собой жизни десятков людей…
Известно, что накануне в качестве пассажира на новой машине А.Н. Туполева совершил полет известный французский летчик, а позже знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Он пришел в восторг от гигантской машины. В воскресенье намечалось совершить несколько «прогулочных полетов» для работников ЦАГИ, принимавших участие в создании самолета. Но полет обернулся трагедией. В катастрофе погибли все 11 членов экипажа и 36 пассажиров, среди которых были и дети. Погиб и пилот сопровождавшего лайнер тренировочного самолета.
В архиве «Правды» мне удалось разыскать подшивку номеров за май 1935 года. Номер за 19 мая открывался портретами погибших членов экипажа в траурной рамке. В сообщении ТАСС говорилось:
«Самолет “Максим Горький” совершал полет под управлением летчика ЦАГИ т. Журова, при втором пилоте т. Михееве, имея на борту пассажиров — ударников ЦАГИ в количестве 36 человек. В этом полете самолет “Максим Горький” сопровождал тренировочный самолет ЦАГИ под управлением летчика Благина. Несмотря на категорическое запрещение делать какие-либо фигуры высшего пилотажа во время сопровождения, летчик Благин нарушил этот приказ и стал делать фигуры высшего пилотажа на высоте 700 метров. При выходе из мертвой петли летчик Благин своим самолетом ударил в крыло самолета “Максим Горький”.
Самолет “Максим Горький” вследствие полученных повреждений от удара тренировочного самолета стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал на землю в поселке Сокол в районе аэродрома…»
Обратим внимание: катастрофа произошла в середине дня, а уже утром 19 мая в сообщении ТАСС однозначно возлагается вина на Благина. Но тогда же, сразу после трагедии в московском небе, возникло и другое предположение: Николай Павлович Благин не сам решился на выполнение фигур высшего пилотажа, а имел на это соответствующий приказ. Более того, говорили, что он был очень удручен этим распоряжением, так как сознавал всю опасность предлагаемого трюка. К этой версии мы еще вернемся, а сейчас — о неожиданной находке в архивных хранилищах. Находке, которую поспешили обнародовать под громким заголовком «Завтра я протараню самолет…».
В сообщении шла речь о предсмертном письме летчика Благина и именовалось оно не иначе, как «завещание». В действительности самого письма не обнаружено, есть только пересказ письма из варшавской газеты «Меч». Именно на основе этой газетной публикации и возникла новая версия происшедшего. Если принять ее, то оказывается, что катастрофа — не трагическое стечение обстоятельств, а сознательный акт возмездия. Вот что говорилось в письме, опубликованном от имени Благина.
«Братья и сестры, вы живете в стране, зараженной коммунистической чумой, где господствует красный кровавый империализм.
Именем ВКП (всероссийская коммунистическая партия) прикрываются бандиты, убийцы, бродяги, идиоты, сумасшедшие, кретины и дегенераты. Никто из вас не должен забывать, что эта ВКП означает второе рабство…
Братья и сестры, завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолет, который носит имя негодяя Максима Горького! Таким образом я убью десяток коммунистов-бездельников, “ударников”, как они любят себя называть, и которые на самом деле являются паразитами на теле народа…
Москва, 17 мая 1935 г. Николай Благин, летчик».
Казалось бы, вот разгадка той тайны, которую унес в могилу пилот! Однако не будем торопиться с выводами.
Что нам известно о летчике Благине? Известно, что в Красную армию он вступил добровольцем в октябре 1918 года. Страстно мечтал летать. Летом 1920 года Николай Благин оканчивает теоретические курсы при дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец», затем — Московскую школу авиации и Высшую школу военлетов. Дальше — обычная служба военного человека: переводы, назначения. Затем он оказывается инструктором 1-го разряда в НИИ ВВС, а в январе 1932 года переходит в ЦАГИ, где быстро становится одним из ведущих летчиков-испытателей туполевских самолетов.
Таковы некоторые черты биографии Николая Павловича Благина до того рокового дня, когда на своем И-5 он врезался в крыло «Максима Горького». Директор музея Владимир Бычков считает, что письмо — фальсификация, сочиненная в эмигрантских кругах. В этом смысле соблазн представить Благина как идейного врага советской власти вполне очевиден: Николай Павлович — выходец из дворянской семьи, его отец — полковник царской армии, кто-то из родственников был репрессирован, до революции Николай Благин учился в кадетском училище. Правда, в 1918 году он вступил в РКП(б), но в 1922 году из-за дворянского происхождения не прошел партийной чистки — тоже факт в пользу предлагаемой новой версии. Однако ни ветераны авиации, знавшие его лично, ни родные и близкие не допускают мысли, чтобы он мог пойти на такой шаг.
В одном из номеров «Правды» в те дни появляется короткая беседа с летчиком В.В. Рыбушкиным (оказывается, в воздухе в этот момент находился и его самолет) и несколько строк интервью с М.М. Громовым, который лежал в больнице и о случившемся узнал по радио. Рыбушкин поведал корреспонденту «Правды», что якобы перед вылетом второй пилот эскадрильи И.В. Михеев предупредил Благина: «Не вздумай фигурять, еще врежешься в мой самолет. Держись подальше». «Что я, маленький, — услышал он в ответ, — пятнадцать лет летаю…» М.М. Громов и вовсе отделался общими словами, сказав, что и Журов, и Благин оба его ученики, и что Благин представлял тип неорганизованного человека. «Правда, — поправился Громов, — в последнее время он подтянулся».
Дальше и вообще происходит нечто непонятное. Урну с прахом человека, повинного в гибели стольких людей, выставляют вместе с другими в Колонном зале Дома союзов. Сам Сталин стоит в почетном карауле. Потом — похороны на Новодевичьем кладбище, где урна с прахом Н.П. Благина замурована в одном ряду со всеми погибшими. Вдова и дочь Благина получают повышенную персональную пенсию…
Заметим: прошло уже более полугода со времени убийства Кирова, по всей стране нарастала волна террора. В тех же номерах «Правды» печатаются заметки с обращающими на себя внимание заголовками: «Приговор по делу о гибели танкера “Борис Шеболдаев”», «Дело врачей Арзамасской больницы». Могло ли случиться, что чекисты в этой ситуации не постарались разоблачить очередного «врага народа»?
В середине 1990-х годов в документальном вестнике «Источник» (приложение к журналу «Родина») были опубликованы новые документы о катастрофе «Максима Горького», в том числе и секретная записка на имя И. Сталина наркома внутренних дел СССР Г. Ягоды. Знакомство с ними еще больше усугубляет сомнения.
Если верить записке, то за час-полтора до полета в присутствии летчиков Рыбушкина и Журова (уже не Михеева, как утверждалось в интервью в «Правде», а Журова) работники Московской кинофабрики В. Ряжский, К. Тер-Оганесов и А. Пуллин сговорились с Благиным, что тот для киносъемки выполнит фигуры высшего пилотажа. Но если все было так, то почему тогда ни Журов, который, судя по записке, возражал против такого намерения, ни Рыбушкин не известили об этом свое непосредственное начальство?
В этой же записке упоминаются фамилии и начальника летно-испытательной станции ЦАГИ Чекалова и его помощника по летной части Козлова, которые, как пишет Ягода Сталину, проявили «преступно-беззаботное отношение». После такой квалификации действий лиц, непосредственно причастных к организации полетов, естественно ожидать, что на них обрушится жестокая кара. Но что читаем в записке Ягоды? «Нами привлечены к уголовной ответственности работники кинофабрики военно-учебных фильмов Ряжский В.Г. и Пуллин А.А…» По сути дела с тех, кто отвечает за летный состав, все переложено на посторонних людей, приглашенных лишь за тем, чтобы запечатлеть полет для эпохи…
Повторим: истину могут раскрыть только документы, которых не может не существовать. Другой вопрос: где искать эти материалы? Мои обращения в авиационные ведомства не навели на след. «Знаете, какие это были времена», — отвечали собеседники. Не лежат ли они в документах бывших КГБ и ЦК КПСС, которые вроде бы и рассекречены, но хранят в своих недрах еще немало неизвестных материалов?
СМЕРТЬ МАКСИМА ГОРЬКОГО
(Материал М. Ершова)
«Здесь медицина неповинна…» Именно так поначалу утверждали врачи Левин и Плетнев, проводившие лечение писателя в последние месяцы его жизни, а позднее привлекавшиеся в качестве обвиняемых на процессе «правотроцкистского блока». Вскоре, однако, они «признали» умышленно неправильное лечение и даже «показали», что их сообщницами были медицинские сестры, делавшие больному до 40 уколов камфары в сутки. Но как было на самом деле, единого мнения нет. Историк Л. Флейшлан прямо пишет: «Факт убийства Горького можно считать непреложно установленным». В. Ходасевич, напротив, верит в естественную причину смерти пролетарского писателя.
Как известно, приемный сын Горького, Зиновий Пешков, сделал во Франции блестящую военную и дипломатическую карьеру, что могло крайне неблагоприятно сказаться на его ближайших родственниках в стране Советов. Об этом и предупреждал Алексей Максимович в письмах к Зиновию, прибегая к «эзопову языку». Письма писатель не доверял почте, а передавал их с оказией — через журналиста Михаила Кольцова или через близких друзей, которым полностью доверял. В этих посланиях Горького чувствовался «страх смерти», — читаем в воспоминаниях Луи Арагона, ныне хранящихся в архивном фонде «Триоле — Арагон» в Париже. Однако подлинников писем и телеграмм Горького в этом архиве нет! Не обнаружено никаких следов их присутствия и в других писательских архивах. Некоторые исследователи полагают, что Горький хотел переслать друзьям во Франции и свой личный дневник. Однако этот дневник бесследно исчез, повторив судьбу многих его писем.
В посланиях к Арагону и Триоле писатель неоднократно торопил их с приездом в Москву, настойчиво звал в СССР для нужного и не терпящего отлагательства разговора. Какого? Этого нельзя было доверить письму, и, поняв это, в мае 1936 года Эльза и Луи отправились в СССР. Путь их пролегал через Лондон и Ленинград. В северной столице они задержались на некоторое время у Лили Брик. Задержка гостей в Ленинграде выглядела странно, поскольку в это время Алексей Максимович тяжело заболел. И тем не менее Арагон медлил. Создается впечатление, что он намеренно оттягивал день приезда в Москву и появился в столице, как свидетельствуют ранее известные документы, лишь 18 июня — в день смерти Горького! Однако в интервью газете «Правда», опубликованном 16 (!) июня 1936 года, Арагон говорил, что прибыл в Москву накануне, то есть 15 июня!
Официально сообщалось, что 1 июня Горький подхватил элементарный грипп, давший серьезные осложнения. Бюллетени о состоянии здоровья писателя публиковались на первых полосах «Правды» и «Известий» — факт небывалый даже для знаменитого писателя. Создавалось впечатление, что читателей «готовят» к самому худшему, хотя к этому, кажется, не было никаких оснований.
Были два периода улучшения состояния больного. Первый относится ко времени после посещения Горького 8 июня Сталиным, Молотовым и Ворошиловым. Как писал в те дни журнал «Колхозник», «Горький буквально встал из гроба…»
Второй раз больному вдруг стало лучше с 14 по 16 июня. Горький тогда встал с постели и, по свидетельству очевидцев, произнес: «Довольно валяться! Мне надо работать, отвечать на письма!» Он побрился, привел себя в порядок, сел за рабочий стол…
О том, что случилось в последующие два дня, известно мало, но факт остается фактом: у Горького резко ухудшилось самочувствие, и 18 июня в 11.10 утра он умер…
В 1938 году проходил уже упомянутый выше процесс «правотроцкистского блока», в котором в ряду других «врагов народа» фигурировал врач Плетнев. За «умышленно неправильное лечение» великого пролетарского писателя Плетнев получил солидный срок и был отправлен в воркутинские лагеря. Там в 1948 году он встретился с отбывавшей срок немецкой коммунисткой Б. Германд. Они нередко вели беседы, в которых касались обстоятельств смерти Горького. Б. Германд после освобождения рассказала об этих беседах в своих воспоминаниях. Из них следовало, что резкое ухудшение состояния здоровья Горького 17 июня произошло из-за того, что он попробовал… конфеты, подаренные ему Сталиным! Как известно, у Ягоды была специальная лаборатория, изготовлявшая различные яды… К слову, протокол о вскрытии тела Горького не упоминает «о проверке на отравление». Сохранилось свидетельство некоего А. Новикова, бывшего капитана НКВД, с которым разговаривал участник французского Сопротивления М. Браун, оставивший об этом разговоре запись в своем дневнике: «Когда я сказал, что вскрытие должно было обнаружить отравление, если применялись яды, Новиков только рукой махнул: “Ничего ты не понимаешь! Протокол о вскрытии был составлен раньше смерти Горького!”».
Рассказ о последних днях жизни писателя был бы неполным без упоминания женщины, последней видевшей живого Горького. Ее имя — Мура Закревская-Будберг. Она прожила с Алексеем Максимовичем целых 12 лет, из них 7 лет — за границей, причем он любил ее страстно и самозабвенно. Неудивительно, что писатель посвятил именно ей свой самый крупный роман «Жизнь Клима Самгина». Мура была допущена ко всем деловым и финансовым бумагам и к самым сокровенным архивам писателя. Трагедия заключается в том, что Мура была тесно связана с ВЧК, и каждый шаг Горького моментально становился известным властям. Эта женщина прожила долгую жизнь и скончалась в 1974 году, оставив после себя сотни заметок, рисунков, конспектов и рассказов о себе. Но ни одна из этих бумажек не приблизила исследователей к разгадке тайны гибели Горького, ибо Мура заблаговременно уничтожила весь свой личный архив…
Если принять версию умышленного убийства Горького по распоряжению Сталина, то возникает вопрос: зачем было ускорять смерть писателя, который поддерживал политику «вождя народов», одобрял процесс «Промпартии» в 1930 году, весьма положительно отзывался по поводу «принудительного труда во имя перековки»? Но, с другой стороны, именно Горький так и не написал биографию Сталина, хотя ему давали такое «партийное поручение» и предоставляли для этого все необходимые материалы. Писатель ослушался вождя, а это никому не прощалось! К тому же Горький хлопотал о публикации «Бесов» Ф.М. Достоевского и защищал репрессированных писателей и ученых.
Последствиями такого неповиновения стали отказ в загранпаспорте для поездки на лечение в Италию, установление цензуры на переписку с Роменом Ролланом, перлюстрация корреспонденции, адресованной писателю… «Окружили… Обложили… Ни взад, ни вперед! Непривычно сие!» — такое отчаянное признание вырвалось у Горького в одном из писем. Убийство Кирова стало событием, положившим конец надеждам на примирение власти с интеллигенцией и большевистской оппозицией. Массовые расстрелы, ссылки, ликвидация Общества старых большевиков и Общества политкаторжан, процессы над Зиновьевым и Каменевым, по-видимому, не могли не ложиться тяжелым грузом на сердце писателя…
Ромен Роллан в своем дневнике отмечал, что причиной безвременной и не вполне естественной смерти Горького был его высокий престиж на Западе. Этого мнения придерживались многие современники писателя. Даже «обвинитель» А.Я. Вышинский в своей речи признал это: «Враги народа не могли лишить Горького возможности вести активную политическую деятельность иначе, как остановить его жизнь!»
После смерти М. Горького против его сотрудников и ближайших сподвижников начались гонения и репрессии. А некто Г. Стецкий, державший под личным контролем переписку Горького и Ромена Роллана, был назначен председателем комиссии по литературному наследию писателя. Этот факт литературоведы и по сей день иногда именуют «второй смертью» великого писателя…
ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ АМЕЛИИ ЭРХАРТ
…Позади осталась большая часть кругосветного пути, но впереди ждало самое трудное — бросок через просторы Тихого океана. Летом 1937 года американская летчица Амелия Эрхарт совершала полет вокруг Земли. Она не была первой в этом нелегком и опасном предприятии. За 13 лет до нее группа американских летчиков уже выполнила воздушную кругосветку. Потом и другие пилоты (все американцы) летали вокруг планеты. Но то были летчики-мужчины. На этот же раз кругосветное путешествие по воздуху решила совершить женщина!
Амелия Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в семье адвоката. В юности работала медсестрой в военном госпитале, находившемся неподалеку от аэродрома. Это обстоятельство и сыграло в судьбе Амелии Эрхарт решающую роль. Вид взлетающих и садящихся самолетов очаровал 19-летнюю медсестру. Она решила стать пилотом. Тогда на свете было не так уж много летчиц. Теперь к ним прибавилась еще одна — Амелия Эрхарт. Начался ее головокружительный взлет в прямом и переносном смысле слова.
Летчики, знавшие Амелию, рассказывали о ее природном летном чутье. По натуре и по призванию Амелия Эрхарт была рекордсменкой и прямо-таки жаждала необыкновенных полетов и перелетов. Очень скоро она установила несколько женских рекордов, дважды пересекала по воздуху территорию США от океана до океана, совершила беспосадочный перелет из Мехико-Сити в Нью-Йорк, первой из женщин-пилотов поднялась на высоту более шести тысяч метров. Имя героической летчицы стало известно во всем мире.
Эрхарт признавалась, что больше всего она мечтает перелететь через Атлантический океан. Мечта ее сбылась в июне 1928 года. Летчица летела вместе со вторым пилотом Штульцем и бортмехаником Гордоном. Стартовав с острова Ньюфаундленд у восточного побережья Канады, их гидроплан через сутки опустился в Англии, в Уэльсе. Это был первый перелет женщины через Атлантику. Но для Амелии Эрхарт он стал лишь подготовкой к главному событию — перелету через Атлантический океан в одиночку. Произошло это в мае 1932 года. Отважная летчица поднялась в воздух (опять с Ньюфаундленда) на одномоторном самолете «Локхид Вега» и спустя 13,5 часов была уже в Англии.
Слава летчицы росла. А ее уже манил другой океан — Тихий. Теперь она задалась целью выполнить перелет, и тоже в одиночку, с Гавайских островов в Калифорнию, на расстояние без малого в четыре тысячи километров. Полет прошел благополучно, хотя на всем протяжении маршрута не было даже клочка земли для вынужденной посадки. До Амелии десяти американским летчикам подобная попытка стоила жизни, и лишь австралийцу Кингсфорду Смиту осенью 1933 года удалось преодолеть этот маршрут.
Что же дальше? Конечно же кругосветное путешествие. Эрхарт не сомневалась, что такой перелет ей по силам, хотя и сознавала всю его тяжесть.
Самолет Амелии «Локхид Электра» стартовал 18 марта 1937 года с аэродрома в Окленде. На этот раз вместе с Эрхарт летели еще два летчика. Первая посадка — на Гавайях. Но при взлете тяжело груженная машина «сковырнулась» на нос. Никто из экипажа, к счастью, не пострадал, но самолет вышел из строя. Пришлось возвращаться обратно.
Досадная неудача лишь укрепила намерение Амелии Эрхарт полететь вокруг планеты. На этот раз она решила направить свою машину не в западном, а в восточном направлении. Новый маршрут из Майами (штат Флорида) проходил через остров Пуэрто-Рико, бразильский порт Натал, потом — бросок через Атлантику в Сенегал, дальше — Египет, Индия, Сиам и северная оконечность Австралии, затем Новая Гвинея, остров Хауленд у самого экватора и, наконец, финиш в США.
В экипаж двухмоторного «Локхида-12А» входили два человека — сама Амелия Эрхарт и штурман Фред Нунеп, опытный воздушный навигатор. Стараясь максимально увеличить запас горючего, летчики отказались от резиновой лодки, парашютов, оружия, сигнальных ракет. Они стартовали 1 июня 1937 года и полетели на восток.
Только через месяц, со множеством промежуточных посадок, добрались до небольшого острова Леэ у Новой Гвинеи. Амелия Эрхарт писала мужу: «Все пространство мира осталось за нами, кроме последнего рубежа — океана». 2 июля Эрхарт и ее спутник снова поднялись в воздух. Через семь часов катер береговой охраны, дежуривший у Хауленда, получил сообщение из Сан-Франциско, что «Локхид» находится в полете. Поздно ночью, со 2 на 3 июля, Амелия Эрхарт впервые вышла в эфир: «Облачно. Погода ухудшается… Лобовой ветер». Слышимость была отвратительной, и некоторые слова разобрать не удалось.
Около восьми утра с борта «Локхида» поступило тревожное сообщение: «Мы где-то рядом, но вас не видим. Горючего осталось на тридцать минут. Высота 300 метров». Самолет находился в воздухе уже 18 часов. В последнем сеансе связи через 45 минут Амелия Эрхарт срывающимся голосом назвала свои координаты и прокричала: «Нас сносит на север!»