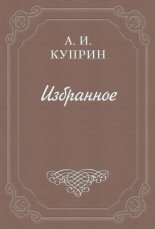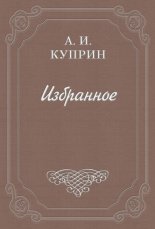365 лучших сказок мира Гауф Вильгельм

Мы сказали, что капитаны мы.
– Но вы стары, вы седы, – с удивлением произнес он, – а Максим уверял, что вы юноши, почти мальчики.
– Это было истиной несколько лет тому назад, – ответил Пертинакс. – Но скажи, какая ждет нас судьба, красивый и хорошо кормленный ребенок?
– Меня зовут Амброзий, я секретарь императора, – ответил он. – Покажи мне письмо, которое Максим написал вам в палатке при Аквиле, и тогда, может быть, я вам поверю.
Я достал пергамент с моей груди, и, прочитав его, Амброзий салютовал нам и произнес:
– Ваша судьба в ваших собственных руках. Если вы хотите служить Феодосию, он даст вам легион. Если вам больше хочется вернуться к себе домой, мы устроим вам триумф.
– Я предпочел бы получить не триумф, а ванну, вино, пищу, бритву, мыло, – со смехом ответил Пертинакс.
– О да, я вижу, ты – юноша, – проговорил Амброзий. – А ты? – обратился он ко мне.
– В нас нет злобы против Феодосия, но в войне…
– В войне действуют, как в любви, – сказал Пертинакс. – Хорош ли предмет, которому отдано сердце, или дурен, все лучшее посвящаешь только одному существу. Раз это так, то и говорить больше не о чем.
– Правильно, – согласился с ним Амброзий. – Я был с Максимом перед его смертью. Он сказал Феодосию, что вы не захотите служить другому императору, и, откровенно говоря, мне жаль Феодосия.
– Рим утешит его, – сказал Пертинакс. – Я прошу тебя милостиво позволить каждому из нас вернуться домой и перестать ощущать запах этого места.
Тем не менее нас почтили триумфом.
– По заслугам, – заметил Пек, бросая листья в воду торфяной ямы. Черные маслянистые круги стали быстро расходиться по ее темной поверхности, а дети задумчиво смотрели на них.
– Я хотел бы узнать еще о многом, – проговорил Ден. – Что сталось со старым Алло? Пришли ли когда-нибудь снова крылатые шлемы? Что сделал Амал?
– И что было с толстым, старым генералом, который возил с собою пять поваров, – прибавила Уна. – А что сказала ваша мать, когда вы вернулись домой?
– Она сказала, что вы слишком долго просидели над этой ямой, – произнес позади детей голос старого Хобдена. – Тсс, – шепнул он.
Он замолчал, всего шагах в двадцати от него сидела пушистая красивая лисица и смотрела на детей, точно их старый друг.
– О ты, рыжий, – прошептал Хобден. – Если бы я знал все, что хранится в твоей голове, я знал бы много интересного. Ну, мистер Ден и мисс Уна, пойдемте-ка; мне пора закрыть мой маленький курятник.
Галь-рисовальщик
Днем шел дождик, а потому Ден и Уна решили играть в пиратов на старой маленькой мельнице. Если не обращать внимания на крыс, снующих по стропилам под крышей, и на попадающую в чулки овсяную мякину, чердак мельницы со своими трапами, с рассказывающими о наводнениях надписями на балках, с вырезанными на стенах именами красавиц, – прекрасное место. Освещен он окошком величиной в квадратный фут, которое смотрит на ферму «Липки». Дети поднялись по чердачной лестнице (изображая в лицах балладу об известном английском пирате сэре Эндрью Бартоне, они всегда называли ее мачтой бизанью). Выйдя из люка на чердак, Ден и Уна остановились; близ окна сидел незнакомый им странный человек в колете цвета сливы, в таком же трико, склонившись над книгой с красным обрезом.
– Садитесь, садитесь, – закричал Пек с верхней балки. – Посмотрите, что значит быть красавцем! Сэр Гарри Доу – прошу прощения – Галь, – говорит, что моя голова годится для конца желоба, по которому с крыши стекает дождевая вода.
Человек в лиловом засмеялся и, взглянув на детей, снял с головы свою темную лиловую шапочку; они увидели его седые волосы, висевшие бахромой. Ему было, по крайней мере, сорок лет, но глаза его смотрели молодо и их окружали смешные тонкие морщинки. На широком поясе незнакомца висел расшитый шелком кожаный мешочек; странный человек показался детям очень интересным.
– Можно посмотреть, что вы делаете? – подходя, спросила его Уна.
– Конечно. Ко-не-ечно, – сказал он и снова взялся за свою работу; дети увидели, что он рисует карандашом с серебряным кончиком. Пек сидел неподвижно, и на его широком лице застыла улыбка. Несколько мгновений дети молча смотрели, как быстрые ловкие пальцы набрасывали абрис лица их друга. Вот человек вынул из сумки тростниковое перо, очинил его костяным ножичком в форме рыбы.
– О, какая прелесть, – произнес Ден.
– Осторожнее. Это лезвие очень острое. Я сам сделал его из лучшей стали, взятой мной из самострела народа низин. Рыбу тоже сделал я. Когда спинной плавник отодвигается к ее хвосту, рыба проглатывает лезвие, совсем как кит проглотил Иону… Да, да, вот это моя чернильница. Я поместил на ней четырех серебряных святых. Нажмите на голову Варнавы. Она откроется и тогда… – Он опустил в чернильницу перо и осторожно, но уверенно набросал черты сморщенного лица Пека, которые были только слабо намечены серебряным кончиком его карандаша.
Дети в один голос ахнули: с белой бумаги на них, как живое, глянуло лицо Пека.
Работая и слушая звук дождя, струившегося по черепицам крыши, рисовальщик говорил; иногда его слова звучал и отчетливо, иногда он бормотал что-то неразборчиво, иногда совсем замолкал и то хмурился, глядя на свою работу, то улыбался. Он сказал детям, что родился на ферме «Липки» и что отец часто бил его за то, что он рисовал, а не работал; наконец, старый священник, по имени отец Роджер, который расписывал красками и золотом большие буквы в книгах богачей, уговорил родителей рисовальщика отдать мальчика к нему в ученье.
После этого он вместе с отцом Роджером отправился в Оксфорд, где мыл посуду и подавал плащи и башмаки ученым в колледже Мертон.
– Разве вам это не было противно? – после многих других вопросов спросил его Ден.
– Я об этом не думал. Половина Оксфорда строила новые колледжи или украшала старые, и для этого были призваны художники и ремесленники со всего мира, короли своего дела и люди, почитаемые королями. Я был знаком с ними, я работал для них и считал, что этого для меня достаточно. Немудрено…
Он замолчал и засмеялся.
– Что ты сам сделался великим человеком, – сказал Пек.
– Так меня называли, Робин. Даже Браманте[10] сказал это.
– А почему? Что же вы сделали? – спросил Ден.
Художник посмотрел на мальчика странным взглядом и ответил:
– Разные разности из камня по всей Англии. Значит, ты не слыхал о них? Даже здесь, близ нашего дома, я выстроил маленькую церковь святого Варнавы; впрочем, она доставила мне больше забот и печалей, чем все остальные. Но благодаря ей я получил полезный урок.
– Гм, – произнес Ден, – сегодня утром у нас тоже были уроки.
– Я не буду тебя печалить, мальчик, – сказал Галь, не обращая внимания на громкий хохот Пека. – Только странно думать, что эта маленькая церковь была перестроена, покрыта новой крышей и стала нарядной, благодаря нескольким благочестивым суссекским литейщикам, кузнецам, молодому моряку, горделивому ослу, называвшемуся Галем-чертежником, потому что он постоянно рисовал и чертил и… – он замялся, – и шотландскому пирату.
– Пирату? – повторил Ден и завертелся, как рыба на крючке.
– Да, да, церковь помог выстроить сэр Эндрью Бартон, тот самый пират, о котором вы пели на лестнице. – Он снова опустил перо в чернильницу и, затаив дыхание, нарисовал круг, словно позабыв обо всем остальном на свете.
– Пираты не строят церквей, правда? – спросил Ден. – Или строят?
– Иногда они оказывают большую помощь строителям, – со смехом проговорил Галь. – Но ведь вы сегодня учились?
– О, о пиратах нас не учат, – сказала Уна. – А почему сэр Эндрью Бартон помог вам?
– Я не знаю хорошенько, знал ли он, – заметил Галь, блестя глазами, – что помог мне. Робин, скажи, могу ли я рассказать этим невинным душам, что может явиться следствием греховной гордости?
– О, об этом мы знаем, – храбро сказала Уна. – «Если возгордишься, тебя непременно посадят на место».
Галь молчал, Пек проговорил несколько непонятных детям длинных слов.
– Ага, так было и со мной, – сказал Уне художник. – Я очень гордился такими вещами, как портики; например, галилейский портик в Линкольне; гордился, что Ториджиано положил руку на мое плечо; гордился полученным мной рыцарским званием после того, как я сделал позолоту для «Государыни», корабля нашего короля. Но сидевший в мертонской библиотеке отец Роджер не позабыл обо мне. Когда я, в разгаре моей гордости, получил приказание выстроить портик в Линкольне, он сурово велел мне вернуться к моей суссекской глине и за собственный счет перестроить церковь, в которой в течение шести поколений хоронили моих предков Доу. «Сын моего искусства, – сказал он. – Сражайся с дьяволом дома; это важнее, чем называться художником». – И я поехал… Ну, как тебе это нравится, Робин? – и он показал Пеку законченный набросок.
– Вылитый я, – сказал Пек, поворачиваясь перед рисунком, точно перед зеркалом. – Ах, смотрите. Дождь-то ведь прошел. Я не люблю сидеть дома в хорошую погоду!
– Ура, праздник! – крикнул Галь и соскочил с места. – Кто идет ко мне в «Липки»? Там мы можем поговорить.
Все сбежали с лестницы, прошли под ивами, ронявшими дождевые капли, и повернули к залитой солнцем мельничной плотине.
– Ах ты, Боже мой, – сказал Галь, глядя на плантацию зацветающего хмеля. – Что это за лозы? Нет, нет, это не виноград; их странные плети походят на бобовые. – Он начал рисовать в своей книге.
– Это хмель. В Англии он появился после тебя, – сказал Пек. – Он растение Марса, и его цветы придают остроту. Мы говорим:
«Индюки, ересь, хмель и пиво пришли в Англию в один и тот же год».
– Что такое ересь – мне известно; теперь я видел хмель и его красоту. Но что такое индюки?
Дети засмеялись; они знали индюков фермы «Липки», и едва маленькое общество дошло до фермерского фруктового сада на холме, как на него набросилось целое стадо индюшек. Книжка Галя снова появилась в руках художника.
– Ого-го! – крикнул он. – Вот воплощенное тщеславие, одетое в лиловые перья. Вот гневное презрение и торжественность плоти. Как вы называете этих птиц?
– Это индюки и индюшки! – закричали дети; в это же время старый индюк с покрасневшим наростом стал бесноваться, нападая на лиловое трико Галя.
– Прошу прощения, ваше великолепие, – сказал птице художник, – я сегодня зарисовал две хорошие новые вещи, – и он приподнял свою лиловую шапочку и поклонился кричавшей птице.
Потом все четверо прошли через травянистый луг к Бугорку, на котором стоят «Липки». При ярком вечернем солнце обветренный и развалившийся старый дом окрасился в цвет кровяного рубина. Голуби клевали известку возле развалившейся трубы; пчелы, которые жили под черепицами, наполнили своим жужжанием горячий августовский воздух; запах буксов, прижавшихся к окну молочной, смешивался с ароматом влажной земли, свежего хлеба и дыма.
Жена фермера подошла к двери; она держала на руках ребенка, защитив глаза рукой от солнца, наклонилась, сорвала веточку розмарина и свернула в фруктовый сад. Старый сторожевой пес раза два тявкнул из будки, заявляя, что он охраняет пустой дом. Пек задвинул засов калитки.
– Удивляетесь ли вы, что я люблю это? – шепотом спросил Галь. – Что могут знать горожане о красоте и характере строений и земли?
Они все уселись рядом на старинной дубовой скамье фермы «Липки» в саду и смотрели через долину туда, где за домом плетельщика корзин и изгородей стояла старая кузница; Хобден рубил дрова в саду около своих ульев. Вот его топор упал; через секунду раздался стук.
– Да, – произнес Галь. – Там, где стоит дом этого старика, был литейный завод мастера Джона Коллинза. Много ночей я просыпался от стука его огромного молота. Бум-бим!.. Когда ветер дул с востока, мне случалось слышать, как в Стокенсе завод мастера Тома Коллинза отвечал ему: бум-бом!.. В промежутках слышались удары молотков сэра Джона Пельгама, в Брактлинге; они походили на голоса школьников; тук-тук-тук – слышал я и засыпал под эти звуки. Да, в этой долине было столько же кузниц и заводов, сколько в мае бывает кукушек. А теперь все исчезли.
– А что они изготовляли? – спросил Ден.
– Орудия для королевских судов и для других кораблей. По большей части это были серпентины. Когда орудия бывали готовы, являлись королевские посланцы и на наших волах везли их к берегу. Посмотрите, вот это портрет одного из первых и лучших моряков.
Галь перевернул одну страницу и показал детям выполненный карандашом портрет молодого человека с подписью: Себастьян.
– Он явился к Джону Коллинзу с приказом короля изготовить двести серпентин (это были злобные маленькие пушки) для снаряжения кораблей. Я зарисовал его, когда он сидел у нас подле камелька и рассказывал моей матушке о землях, которые собирался открыть на краю земли. И он отыскивал такие земли. Бывает чутье, ведущее человека по неведомым морям. Себастьян носил фамилию Кабо; он родился в Бристоле, но был наполовину иностранцем. Благодаря ему я получил много денег. Ведь он-то и помог мне выстроить церковь.
– А я думал, это сделал сэр Эндрью Бартон, – заметил Ден.
– Да, да, но фундамент кладут раньше, чем строят крышу, – ответил Галь. – Первым толкнул меня на этот путь Себастьян. Я приехал сюда не для того, чтобы служить Господу, как подобало бы благочестивому художнику, а желая показать, какой я великий человек. Мои соотечественники не обращали на меня внимания, и поделом мне. «Зачем это он, – говорили они, – сует свой нос в здание старой церкви святого Варнавы? Церковь наполовину разрушилась со времени черной смерти и должна остаться в руинах. Пусть он лучше повесится на веревке на своих лесах». Все благородные и простые, великие и малые – Гайсы, Фоульсы, Феннерсы, Коллинзы – все, все были против меня. Только сэр Джон Пельгам поддержал мое мужество и приказал продолжать постройку. Но мог ли я сделать это? Когда я просил Коллинза одолжить мне его волов, чтобы привезти стропила, оказывалось, что волов нет дома. Правда, он обещал мне набор железных скобок и прутьев для крыши, но они не попали ко мне в руки, а те, которые попали, были ржавыми и с трещинами. И так получалось со всеми. Никто ничего не говорил, но ничего не делалось, если я не присутствовал сам, да и тогда люди работали плохо. Мне казалось, что вся страна заколдована.
– Конечно, была заколдована, – сказал Пек, подтягивая колени к подбородку. – А ты никого не подозревал?
– Нет, пока Себастьян не явился за орудиями, и Джон Коллинз не начал играть с ним таких же противных штук, как со мной. В течение нескольких недель он изготовил две-три серпентины, но такие, которые, по словам знатоков, годились только на переплавку. Тогда Джон Коллинз стал качать головой и говорить, что он не решится послать королю несовершенные орудия. Святители, как бушевал Себастьян! Я хорошо помню это, потому что мы сидели как раз на этой же скамье и рассказывали друг другу о наших печалях.
Когда Себастьян пробесновался шесть недель и получил только шесть серпентин, Дирк Брезент прислал мне сказать, что запас камня, который он вез из Франции, выброшен им за борт для облегчения его корабля, который преследовал Эндрью Бартон вплоть до самого порта Рай.
– Ага, пират! – заметил Ден.
– Да. Я рвал на себе волосы; в это время приходит ко мне мой лучший каменщик, Виль, дрожит и уверяет, что сам дьявол, с огромными рогами, с хвостом и весь в цепях, убежал от него из церковной колокольни и что остальные рабочие отказываются строить. Тогда я пошел с ними в харчевню «Колокол» и угостил каждого кружкой пива. Мне встретился мастер Джон Коллинз и сказал:
– Делай, как знаешь, мальчик, но на твоем месте я послушался бы знамения и оставил в покое старую церковь.
Мои рабочие закивали своими грешными головами и согласились с ним. Но они меньше боялись дьявола, нежели меня; я это узнал позже.
С такими милыми вестями я прихожу в «Липки» и вижу, что Себастьян белит потолок кухни моей матушки. Он ее любил, как сын.
– Мужайся, голубчик, – сказал он. – Бог там, где он и был. Только мы с тобой сущие ослы. Нас провели, Галь, и да будет стыдно мне, моряку, что я раньше не угадал этого. Ты должен бросить свою колокольню, потому что в ней дьявол; я не получаю серпентин, так как Джон Коллинз не в состоянии хорошенько отлить их. Между тем Эндрью Бартон крадется от порта Рай. Зачем? Чтобы получить те самые серпентины, которые уходят из рук бедного Кабо. Я готов заложить мою часть новых материков, что упомянутые серпентины спрятаны в колокольне церкви святого Варнавы. Это ясно, как бывает ясно виден ирландский берег в светлый полдень.
– Они не осмелятся этого сделать, – возразил я. – Кроме того, продажа пушек врагам короля – измена, за которую грозит виселица.
– Их соблазняет большой барыш. Многие люди ради этого решаются рискнуть головой. Я сам торговал, – сказал Себастьян. – Но мы должны уличить их, уличить во имя чести Бристоля.
И тут же, сидя на ведре с известковыми белилами, Себастьян придумал план. Во вторник мы сделали вид, что уезжаем в Лондон, и простились со всеми нашими друзьями, особенно с мастером Коллинзом. Проехав же немного, вернулись через заливные луга, спрятали наших лошадей в ивовой роще, там, где начинается пашня, и ночью прокрались к старой церкви. Стоял густой туман, но лунный свет пробивался сквозь него.
Едва я закрыл за нами дверь колокольни, как Себастьян растянулся в темноте.
– Ох, – сказал он, – поднимай ноги выше и щупай руками пол, Галь. Я натолкнулся на пушки.
Я послушался его совета и в черной тьме насчитал двадцать стволов серпентин, которые лежали в соломе. Их и не подумали спрятать.
– Вот здесь две маленькие пушки, – сказал Себастьян, постукивая рукой по металлу. – Они приготовлены для нижней палубы корабля Эндрью Бартона. Честный, честный Коллинз. Это его склад, его арсенал, его оружейная мастерская. Теперь ты видишь, почему твой шум, стук, твои работы вызвали дьявола в Суссексе? Ты много месяцев мешал Коллинзу честно торговать. – И Себастьян засмеялся.
Обмазанная свежей глиной башня – не самое теплое место в полночь, а потому мы поднялись на лестницу колокольни, и там Себастьян наступил на коровью шкуру с хвостом и рогами.
– Ага, – произнес он. – Твой дьявол забыл здесь свою одежду. Ну, идет ли мне этот плащ, Галь?
Он надел на себя коровью шкуру и остановился в полосе лунного света, который проникал через узкое окошко. По чести – сущий дьявол. Потом Себастьян сел на ступеньку, стал колотить хвостом по доске, со спины он казался еще ужаснее, чем спереди. Сова влетела и поскреблась о его рога.
– Пословица говорит, что, если ты хочешь прогнать дьявола, запирай дверь, – прошептал Себастьян. – Но она лжет, как и другие поговорки, Галь, потому что я слышу, как дверь в башню отворяется.
– Я запер ее. У кого же, побери его чума, может быть второй ключ? – спросил я.
– Судя по звуку шагов, ключи у всех прихожан, – ответил Себастьян, вглядываясь в темноту. – Молчи, молчи, Галь. Слышишь, они стонут, охают. Я уверен, принесли еще несколько моих серпентин. Одна, другая, третья, четвертая. Все внесены. Поистине, Эндрью снаряжает свои корабли, точно адмирал. Всего двадцать четыре серпентины.
В эту минуту до нас долетел глухой голос Джона Коллинза, повторивший, как эхо:
– Двадцать четыре серпентины и две малые пушки. Весь заказ сэра Эндрью Бартона.
– Как вежливо он величает пирата. Что же это?.. – прошептал Себастьян. – Не бросить ли в его голову мой кинжал, Галь?
– В среду орудия отправятся в порт Рай в шерстяных фурах под тюками шерсти. Дирк Брезент опять встретит их в Удиморе, – продолжал Джон.
– Господи, что за странные приемы торговли! – произнес Себастьян. – Полагаю, мы с тобой единственные два младенца, не участвующие в барышах.
Действительно, внизу было человек двадцать, и все говорили громко, как на ярмарке. Мы сосчитали их по голосам.
Вот Джон Коллинз пропищал:
– Орудия для Франции мы положим здесь же в следующем месяце. Скажи, Виль, когда твой молодой дурак (это, значит, я) вернется из Лондона?
– Не знаю, – послышался ответ Вилли. – Кладите их, куда вам угодно, мистер Коллинз. Мы все до того боимся дьявола, что не войдем в башню.
Этот мошенник засмеялся.
– А тебе, Виль, легко вызывать дьявола, – прозвучал другой голос, голос Ральфа Хобдена, который работал в кузнице.
– А-а-минь! – прогремел Себастьян, и не успел я схватить его, как он спрыгнул с лестницы! – ну, сущий дьявол! – и страшно заревел. Он заработал кулаками; они убежали. Святители, как они улепетывали! До нас донесся их стук в дверь харчевни «Колокол»; тогда мы тоже пустились в путь.
– Что делать дальше? – спросил Себастьян, перепрыгивая через кустарник и поднимая при этом вверх свой коровий хвост. – Я разбил лицо честному Джону.
– Поедем к сэру Джону Пельгаму, – сказал я, – он единственный человек, который поддерживал меня.
Мы отправились в Брайтлинг; промчались мимо сторожек сэра Джона, из которых сторожа собирались осыпать нас пулями, приняв за браконьеров; разбудили сэра Джона Пельгама, усадили его в его судейское кресло и рассказали ему обо всем, показав при этом коровью шкуру, которая все еще болталась на Себастьяне; он хохотал до слез.
– Отлично, отлично, – сказал сэр Джон Пельгам. – Еще до рассвета дело будет решено. На что вы жалуетесь? Мастер Коллинз мой старый друг.
– Но не мой, – возразил я. – Когда я думаю, как он и ему подобные подставляли мне ножки и выживали меня из церкви… – И я задохнулся.
– Ведь церковь была нужна им для другого дела, – мягко заметил сэр Джон.
– И они помешали мне получить мои серпентины, – с жаром произнес Себастьян. – Получи я мои орудия, я уже пересек бы половину западного океана. Теперь же серпентины проданы шотландскому пирату.
– А где доказательство? – поглаживая свою бороду, спросил сэр Джон.
– Час тому назад я чуть не переломал себе о них ноги и слышал, как Коллинз приказал переправить их Эндрью Бартону.
– Слова, одни слова, – протянул Пельгам. – Мастер Коллинз в лучшем случае – лгун.
Сэр Пельгам говорил так серьезно, что на одно мгновение в моей голове шевельнулась мысль о его участии в тайной торговле, и я заподозрил, что в Суссексе нет ни одного честного литейщика.
– Ответьте во имя рассудка, – заговорил Себастьян, стуча по столу своим коровьим хвостом, – чьи же эти орудия?
– Очевидно, ваши, – ответил сэр Джон Пельгам. – Вы явились с королевским приказом изготовить их, и мастер Коллинз отлил их на своем заводе. Если ему было угодно перетащить их в церковную башню, орудия очутились только ближе к главной дороге, и вы избавлены от части перевозок. Зачем видеть злой умысел в простом поступке доброго соседа, юноша?
– Боюсь, что я недобро отплатил ему, – заметил Себастьян, поглядывая на свой кулак. – Как же поступить с маленькими пушками? Они пригодились бы мне, но эти орудия не включены в королевский заказ.
– Опять доброта, доброта любящего человека, – продолжал сэр Джон. – Благодаря своему рвению услужить королю и любви к вам, мастер Коллинз, без сомнения, прибавил эти два орудия в виде дара. Ах вы, треска, разве это не ясно, как начинающийся теперь рассвет?
– Да, ясно, – согласился Себастьян. – О, сэр Джон, почему вы никогда не служили на море? На суше ваш талант пропадает даром, – и он с нежной любовью посмотрел на него.
– Я делаю все, что могу на своем месте, – ответил сэр Джон, снова погладил свою бороду и произнес громовым голосом, как всегда во время суда: – Но слушайте меня, вы, юноши, в полночь вы выделывали штуки, которых я не одобряю, бегали около харчевни, застали мастера Коллинза за его (на минуту он задумался), за его хорошими деяниями, которые он желал до времени сохранить в тайне, и жестоко напугали его…
– Верно, сэр Джон. Посмотрели бы вы, как он улепетывал, – заметил Себастьян.
– Позже вы примчались ко мне с историями о пиратах, о фурах и коровьих кожах, и ваши слова, правда, заставили меня хохотать, но возмутили мою совесть судьи. Поэтому я вернусь с вами к колокольне, захватив с собой нескольких моих собственных людей да три-четыре телеги, и, ручаюсь, мастер Коллинз добровольно отдаст вам, мастер Себастьян, ваши серпентины и малые орудия. (Он снова заговорил обыкновенным голосом.) – Я давно предсказывал старому мошеннику и его соседям, что они попадут в беду из-за тайных продаж и темных делишек; но ведь нельзя же перевешать половину Суссекса за маленькую кражу пушек? Довольны вы, юноши?
– За два орудия я совершил бы любую измену, – ответил Себастьян и потер руки.
– Вы только что видели измену и мошенничество из-за того же, – заметил сэр Джон. – А теперь на лошадей, и марш получать «орудия».
– Но ведь мастер Коллинз действительно хотел отдать пушки сэру Эндрью Бартону? Правда? – спросил Ден.
– Ну, конечно, – ответил Галь. – Однако он потерял их. Когда разгорелась заря, мы нахлынули на деревню. Сэр Джон ехал впереди всех, и его знамя развевалось; за ним двигалось тридцать здоровых слуг, по пяти в ряд, дальше – четыре фуры, а вслед за ними – четверо трубачей, ради торжественности. Они играли: «Наш король поехал в Нормандию». Вот мы остановились и вытащили звенящие орудия из башни, эта сцена походила на картинку французской осады, которую брат Роджер нарисовал для молитвенника королевы.
– А что сделали мы… я хочу сказать, наша деревня? – опять спросил Ден.
– О, она держалась благородно, – заявил Галь. – Хотя мои односельчане провели меня, я гордился ими. Они высыпали из своих домов, глядя на маленькую армию, точно на проезжающую почтовую карету, и молча пошли своим путем. Ни движения, ни слова. Они скорее погибли бы, чем позволили бы Брайтлингу перекричать себя. Даже этот негодный Виль, выйдя из «Колокола», где он пил утреннюю кружку пива, чуть-чуть было не попал под ноги лошади сэра Пельгама.
– Берегись, сэр дьявол! – крикнул ему сэр Пельгам и осадил лошадь.
– Разве сегодня рыночный день? – спросил Виль. – Почему это здесь все брайтлингские быки?
Я отплатил за это бессовестному негодяю.
Но лучше всех был Джон Коллинз. Он шел по улице (с подвязанной челюстью, которую угостил Себастьян) и видел, как мы вытаскивали первую пушку из дверей.
– Полагаю, вы найдете, что она тяжеловата, – сказал мастер-литейщик.
Тут я в первый раз увидел, как Себастьян попал в тупик. Он открыл и закрыл свой рот: ни дать ни взять – рыба.
– Не обижайтесь, – продолжал Коллинз. – Вы получили орудия за очень дешевую цену, и я думаю, вам нечего сердиться, если вы заплатите мне за помощь.
Ах, он был великолепен! Говорят, это утро обошлось ему в двести фунтов, но он и бровью не повел, даже когда увидел, что орудия повезли из деревни.
– Ни тогда, ни потом? – спросил Пек.
– Раз поморщился, а именно когда доставил церкви святого Варнавы новый набор колоколов (в те времена Коллинзы, Гайсы, Фоулины и Феннерсы были готовы сделать все для церкви. «Проси и получай» – только и пели они). Мы повесили колокола; мастер Коллинз стоял в башне с Черным Ником Фоулином, который поднес нам футляр для креста. Литейщик дергал за колокольную веревку одной рукой, а другой почесывал себе шею. «Пусть лучше она дергает тебя за язык, чем давит мне горло», – сказал он. И только. Таков Суссекс, вечный, неизменный Суссекс.
– А что было потом? – спросила Уна.
– Я вернулся обратно в Англию, – медленно произнес Галь, – получив хороший урок за гордость; но, говорят, что из церкви я сделал жемчужину, настоящую жемчужину. Так-то. И я сделал это для моих односельчан, работая рядом с ними, и (прав был отец Роджер) никогда позже я не видел столько хлопот и такого торжества. Это в природе вещей. Милая, дорогая моя страна! – Его голова опустилась на грудь.
– Дети, вон ваш отец. О чем это он разговаривает со старым Хобденом? – заметил Пек, раскрывая кулак, в котором были зажаты три листка.
Дети посмотрели в сторону дома Хобдена.
– Знаю, – сказал Ден. – Он говорит о старом дубе, который лежит поперек ручья. Папа хочет, чтобы его вырыли.
В тихой долине звучал голос Хобдена.
– Делайте, как вам угодно, – говорил он. – Только корни старого дерева укрепляют берег. Если вы уберете дуб, берег обвалится, и во время следующего половодья ручей затопит луга. Впрочем, как угодно. Только вот мистрис очень нравятся папоротники, которые выросли на его коре.
– Ну, я подумаю, – сказал отец.
Уна засмеялась журчащим смехом.
– Какой дьявол в «этой» колокольне? – лениво усмехаясь, спросил Галь. – По голосу, вероятно, Хобден.
– Этот дуб – настоящий мост, он соединяет заросли с нашим лугом. Хобден говорит, что там лучше всего ставить силки. Он только что поймал двух кроликов, – ответила Уна. – Он не позволит вырыть дуб.
– О, Суссекс, вечно глупый Суссекс! – пробормотал Галь.
В следующее мгновение до «Липок» донесся голос отца детей, а на колокольне часы пробили пять.
Отлет из Димчерча
Стемнело; мягкий сентябрьский дождь стал падать на головы собирателей хмеля. Матери повернули скрипучие детские колясочки и покатили их из садов; старики вынули счетные книги. Молодожены двинулись домой, укрываясь под одним зонтиком; холостяки поплелись за ними и со смехом поглядывали на них. Ден и Уна отправились печь картофель в сушильню, туда, где во время сбора хмеля старый Хобден и его любимица, охотничья собака, синеглазая Бес, жили целый месяц.
Дети, по обыкновению, уселись на покрытую мешками лежанку напротив очага и, когда Хобден закрыл ставни, стали, тоже по обыкновению, смотреть на остывающие угли, жар от которых уходил вверх по старинной трубе. Хобден наколол нового угля, спокойно уложил свежие куски туда, где они могли принести больше всего пользы, подошел к Дену, который передал ему картофель, заботливо разместил картофелины по краю камина и остановился, рисуясь черной тенью на фоне вспыхнувшего пламени. Так как Хобден закрыл ставни, в сушильне стало темно, и старик зажег свечку в фонаре. Дети привыкли ко всему, и это им нравилось.
Немного поврежденный умом сын Хобдена, Пчелиный Мальчик, скользнул в сушильню, точно тень. Дети угадали, что он пришел, только когда Бес завиляла своим коротким обрубленным хвостом.
А снаружи донесся чей-то громкий голос, который пел, несмотря на моросивший дождь.
– Только двое людей могут так реветь, – заметил старый Хобден и обернулся.
Пение стало еще громче. Дверь растворилась, и на пороге показалась фигура рослого человека.
– Ну, говорят, оживленная работа оживит и мертвого, и теперь я верю этому. Это ты, Том, Том Шосмис? – Хобден опустил свой фонарь.
– Не скоро ты узнал меня, Ральф.
Шосмис вошел в сушильню, это был исполин, ростом на три дюйма выше Хобдена, с седой бородой и баками, с темным лицом, но со светлыми голубыми глазами. Старики пожали друг другу руки, и Уна с Деном услышали, как две жесткие ладони стукнули одна о другую.
– Ты по-прежнему сильно жмешь руку, – заметил Хобден. – Не помню – тридцать или сорок лет тому назад ты раскроил мне голову на ярмарке в Писмарше?
– Всего тридцать, и зачем нам считаться, кто кому разбил голову? Ты отплатил мне, стукнув меня шестом от хмеля. Как мы попали домой в ту ночь? Вплавь?
– Тем путем, которым фазан попадает в сумку браконьера, то есть благодаря счастью и маленьким заклинаниям.
И старый Хобден громко расхохотался.
– Я вижу, ты не забыл старого. Ты по-прежнему занимаешься «этим»? – И гость старого плетельщика сделал вид, что стреляет из ружья.
Хобден ответил движением руки, которым он как бы ставил силок для кролика.
– Нет, мне осталось теперь только «это». Что делать? Старость. А где ты был все эти годы?
«Я побывал в Плимуте; я побывал в Дувре, я шатался по всему свету», – пропел старик строфу из старой песни. – И, – прибавил он, – мне кажется, я знаю старую Англию лучше многих.
Повернувшись к детям, он подмигнул им.
– Вероятно, тебе рассказали много небылиц. Я изучил Англию вплоть до Вайльдшайра. Там меня даже надули, продав мне плохую пару садовничьих перчаток, – заметил Хобден.
– Лгут и надувают повсеместно. Но ты, Ральф, все же поселился на старом пепелище.
– Нельзя пересадить взрослое дерево, оно умрет, – сказал Хобден и засмеялся. – А я умирать хочу не больше, чем ты желаешь помочь мне просушить мой хмель.
Старый исполин прислонился к стене у камина, развел руками и сказал:
– Найми меня.
И два приятеля захохотали. Скоро дети услышали, как их лопаты заскребли по холсту, на котором лежал слой желтых шишек хмеля, сушившегося над огнем; когда же старики переворошили хмель, сарай наполнился сладким, навевающим дремоту запахом.
– Кто это? – шепотом спросила Уна Пчелиного Мальчика.
– Знаю не больше, чем вы оба… если вы знаете, – с улыбкой ответил он.
По сушильным доскам топали ноги; раздавались голоса разговаривающих. Сквозь отверстие пресса прошел мешок; он наполнился и растолстел, когда старики насыпали в него хмель. «Звяк» – лязгнул пресс и расплющил мешок в лепешку.
– Тише! – крикнул Хобден. – Не то разорвешь холст. Ты не осторожнее быка фермера Глизона. Садись-ка к огоньку. Теперь дело пойдет.
Старики вернулись к камину; Хобден открыл ставни, чтобы посмотреть, готов ли картофель, а Том Шосмис сказал детям:
– Посильнее посолите картофелины. Это покажет вам, какого сорта я человек. – Он опять подмигнул, Пчелиный Мальчик снова засмеялся, а Уна широко открыла глаза и посмотрела на Дена.
– Я-то знаю, что ты за человек, – проворчал старый Хобден, собирая картофелины.
– Ты знаешь? – Том зашел за спину своего друга. – Некоторые из нас не выносят подков, церковных колоколов, живой, проточной воды. Кстати, говоря о проточной воде, – обратился он к Хобдену, отходившему от очага. – Помнишь ты большое наводнение, во время которого работник мельника утонул на улице Робартсбриджа?
– Еще бы. – Старый Хобден опустился на кучу угля возле камина. – В тот год я ухаживал за моей женой. Я был возничим у Плема и получал десять шиллингов в неделю. Моя жена уроженка Марша.
– Удивительно странное место этот Марш, – заметил Шосмис, – я слышал, мир делится на Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию и Марш.
– Уроженцы Марша думают так, – сказал Хобден. – Уж как я бился, стараясь разубедить в этом мою жену.
– А из какой деревни она была? Я забыл, Ральф.
– Из Димчерча, под стеной, – ответил Хобден, держа в руке картофелину.
– Значит, из рода Пет или Вайтгифт. Так?
– Она была Вайтгифт. – Хобден разломал картофелину, стал есть ее аккуратно, как это делают люди, старающиеся не терять ни крошки на ветру. – Пожив здесь, она стала разумна, но первые двадцать лет жизни со мной была бесконечно странной женщиной. И до чего чудесно обращалась она с пчелами!
Хобден отрезал кусочек картофелины и выкинул его за порог двери.
– Ах, я слышал, что все Вайтгифты умеют видеть дальше других, – сказал Шосмис. – А как она?
– Моя жена была честной женщиной и не занималась колдовством, – ответил Хобден. – Она только понимала значение полета птиц, мелькания падающих звезд, звука роящихся пчел и тому подобных вещей. И нередко лежала, не смыкая глаз, и говорила, что слушает призывы.
– Это ничего не доказывает, – проговорил Том. – Все уроженцы Марша – прирожденные контрабандисты. Она должна была слушать по ночам; это у нее в крови.
– Конечно, – с улыбкой ответил Хобден. – То есть когда несли контрабанду не в Марше, а поближе к нашему дому. Но не это волновало мою жену. Ее занимали нелепости; она говорила, – он понизил голос, – о фаризиях.
– Да. Я слыхивал, что в Марше в них верят. – И Том посмотрел в широко открытые детские глаза.
– Фаризии, – повторила Уна. – Феи? Волшебн… О, я понимаю.