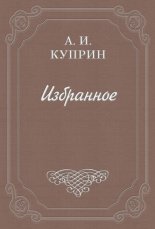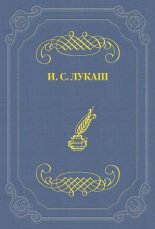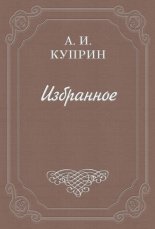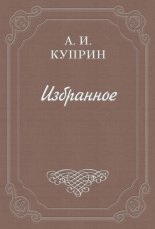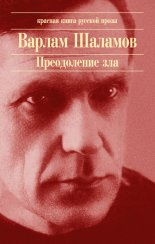Философ Куприн Александр
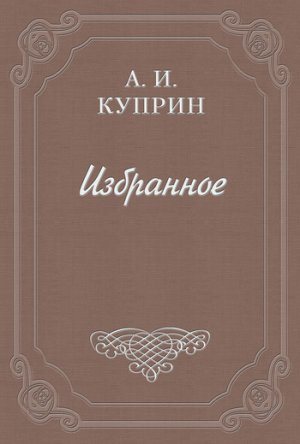
Читать бесплатно другие книги:
«. Он только что поступил в хор, куда его отдала мать-бедная прачка или поденщица, обремененная мног...
«…"Эпиграфы" Ландау – сборник кратких афоризмов, откликов мыслителя на впечатления бытия и его отмет...
«Действительно, скука одолела меня. Купив землю, я выстроил себе среди поля избенку и нанял караульн...
«…Он не нашел ответа на этот страстный вопрос. Он радовался тому, что уезжал, разрывая наконец эту т...
«Странными становятся вещи, явления и слова, если в них начнешь вникать глубоко и всматриваться наст...
«В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка в...