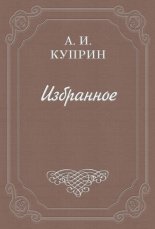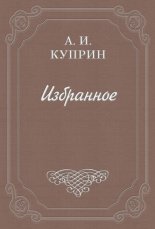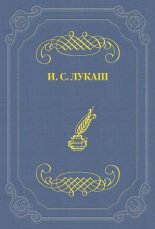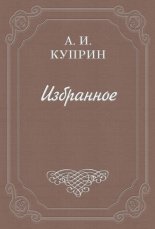Безумие Куприн Александр
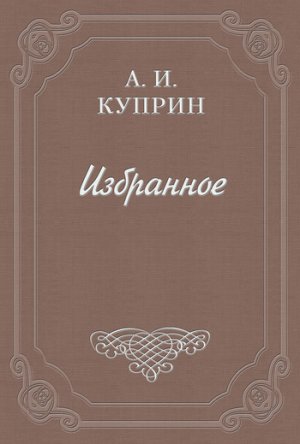
Читать бесплатно другие книги:
«Сегодня с утра сыплется на Париж, безмолвно и неутомимо, сплошной снег, сыплется хлопьями величиной...
«Видел я Живокини или не видал? Вероятно, видел.Мое первое воспоминание о театре смутно и ярко в одн...
«. Он только что поступил в хор, куда его отдала мать-бедная прачка или поденщица, обремененная мног...
«…"Эпиграфы" Ландау – сборник кратких афоризмов, откликов мыслителя на впечатления бытия и его отмет...
«Действительно, скука одолела меня. Купив землю, я выстроил себе среди поля избенку и нанял караульн...
«…Он не нашел ответа на этот страстный вопрос. Он радовался тому, что уезжал, разрывая наконец эту т...