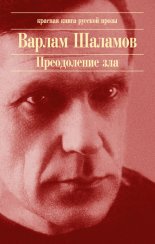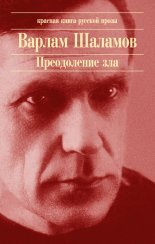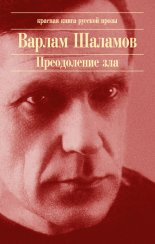Часы Горький Максим

С Петькой Валетом случай вышел.
Гулял Петька раз по базару и разные мысли думал. И было Петьке обидно и грустно: есть хотелось и не было денег даже колбасных обрезков купить.
И негде было достать.
А есть хотелось ужасно.
Попробовал Петька гирю украсть. Но гирю украсть ему не позволили. Гирей стукнули Петьку слегка по затылку.
Пошел Петька дальше.
Попробовал кадку украсть. И с кадкой попался. Кадку оставил и дальше пошел.
И вдруг видит бабу. Толстая баба стоит на углу и торгует пампушками. И пампушки в ее решете – румяные, пышные, дым от пампушек идет.
Задрожал Петька и подошел ближе. И ничего особенного не сделал, только взял пампушку, понюхал и положил в карман. И даже обидного ничего не сказал той бабе, а повернулся и тихо, спокойно пошел прочь.
А баба за ним. Баба шуметь стала и хвататься за Петькины плечи. Баба кричать стала:
– Вор! Отдай пампушку!
– Какую пампушку? – спросил Петька и дальше пошел.
Но тут уж толпа поднаперла. Кто-то Петьку за глотку схватил, кто-то коленкой сзади ударил, повалили, намяли бока. И огромной толпой потащили Петюшку в милицию. В базарный пикет.
Притащили – к начальнику:
– Так, мол, и так. Познакомьтесь: вор малолетний. Пампушку украл.
Начальнику некогда было. Начальник знакомиться с Петькой не стал, велел посадить Петьку в камеру.
Сунули Петьку в камеру: сиди!
Сидит Петька в камере на грязной, замызганной лавке, сидит не шелохнется и в окно глядит. А на окне решетка. А за решеткой небо. Ясное такое небо, чистое, голубое, словно воротник у матроса.
Смотрит Петька на небо, и горькие мысли лезут ему в башку. Невеселые мысли.
«Ой, – думает Петька. – Жисть ты моя жистянка. Опять я, бродяга, засыпался. Нехорошо засыпался. С пампушкой».
Невеселые мысли. Разве весело, когда человек с позапрошлого дня хлеба не нюхал? А за решеткой охмуряться приятно? Небом любоваться интересно? Было бы за дело, а то – тьфу! – пампушка какая-то.
Ну, ясно, расстроился Петька. Глаза зажмурил, решил судьбы дожидаться. Только решил он судьбы дожидаться – слышит стук. Громкие такие удары. И не в дверь, а в стенку, в деревянную переборку.
Встал Петька. Глаза разожмурил, прислушался.
Определенно кто-то кулаком переборку ломает.
Подошел Петька к стене, заглянул в щель. Видит Петька – стены каменные, лавка, окно с решеткой. Окурки на полу. А человечьих следов не видно. Пусто. Никак невозможно понять, откуда идет этот стук.
«Что, – думает Петька, – за дьявол стучит? Гвозди заколачивают, что ли? Или давят клопов?..»
Подумал это и слышит голос. Бас. Мутным этаким басом кричит из угла человек:
– Пом-могите! Мам-мочки!
Кинулся Петька в угол, к печке. У печки щель. Видит Петька – тыркается в щель нос. Под носом шевелится ус. И черный косоватый глаз печально смотрит на Петьку.
– Мам-мочки! – мычит бас. – Голуби драгоценные. Отпустите меня за ради бога.
А глаз, как таракан, бегает в щелке.
«Что, – думает Петька, – за чудик такой? То ли псих, то ли пьяный? Ну факт, что пьяный – вон ведь как разит… Фу!..»
А разит действительно здорово. Течет по камере дух, не поймешь, самогонный ли, водочный ли, но здорово крепкий.
– Мам-мочки! – гудит пьяный. – Мамочки!
А Петька стоит, смотрит, и совсем неохота ему с пьяным в разговоры вступать. Другой раз непременно бы связался, а тут – скучно. Сказал только:
– Чего орешь?
– Отпусти, голубь, – говорит пьяный. – Отпусти, ненаглядный!
Вдруг как взвизгнет:
– Ваше благородие! Господин товарищ! Отпустите вы меня! Меня детки ждут!
Смешно Петьке.
– Дурак, – говорит. – Как я тебя могу отпустить, когда я такой же арестант, как и ты? Где в тебе разум?
И вдруг видит Петька: просовывает пьяный сквозь щель ладонь, а на бородавчатой его ладошке лежат часы. Золотые часы. Чистокровные. С цепкой. С разными штучками и подвесными брелоками.
Выворачивает пьяный свой косоватый глаз и говорит шепотом:
– Товарищ начальник! Отпустите меня, я вам часики подарю. Глядите, какие славные часики… Тикают…
А часики, верно: тик-так, тик-так.
И сердце у Петьки: тик-так, тик-так.
Схватил Петька часы и – в угол, к окну. От радости дух захватило, кровь в головешку ударила.
А пьяный рукой замахал. И вдруг орать начал.
Как заорет:
– Кар-раул!
Как затопает, заблажит:
– Караул! Ограбили! Ограбили!
Испугался Петька, забегал. И кровь у Петьки обратно к ногам побежала. И пальцы быстро-быстро цепочку теребят, а на цепочке разные штучки болтаются и подвесные брелочки бренчат. Слоники разные, собачки, подковки и между всем – зеленый камень-самоцвет в виде груши.
Отцепил Петька цепку со всем барахлом, сует пьяному.
– На! – говорит. – На! Возьми, пожалуйста!
А пьяному память вином отшибло. Он уже забыл про часы – цепочку берет.
– Спасибо, – говорит, – спасибо, голубь драгоценный!..
И тянется через щель Петьку погладить. И губы выпячивает через щель. Чмокает как поросенок:
– Мамоч-чки!
А Петька опять у окна. И кровь снова бежит в головешку. Шумит голова.
«Эх, – думает Петька. – Подвезло!»
Разжал он кулак, поглядел на часики. За решеткой на ясное небо солнце вышло. Засияли часики в Петькиной руке. Дохнул он на них – помутнело золото. Рваным рукавом потер – снова сияют. И Петька сияет.
«Верно, – думает, – говорят умные люди: нет худа без добра. Ведь этакую штучку заимел. За такую штучку любой маклак полста монет отвалит. Да что полста… Больше!..»
Закружилась у Петьки башка. Замечтался Петька.
«Куплю я, – думает, – перво-наперво булку. Огромадную булку. Сала куплю. Буду булку салом заедать, а запивать буду какавом. Потом колбасы куплю цельное колечко. Папирос наилучших куплю. Из одежи чего-нибудь… Клёш, френчик. Майку полосатую… Штиблеты. Э, да чего там мечтать, теперь бы отгавкаться только, а там…»
Действительно, все хорошо, одно только нехорошо – сидит Петька. Сидит Петька в камере, как мышь в банке: на окне решетка, на дверях замок. И счастье в руках, а не вырвешься. Крепко припаян парнишка.
«Ну, – думает Петька, – все равно. Наплевать. Просижу как-нибудь до вечера… Не помру. А вечером, базар отторгует, – выпустят».
Вечером-то выпустят, знает Петька, – не впервой. Было дело. Только до вечера еще ух сколько ждать! Еще солнце по небу гуляет, разгуливает.
Поглядел он в последний раз на часики и спрятал их в драный карман. Карман узелком завязал для верности, сердце успокоил.
А за переборкой окончились крики и стуки, щелкнул замок, и не успел Петька глазом моргнуть – отворяется в его камеру дверь, входит молоденький милиционер, черненький такой, кучерявый и говорит:
– А ну, выметайся, шпана!
Ужасно обрадовался Петька. Испугался даже. Вскочил, подтянул портчонки и быстро вышел из камеры. Кучерявый за ним.
– Шагай, – говорит, – шпана, до начальника.
– Ладно…
Идет Петька к начальнику. Сидит начальник за зеленым столом, держит бумажку в руках и бумажкой играет. Гимнастерка на нем расстегнута, шея красная, и от шеи пар идет. Курит начальник и дым в потолок пускает кольчиками.
– Здорово, – говорит, – маленький вор.
– Здорово, – отвечает Петька.
Смирный такой стоит. Скромный. Улыбается и безвредно на начальника смотрит. А начальник кольчики пускает и в бумажку поглядывает.
– Скажи, – говорит, – гражданин хороший, какого ты года рождения?
– Года рождения не знаю, – отвечает Петька, – а годов мне одиннадцать.
– Ну, а который, скажи, пожалуйста, раз ты у меня в пикете гостишь? Седьмой, кажись?
– Нет, – отвечает Петька. – Кажись, пятый только.
– А не врешь?
– Может, и вру… Не знаю. Вам видней.
Спорить не хочет Петька. С начальником спорить – гиблое дело. Ладно. Седьмой так седьмой. Черт с ним.
«Волынки, – думает, – меньше, если не спорить. Отпустит скорей».
А начальник бумажку на стол положил, рукой прихлопнул и говорит:
– Резолюция моя, – говорит, – такова: ввиду твоей малолетней несознательности отослать тебя на предмет воспитания в дефективный приют. Понял?
Охнул Петька. Закачался. Обомлел. Оглоушили Петьку начальниковы слова, словно кирпичом по башке стукнули. Не ожидал он таких слов. Совсем не ожидал.
Очухался, однако ж, голову поднял и говорит:
– Ладно, – говорит. – Что ж…
– Согласен? – спрашивает начальник. Смеется, будто не понимает, до чего тяжело Петьке и грустно. До чего не смешно. До чего плакать хочется.
Ай, Петя, Петя, не везет тебе, Петя Валет!
А тут еще хуже. Тут совсем уж крышка. Гибнет Петька.
Подзывает начальник кучерявого милиционера и наказывает ему обыскать Петьку с головы до ног.
– Обыщи его, – говорит, – с головы до ног, нет ли при нем оружия или в крайнем случае ценных предметов. Обыщи формально.
Шагает кучерявый на Петьку, у Петьки сердце замирает, ноги у Петьки дрожат, как студень.
«Прощай, – думает Петька, – ценный предмет!»
Но, на Петькино счастье, кучерявый дурак попался. Брезглив. Посмотрел он на Петьку и говорит:
– Ей-богу, – говорит, – товарищ начальник, тошно к такой шпане руками прикасаться. Освободите, сделайте милость… Я сегодня в бане парился. Белье сменил. Да и что в нем, по существу, есть? Вошь в кармане, блоха на аркане… Не больше.
Петька последние силы собрал, усмехнулся печально, глазом мигнул.
«Верно, дескать. Угадали».
А сам думает:
«Ничего себе блоха. Блоха, – думает, – что надо!»
И незаметно пальцем одним карман щупает, а в кармане трепыхается что-то, стучит не шибко, будто сердце в кармане лежит или рыба живая. Часики в кармане лежат.
Ну, а начальник милиционера пожалел, или, может быть, ему скучно стало, только махнул он рукой и говорит:
– Ладно, – говорит, – можно отставить. Можно, – говорит, – без обыска обойтись. Неважно.
Написал чего-то в бумажке, печатью пришлепнул и кучерявому бумажку протянул.
– Вот тебе, – говорит, – товарищ дорогой, квитанция. Пойдешь с этой квитанцией до Введенской улицы и сдашь оного шкета в приют Клары Цеткин. Под расписку.
Встал начальник, зевнул и из комнаты вышел.
С Петькой начальник попрощаться забыл.
А кучерявый сунул квитанцию в папку, вздохнул и наган к животу привесил. Еще раз вздохнул и картуз надел.
– Ну, – говорит, – шпана несчастная, поехали!
Подтянул Петька портчонки – поехал!
Идут они прямо через базар, через самую давку. Базар шумит, конечно… Люди разные ходят, покрикивают. Смеются люди, ругаются, песни поют. Где-то баян гудит. Гуси какие-то стонут. Шумно. Только Петька шума не слышит. У Петьки план на уме.
«Смыться, – думает Петька, – необходимо».
Бежит он собачьей рысью через базар, распихивает торговцев и неторговцев, шманает глазами по сторонам и все думает, все размышляет:
«Необходимо смыться… Формально необходимо».
Только где же тут смоешься, когда кучерявый сзади словно хвост прицепился. Не отстает кучерявый, пыхтит самосильно и Петьку из виду не выпускает.
Вот и базар миновали. А Петька не смылся.
Расстроился Петька. Голову свесил и мельче шагать стал.
И вот кучерявый Петьку нагнал.
Качается кучерявый, стонет.
– Ой, – говорит, – замотал ты меня, шпана. Ну разве можно так бегать? Ну не могу я так бегать, у меня почки слабые.
Молчит Петька, не отвечает. Очень ему интересно, какие у милиционера почки! Не до почек Петьке. Взгрустнулось что-то. Идет себе Петька, голову свесил.
А кучерявый отдышался кое-как, шаг подравнял и вдруг спрашивает:
– А скажи по совести, шпана: хотел ты сигануть от меня на базаре?
Вздрогнул Петька, голову поднял.
– Что такое, – спрашивает, – сигануть? Я даже и слов таких не понимаю.
– Брось ты… Оставь… Замечательно понимаешь. Хотел небось убежать?
– Убежать?!
Рассмеялся Петька.
– Ошибаетесь, – говорит. – Бегать мне, – говорит, – смысла нет. Силом заставите – и то не побегу…
– Да неужели? – удивился кучерявый. – Неужели, – говорит, – не побежишь?
Остановился вдруг, огляделся, бровь почесал и вдруг папкой своей махнул:
– А ну беги!..
Дернуло Петьку. Прямо-таки дернуло. Словно коленкой его кто-то сзади пихнул, – задрожал весь. Бежать уж собрался и вдруг поглядел: смеется кучерявый.
«Ага, – думает, – на пушку ловишь? Ну, нет, брат… Знаем мы эти фольтики. Не поймаешь!»
Усмехнулся и говорит серьезно:
– Напрасно, – говорит, – кровь портите. Все равно не побегу. Хоть убейте, не побегу. Желания не имею.
– Да почему? – спрашивает милиционер.
Смеяться перестал. Петьку разглядывает. А Петька как загорловит во весь голос:
– Да потому, – говорит, – что никакого полного права не имеете бегать меня заставлять. Отвязаться хотите? Нет, не отвяжетесь! Ведите меня куда по закону следовает, а не то я жаловаться буду.
Сказал и сам испугался.
«Чего, – думает, – сказал?! Опупел, бродяга…»
А кучерявый-то сдрейфил, видно… Смутился. Руками замахал.
– Да что ты! – говорит. – Да разве я что!.. Идем, пошутил я.
– Знаю, – говорит Петька, – какие это шутки. Не очень-то шутки. Бежать подбиваете? Да? Лень человека до приюта проводить? Да? Шутки? Права не имеете шутить!..
Разошелся Петька. Кричит, руками размахивает. Люди, которые мимо идущие, удивляются даже. Что за дьявол? Стоит посреди улицы маленький рыжеватый парнишка, орет во всю глотку, ругается, а рядом милиционер топчется, красный весь, глазами хлопает, и папка под мышкой дрожит.
Умоляет кучерявый не кричать Петьку. Просит спокойно идти.
– Идем, – говорит. – Идем, пожалуйста.
Покочевряжился Петька – пошел.
Идет без оглядки, хмурится, губы дует, а самому смешно, сам про себя хохочет.
«Ловко! – думает. – Ловко я его поднапугал. Ай да кучерявый! Ну и дурак!»
А кучерявый с испугу, должно быть, еле идет. Еле за Петькой поспевает. Молчит, однако, помалкивает. Вздыхает только да поминутно пот с лица смахивает. А Петька для смеха еще подгоняет его.
– Ну что, – говорит, – вы так тихо идете? Гуляете, что ли? Нельзя ли слегка поднажать?
– Не могу, – отвечает. – Ей-богу, не могу. Почки не позволяют. У меня почки слабые, жары боятся. А я, понимаешь, еще в баню сходил. Понимаешь, попарился. Так что прямо умираю, до чего пить охота.
И вдруг увидел кучерявый какую-то чайную. Какой-то там «Милан». С крыльцом и с большой размалеванной вывеской.
Остановился и говорит:
– Ой, – говорит, – зайдем, пожалуйста, выпьем чего-нибудь.
– Нет, – говорит Петька. – Не стоит.
– Стоит. Ей-богу, стоит. Нутро у меня горит, пить жажду. А тут сельтерской можно выпить или чая. Или там квасу. Сделай милость, шпана дорогая, зайдем?!
Задумался Петька, рукой махнул.
– Ладно, – говорит. – Идите. Недолго только.
– А ты?
– А я, – говорит Петька, – не пойду. Я, – говорит, – привычки не имею по трактирам шляться… Идите одни.
Смутился кучерявый и говорит. Робко так говорит:
– А ты не сиганешь?
– Опять?!
Рассердился Петька.
– Опять, – говорит, – подбиваете? Да?.. Коли так, волоките меня без разговоров в приют. Поняли? Без никаких чаев!..
– Ну-ну, – говорит кучерявый, – не сердись. Я это так, на всякий случай. Я знаю, что ты не побежишь. Ты парень с понятием…
– Ладно, – говорит Петька. – Некогда мне с вами рассусоливать. Хряйте без лишних слов.
И что вы думаете? Похрял кучерявый. Петьку у крыльца оставил, а сам чай пить ушел. В «Милан».
Поглядел ему Петька вслед, усмехнулся.
«И верно, – думает, – очень неумный мильтон».
Усмехнулся и без лишних слов сиганул.
Завернул Петька за угол и побежал. Побежал, полетел. На крыльях летит, с пропеллером. Только пыль волной, только сердце стучит. А ветром лицо режет.
Бежит, бежит Петька. А навстречу дома, заборы, проулки бегут. Столбы телеграфные бегут. Люди… Козы… Коровы.
Бежит Петька – дух захватило.
Долго ли бежал – неизвестно. Куда забежал – не знает. На окраине где-то города стал. У какой-то церкви.
Стал, отдышался, в себя пришел. Огляделся и сам не верит: «Неужели смылся?».
Радостно стало. Весело. Снова бежать захотелось. Прямо от радости бежать захотелось.
«Смылся ведь!.. Смылся, бродяга!!!» И вдруг еще веселее стало. О часиках вспомнил. «Ах, – думает, – часики мои, часики. Где вы, часики?»
Сунул руку в карман… Мать честная! Нет часов. Туда-сюда – нет часов. Пропали часы.
Что будешь делать?
Сунулся Петька еще раз в карман, глядит – и кармана-то нет. На нитке висел карман, оторвался, наверно, от тяжести. Вокруг посмотрел – пусто. Штанину потряс – и в штанине нет.
Загрустил Петька. Приуныл. К церковной ограде привалился и чуть не заплакал.
«Ах, черт! Ведь надо ж этак».
Отчаянно не везет Петьке на этом свете.
Но не заплакал Петька. Нет. Знает Петька: слезы – дело бабье. Приличному шкету плакать не полагается. Пропали часы – искать надо.
Обратно побежал.
Обратно побежал, да толку мало – дорогу забыл. Где бежал, не знает. Без оглядки бежал, запутался… Спросить у кого-нибудь надо.
Стоит у ворот детина. Громадного роста. В солдатских галифе. Семечки плюет. Петька к нему:
– Дяденька, а дяденька!
– Чего? – говорит детина.
– Не знаете, дяденька, где тут чайная «Милан»?
– Нет, – говорит детина. – Не знаю. Какой «Милан»?
– Да такой. С вывеской.
– С вывеской? А! Ну тогда знаю.