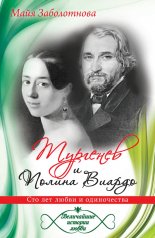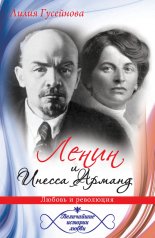На хуторе Бунин Иван
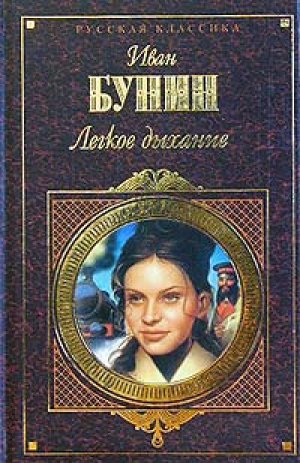
Сосед уже от порога вернулся, поглядел и сказал:
- Приголубит. Это она наелась и спит. А как проснется - хрум-хрум... Одни перушки останутся...
Валентина поднялась, мягко, но возразила:
- Она хорошая, наша Мурка. Она добрая.
Но Володя был, что называется, с характером. Голова на плечах и варит.
Еще раз скептически оглядев кошачье-цыплячью идиллию и трезво все оценив, он постановил окончательно:
- Сожрет. Это она спит, не сообразила. Проснется и сожрет.
Последние слова отчеканил и ушел. Все было ясно.
Хозяйка, спорить не желая, лишь вздохнула, негромко повторив прежнее: "Мурочка, умница моя... Она маленьких жалеет... Она его не обидит..."
Покатился день дальше со своими делами, заботами. Годы у хозяйки уже не молодые и здоровье известное: хвори да болячки. А заботы все те же: скотина, огород, птица, дом, пусть невеликое, но семейство, а тут еще - летняя пора. Долгий день, но и его не хватает. Вот и торопишься. Всю жизнь.
Меж делом хозяйка нет-нет да заглядывала в дом: живой там цыпленок? А с птенцом ничего не случилось. Он отоспался, оживел и, выбравшись из теплого Муркиного плена, стал громко пищать, требуя еды. Валентина принесла ему на блюдечке свежий творожок да крохи рубленого яичка. Цыпленок наклевался и снова к Мурке - под бок.
Пришел с огорода хозяин, поглядел, посмеялся:
- Вот это номер...
А ближе к вечеру появился Володя-сосед.
- Позвонить надо... - сказал он, а глазами - к печке, где Муркино логово. Самой кошки не было, но вповал на мягкой подстилке там дремали котята и меж них желтый цыпленок.
У соседа глаза полезли на лоб.
- Не сожрала еще?.. - спросил он.
- Как видишь, - ответил хозяин.
- Сожрет, - твердо сказал сосед.
- Поглядим...
- А я говорю - сожрет. Потому что это - зверь. Ты понимаешь? Зверь! У него природ такой: обязан сожрать. Потому что - положено. Жрать! Мышей, птицу всякую!
- Мышей она хорошо ловит, - похвалил хозяин. - И воробья не пропустит. А мышей возле закрома каждый день душит. Молодец, Мурка.
И, будто услышав зов, объявилась кошка. Поуркивая, она облизала котят, словно будя их к очередному обеду. И улеглась, подставляя тугие соски. Котят дважды приглашать не пришлось. Мамкины титьки отыскав, они уцепились за них и принялись дудонить. Детское ремесло... Цыпленок же, потревоженный, поднялся, пискнул и тоже принялся за еду, глухо постукивая еще мягким клювом по блюдцу. Крошеное яичко, творог, а потом и воды попил, как правдашний, задирая крохотную головенку.
Соседу это не нравилось.
- Сожрет, точно сожрет, - твердил он. - Утром вот поглядите.
Наутро цыпленок никуда не делся, мирно проспав возле новой мамы. И пошло-поехало: греется, спит возле кошки, забираясь под лапу для тепла. Отоспится, пищит, бегает, клюет, как положено, яйцо, творог, пшенцо, рубленую зелень, пьет воду. Набегается, снова - под теплый бочок.
Сосед Володя стал приходить на дню три раза. И с порога, не здороваясь, шел прямо к печке.
- Не сожрала?
- Целый...
- Должна сожрать. Обязана, - твердил он. - Потому что - зверь...
Хозяйка пела свое:
- Мурочка... Она у нас умная. Она маленьких не обижает. Мама - она мама и есть.
У хозяина свое объяснение:
- Легкая у Валентины рука... Вот она ей сказала, под бок подпихнула, и Мурка послушалась... Легкая рука. Недаром к ней бабы идут цветок отсадить, чтобы легкой рукой, лучше примется. Это еще моя мамка-покойница заметила.
Сидели мужики, глядели, словно на чудо. Оно и впрямь чудо: кошка лежит, развалясь, котята сосут ее, и тут же - цыпленок, под лапою, дремлет.
Соседу Володе эта мирная картина была - нож вострый.
- Она же права не имеет! У нее - природ! Зверь... Мясо ей, кровь нужно... И она обязана сожрать! Просто обязана!
Но то были лишь слова. На деле - иное.
На третий ли, четвертый день натурный сосед придумал наконец объяснение.
- Она умом рухнулась! Старуня! - крутил он пальцем возле виска. Жила-жила и все выжила. Ничего не соображает. У старых людей так... Значит, и у кошек.
Он сразу успокоился и наперед предсказал:
- Котята подрастут чуть-чуть, они его враз сожрут.
- Не сожрут, - заступилась Валентина. - Он теперь у них вроде братушка...
- С костями этого братушку... Вот поглядишь. Зверье! Природ такой! Понятно?!
Но и здесь сосед пальцем в небо попал. Время шло, росли котята быстро, а рядом с ними цыпленок помаленьку оперялся, хромать перестал. Они вместе играли, хотя эти игры были странными: котята, цыпленок. Вроде как не приложишь: кошка и птица. Но у них получалось. Наверное, потому, что детвора. Цыпленок порой пищал, отбиваясь, и не в шутку больно клевался. И тогда пищали котята. Но все кончалось миром и сном вповалку. Скоро котята с цыпленком выбрались во двор, там росли. Время летнее. И для всех это стало привычным.
Кроме соседа, который в конце концов не выдержал и решил проверить, как говорится, на собственном опыте. Как раз у него клушка высидела цыплят. Он взял одного, отчаянно запищавшего, и сунул под нос своей кошке. Она у него обходилась без имени. Кошка да кошка... А нынче была с кошененком, с одним. Остальных потопил. Цыпленка ей сунул под бок, приказал:
- Воспитывай. Ясно тебе? Ясно?!
Кошка ответить не могла, лишь жмурилась. Цыпленок рядом пищал.
- Гляди не трожь! - серьезно предупредил кошку Володя. - Голову оторву. И отправился по делам.
Когда он вернулся, от цыпленка и духа не осталось. А кошка лежала, кормя своего котенка, мурлыкала.
- А где цыплак? - с порога спросил Володя и начал по углам шарить. Но не было ни следа, ни писка. Понятно, что сожрала. Ни пушинки, ни перышка... Да какие у него перышки, лишь вывелся. Глотнула - и нет.
Сожрала. Это был факт очевидный. Хотя какие-то сомнения оставались. Ведь прямых доказательств нет! И еще одно: может, не поняла? Может, надо было посерьезней внушить?
Володя решил еще раз проверить. Еще одного цыпленка забрал у клушки. Принес. Комочек. Тепленький, щуплый. Один лишь писк.
Он держал цыпленка в руке, под нос кошке сунув, и объяснял:
- Не жрать. Поняла? Не жрать его, а воспитывать. А если сожрешь, я с тебя шкуру спущу. Ты меня знаешь. Засеку до смерти. Или повешу. Поняла.
Кошка смотрела на хозяина и вроде все понимала, зная тяжелую руку его.
- Вот так. Вторая проверка. И последняя!
Володя сунул цыпленка кошке под бок. Поглядел. Все вроде шло хорошо. Цыпленок пищал. Кошка лежала, жмурилась.
Но сторожить не будешь. Дела ждут. Он ушел. Скоро вернулся. Открыл дверь, кошка, шмыгнув под ногами, умчалась прочь. Цыпленка, конечно, не было. Сожрала. И, между прочим, правильно сделала. Потому что - зверь. Но вот за то, что хозяина не послушалась, за это, конечно, - смерть. Володя ружье со стены ухватил, оно всегда под рукой, снаряженное. И прямо с крыльца бабахнул, дуплетом. Взлетели испуганные куры, поднялась пыль столбом, собаки залились. На весь хутор - содом. А кошка улизнула. Конечно, до поры. У Володи на это дело рука легкая.
ТЮРИН
Время вечернее. Издали слышно, как гудит трактор Тюрина, прибиваясь с работы к дому. Они на хуторе единственные колхозники: Тюрин и маленький колесный трактор его. Вот он с горы катит, погромыхивая прицепной тележкой. И напрямую к нашему двору. У ворот - остановка, Тюрин из кабины вылез, хозяина зовет:
- Сашко! До мэнэ ходи!
А во дворе - лишь я, гость заезжий, но не больно редкий, и потому в руки мне - бутылка и просьба: "Постановь в холодильник. Я зараз приду".
Тюрин - по говору и виду - запорожец с картинки: росту невеликого, сложения плотного, лысая голова - круглый арбуз, глаза - хитрая прижмурка и, конечно, "вусы". Балакает "по-хохлячьи": "До мэнэ... До тэбэ... Малэнький..."
Бутылку самогона с бумажной затычкой отправил я в холодильник. Дело понятное: Тюрин где-то "скалымил", но домашних своих решил наказать за грех вчерашний. Семейка у него еще та: что жена, что сыночки... Так и глядят, чего бы из дома упереть да пропить. Глаз да глаз за ними. Вчера Тюрин еле успел. Свинью они сторговали заезжим людям, поменяв ее на сахар, муку и, конечно, водку. Тащили, как муравьи. И уже свинью грузили в прицеп. А тут не в свою пору вдруг объявился Тюрин. Видно, подсказало сердце. Он мигом торг поломал. Да еще кое-кому костыля по горбу досталось. Все же - свинья, а не курица.
К тому же нести бутылку домой - самому на понюх не достанется. А здесь, во дворе моего приятеля, на воле, под развесистым кленом - стол. Хозяева - люди свои. Потихонечку выпивай да балакай. Чего еще надобно?
Даже Валентина - жена моего приятеля, которая пьющих не жалует, Тюрина привечает.
- Коля - молодец, - хвалит она его и жалеет. - Он - мученик, наш Колюшка...
- Такая свинья... - сразу вчерашнее вспоминает Тюрин. - Таких поросят приносит. И себе оставляем, и людям продаем. Золотая хрюша, кормилица. На нее надо молиться, а они ее за так отдают...
- Слава богу, обошлось, - успокаивает его Валентина. - Не переживай. Ты ныне весь день на тракторе, наработался, щей тебе разогрею.
Тюрин довольно жмурится, только что не урчит. Его бутылочка охладилась, пока он трактор к своему двору отгонял, обмылся да рабочую спецовку сменил на легкую рубашку.
- Щи - это хорошо, - причмокивает Тюрин. - А я пока трохи выпью с ребятками.
"Ребятки" - то мы с приятелем, седоклокие. Дело вечернее. Почему не посидеть за столом в хорошей компании.
Выпив стопку, Тюрин разглаживает усы, а потом истово хлебает горячие щи. Хозяйка сидит рядом, подперев рукой полную щеку, и хвалит едока:
- Молодец, Коля. Рюмочку выпьет, хорошо покушает. Все бы так, по-умному.
Тюрина от еды пот прошиб. Он объясняет причину своего аппетита:
- Я с собой на работу брал харчей. Сала и хлеба. А подъехал с утра в бригаду, хлопцы там похмеляются, а закуски - ни у кого. Тут мое сало и подмели.
Тюрину уже немало годков, под семьдесят подпирает. А на вид еще крепкий. Работает в колхозе. Один со всего хутора. Остальных сократили да уволили, потому что от самого колхоза, в котором прежде было шесть хуторов, а земли за день не объедешь, от прежнего теперь остались рожки да ножки. Но без Тюрина нельзя. Он - лучший сварщик в колхозе. А нынче все тракторы да комбайны старье и утиль; Тюрин при них - доктор Айболит. Колесный трактор у него персональный. Тележка - на прицепе. Там - сварочный аппарат, баллоны. Вот и катается зимой и летом.
Нынче жаркий июль. Уборка. Хотя чего теперь убирать? Это прежде хлебные поля подступали к самому хутору. Нынче они далеко.
Тюрин щи дохлебал, взопрев. И тут же на столе объявилась просторная сковорода с рыбой. Поджаренные до розовой смуглоты ломтики тонули в желтизне и бели яичной мешанки, щедро сдобренной зеленью лука, петрушки, укропа. А рядом, в миске, крошево помидоров, огурцов, болгарского перца, сладкого лука-"каба". Да еще - кислое молоко, сметана, пресные пышки.
Хозяйка присела рядом, сказав:
- И мы сразу поужинаем...
- А я не можу... - округляя глаза, отказался Тюрин. - Щей нахлебався... во... - показал он ладонью под горло.
- Ешь, Коля, ешь. Стопочку выпей и поешь. Ты - человек рабочий, тебе надо.
- Ну если со стопочкой... - согласился Тюрин.
Ему нравится такое застолье: хлебосольное, неспешное, без шума и ругани. И бутылка на столе словно не убывает. Хозяйка спиртного в рот не берет. Хозяин порой, для компании, лишь пригубит.
Да еще за столом - гость, человек заезжий, ему можно рассказать то, что другим давно уже известно. А рассказать Тюрин любит.
- Работать буду еще двадцать годов! - решительно заявил он. - Двадцать!
- И все бесплатно... - подсмеялся мой хозяин. - На майские праздники пятьдесят рублей отвалили. Барыш!
Но Тюрин его слушать не хочет, потому что речь - для меня.
- Двадцать лет буду работать, потому что... - загнул он палец. - Как только я уйду, мой заменщик... Я знаю, кто на мое место лезет. Он за месяц разобьет трактор и всю сварку погубит. Как тогда бригада будет работать? вопрошал Тюрин, обводя нас, внимательных слушателей, строгим взглядом. - Они же всякий день кувыркаются, технику бьют, я их чиню. А если я бы кувыркался вместе с ними? Кто бы варил? А мой заменщик в первый же день закувыркается. Вот все и кончится. Так что надо работать.
Естественно, мы согласились: "Надо".
- Другое дело... - продолжил Тюрин, загибая второй палец. - Я уйду, и тогда хутору конец.
Приятель мой - поперечник, он любит справедливость и потому возражает:
- Ну да, помрем без тебя. Пуп земли!
Жена его, человек сердечный, всегдашняя заступа:
- Вечно ты... Коля правильно говорит. Это у нас - машина. А другие?..
- Про других моя балачка... - подхватывает Тюрин. - Вы - не пропадете. Федя не пропадет, у него - тоже "Нива", у Кравченки "козел". И все. Кому - в станицу, кому - в район. В магазин, хоть раз в месяц, всем надо. Вермишели, крупы набрать. А зубы лечить, в больницу?
Справедливые речи. От хутора до асфальта в станице - пятнадцать верст. Большую половину из них каждый день можно одолеть на тюринском тракторе: в кабине, на тележке. Тюрин никому не откажет, довезет до бригады. А там и станица - рукой подать: пешком ли, другой попуткой. Иного транспорта нет. Ребятишек в школу порой возят, но лишь посуху, в сентябре. А потом начинается грязь, гололед, снежные заносы. И тогда лишь трактор Тюрина потихоньку пробирается вечным путем своим. Он хлебца печеного привезет. И на кладбище едут в труской тележке, за трактором. Привычно.
Конечно, есть и третья причина: Тюрин - единственный кормилец своей немалой, но бестолковой семьи. Там сыновья - "бурлаки", там дочка с зятем, хоть и отдельно живут, но кормятся возле папки; там - внуки; там нет надежи даже на хозяйку. Но об этом - молчок. Все и без слов понятно, и нечего душу травить.
Застолье длится до темноты. Хозяева отлучаются по делам. Встретить скотину из стада, напоить, подоить, с молоком управиться. Иная живность требует вечерних забот. Утки да куры. И собак надо покормить, и кошек. Тоже своего просят.
Лишь мы с Тюриным за столом неотлучно, бутылка понемногу пустеет. Тюрин сыт и немного хмелен, всем на свете доволен. Слушаю его журливые речи, многие из которых слышал не раз. Про то, как на херсонской судоверфи варил он корпуса боевых кораблей и на каждый шов ставил личное клеймо. Ответственность! Они и сейчас, может, плавают, тюринские крейсера, нас охраняют. И про целину: как жили в палатках, как строили, как пахали. Рассказов много. Долгая жизнь. Тюрин стрижется коротко, "под машинку", но голова - седая. К вечеру устает. Будто и крепок еще, но годков немало. За шестьдесят далеко-далеко. Долгая жизнь. Есть что вспомнить. Тюрин балакать любит. Я слушаю, знаю, что сейчас он расскажет еще одну повесть: про себя и знаменитого директора Штепо.
Вот налита последняя стопка. С чувством выпита. Тюрин глядит на меня растроганно и благодарно. Маленькие глаза подернуты влагой. Лоб морщинится. Там, в круглой лысой голове, созрело и расцветает счастливое. Вот оно растекается, разглаживая морщины.
- Было дело... - начинает Тюрин. - Штепу, конечно, знаешь?
Киваю головой. Как не знать знаменитого Штепо - дважды Героя Труда, знаменитого директора прославленного на всю страну совхоза. Хоть и в прошлом все это, но память есть.
- Они у нас пахали в колхозе. Выручали, как передовики отстающих. А я лишь приехал сюда, начал работать. Они на подмогу тремя звеньями прибыли. Тракторы "Кировцы". Пахать круглосуточно. Лишь меняются трактористы, прямо в борозде. И веришь, у них не заладилось. Бегунок. Такусенька штучка... Тьфу! - показывает он руками малое. - А сломалось - стой. И "Кировец" стоит. Махина! Надо везти за сто километров, на центральную усадьбу, в совхоз. Делать: менять бегунок на новый. И снова сюда. Сутки простоя. Ты понимаешь?!
От былой благости на лице Тюрина не остается и следа. Лишь - боль и тревога.
- И каждый день, каждый. Отвезут, заменят, а он снова ломается. Простой на простое. Неделю мучаются. Ты понимаешь?!
Я понимаю. Серьезное дело. И серьезный рассказ. Даже сейчас, через много лет, Тюрин переживает. И это понятно: осенняя пахота, могучие "Кировцы" с мощными плугами стоят из-за какой-то мелочи. Но стоят! А должны круглые сутки пахать. Где план? Где график? Райком партии каждый день "шею мылит".
- Походил я вокруг, подумакал... - Тюрин похлопал себя по выпуклой лысине: вот этим, мол. - Подхожу до бригадира, говорю ему: давай попытаемо. И обсказал свою мыслю. Он руками машет: "Отстань! Заводское летит! А ты из дерьма конфетку..."
- Попытаемо... - говорю ему.
Стемнело. Электрическая лампочка под жестяным колпаком освещает дощатый стол, остатки ужина. Маленькие глаза Тюрина горят. Речь его звучит тише, медленней, капают слова.
- Беру. Болт. Обыкновенный. Обрезаю. И начинаю головку болта обваривать. Потихоньку. В монолит. Ты понял? Ни боже мой, не спешить. Ровно и медленно. Быстро робят, слепых родят. Круг за кругом. Не торопясь... Бригадир поглядит и уйдет. Чего-то спросил, я молчу. Мне нельзя головы поднять. Медленно, ровночко, чтобы проварилось и взялось монолитом. Но время засек. Один час сорок восемь минут. Готово. Кладу остывать. Тоже пусть потихоньку. Воды - ни боже мой. Даже капли. Перекал. Напряжение. И - хрустнет.
Курю. Три штуки зараз. Уши-то опухли без курева. Остыло. Говорю бригадиру: "Становь. Будет работать. Гарантия". Поставили. Пошел плуг в борозду. Пашет и пашет. Круг, другой... Бригадир глядит, хмыкает. А тут подъезжает другой трактор. Тоже бегунок полетел. Обрезаю болт. Прогрел. Начинаю обваривать. Потихоньку. Ни в коем случае не спешить. Ты понял? Монолит! Чтобы ни пузырька, ни трещины... Обвариваю ровненько в одну массу. Один час сорок восемь минут. Готово. Пусть остывает. Сел курить. Еще один трактор летит. Бегунок! Покурил. Начинаю варить. И так - до часу ночи. Тут и уснул, на полевом стану. Встал утром. Все мои бегунки на плугах работают. А заводские - летят. Все заменил заводские бегунки. И кончился простой. Пашут, пыль столбом. И план дают, график, райком доволен.
Приезжает Штепо. Ему все доложили. Я как раз лемеха навариваю. Подъезжает белая "Волга". Значит, начальство. А мне какое дело, варю и варю. Вижу: подходит Штепо, здоровый такой, ну, ты его знаешь. Я закончил, снял маску сварочную. Он говорит: "Давайте знакомиться. Я - Штепо, директор". Руку пожал. Крепка така рука. Достает конверт. Это, говорит, премия. Ну, говорю, благодарствую. Он опять не уходит. Говорит: "Переходите ко мне в совхоз, на работу. Про наше хозяйство, наверное, знаете". Я плечами пожал, говорю: конечно, передовики. Но я слыхал, что вы берете людей до тридцати лет, а мне пятьдесят. Ничего, говорит, переходите. Сразу даю квартиру в двух... Этих самых...
Тюрин запамятовал, я подсказал:
- В двух уровнях.
- Вот-вот... Два этажа.
Про "уровни" - это уже тюринские фантазии. У Штепо в его совхозе и сейчас стоит так называемый "поселок специалистов" - просторные дома со всеми, как говорится, удобствами. Но этажей ли, "уровней" там нет.
Но все это - мелочь, потому что главное - правда.
- Я трохи подумал, говорю Штепе: два месяца всего здесь работаю. Приехал, дали хатку, работу жинке. Как-то нехорошо: взять и кинуть. Вроде не по-людски. Штепо мне отвечает: "Молодец. Но запомни: надумаешь, приезжай. Возьму, дам квартиру в двух..."
- Уровнях, - снова помогаю я.
- Да, да, они самые. В любой, говорит, момент.
Милая сказка былых времен, сердцу дорогая, кончилась, и Тюрин будто гаснет. Вздыхает, морщится, на глазах стареет. Притомился. Долгий день позади, долгий вечер.
Поздний час. За холмами догорела заря, оставляя нежную прозелень. Сумерки густеют.
Тюрину вставать со скамейки не хочется. Он устал. Не молоденький, а от зари до зари на ногах. Лень подниматься; лег бы тут и уснул. Но Тюрин уйдет домой, он не из тех, кто на чужих дворах валится. Покряхтывает, набираясь сил.
Из темноты, со стороны скотьего база, гавкнул пес; забелелось призрачно, и объявилась малая девочка в светлом платье.
- Деда! - подбегая к Тюрину, закричала она. - Баба драников напекла! Вкусные!
- Что за драники? - от кухни, из темноты спросил мой приятель. - Ваши, что ли? Хохлячьи? А? Маринка?!
- Наши, Сашко, наши! - живо отозвался за внучку Тюрин. - За уши не оттянешь.
- Деда, пошли! - торопила внучка. - А то они все поедят!
- Так положено... - подсмеивался мой приятель. - В большой семье рот не разевай.
Они уходят через скотий баз, Тюрин и внучка; хозяин провожает их, чтобы запереть скотьи воротца. Они идут, обговаривая дела завтрашние и те, что впереди: надо привезти соломы, надо притянуть - тоже тюринским трактором несколько хороших лесин из прибрежного займища, на дрова, надо... Много дел.
Хозяин запирает баз, гости уходят. Белое платье девочки недолго светлеет во тьме и размывается. Лишь детский голос звенит и звенит, разбивая вязкую тишину засыпающего хутора и округи: просторной долины, пологих холмов и холмов, глубоких балок, заросших шиповником да тернами. Время глухой поры. Сторожкий ночной зверь голоса во тьме не подаст. Лишь гукнет порой нелюдимый сыч. Да малая степная речушка, обсохшая за лето, ночь напролет будет журчать и журчать на каменистых перекатах.
Потом запоют петухи. На белой заре выйдет из дома Тюрин. Трактор заведет и поедет, погромыхивая тележкой, через бугор, в поле. Нынче - уборка. Он в хуторе один колхозник и будет, по его словам, еще двадцать лет работать.
В ПОЛДЕНЬ
Лето у нас - жаркое и даже больше того - знойное. В полуденный час порою там и здесь зыбится марево. И потому, когда однажды на хуторе знойным полуднем сидели мы в тени за столом и объявился вдруг молодой человек в белой рубашке и галстуке, в черных брюках и черных же башмаках... Когда он, будто с неба упав, открыл калитку и сразу же начал речь, ослепив белозубой улыбкой: "Здравствуйте! Сегодня наша фирма проводит юбилейную распродажу со значительной скидкой!" Я глазам не поверил. Может, жаркое марево?..
Нас было трое: хозяйка двора Валентина, супруг ее Тимофей - мой товарищ, да я - гость нередкий. Только что отобедали. Сидели, разморенные едой, жарой. И вдруг:
- Разрешите предложить вам товары со скидкой! Только сегодня, наша фирма, в честь юбилея...
Я не верил глазам.
В Москве - понятно. От них прохода нет, от этих молодцов: "Здравствуйте! с белозубой улыбкой. - Сегодня наша фирма в честь десятилетнего юбилея проводит распродажу со скидкой..." И норовят всучить какую-нибудь ерунду. "Спасибо, спасибо..." - обычно говоришь им и - ходу.
В Волгограде, по летнему времени, та же песня: "Сегодня наша фирма..." Ребятки - на подбор: белая рубашка, галстучек, черные брюки.
Знаем мы эти "скидки": море словес, замажут глаза и всучат ненужное и втридорога. Но это - Москва, Волгоград. А здесь... Я даже головой мотнул. Может, придремалось, пригрезилось. Далекое глухое селенье. Сюда и дороги нет, одни лишь колдобины. А он - вот: из жаркого марева ли соткался, а может, с парашютом... Белая рубашка и галстук, аккуратный пробор на голове, черные брюки. Тут в шортах да шлепанцах на босу ногу жарко. А он...
- Только сегодня наша фирма в честь юбилея предлагает...
Глядели на чудо-гостя, глазам не веря. Да что мы. Сторожкая собака Пальма от удивления пасть разинула и замерла.
На правах человека городского, виды видавшего, я проговорил всегдашнее:
- Спасибо, спасибо... Ничего не надо...
Но молодой человек уже выкладывал из объемистой сумки сияющие наборы столовых ножей с надписью "Золинген", яркие, пластмассовые терки, шинковки, что-то еще...
Мой товарищ глядел на этот развал снисходительно. Ему ведь и вправду в хуторском житье ничего не нужно. Все есть. К тому же он - тоже городской человек, а еще - скептик, не любит обманов.
- Золинген, Золинген... - проговорил он снисходительно. - Это все брехня, лишь хлеб резать. А вот я ножи делаю...
Товарищ мой - человек рукастый, он все может. И ножи. В бытность заводскую и теперь. Из настоящей стали, с наборными пестрыми ручками. Столовые ножи, секачи и, конечно, рыбацкие.
- Я такой Золинген...
Он любит рассказывать. Что и понятно при хуторском житье. Тем более новый человек объявился.
- Нет, нет! - горячо возразил ему нечаянный гость. - Наша фирма продает только качественный товар! Сегодня, в честь юбилея... - Он выкладывал и выкладывал, опорожняя объемистую сумку.
Простецкий, некрашеный обеденный стол радужно засиял красочными этикетками, никелем и пластмассой.
- Аппарат предназначен... - привычно тараторил наш коробейник. - В магазинах его цена двести рублей, наша фирма в честь юбилея предлагает...
Гость улыбкой сиял, словами сыпал, убеждая. Но в какой-то момент, по нашему равнодушию, он, видимо, начал понимать тщету надежд своих, стал гаснуть.
И в самом деле, не нужны были в этом дворе ни ножи, ни терки, ни прочее. У хозяев - своя машина, в город часто наведываются. Да и чем завлечешь людей пожилых и поживших? Все это, кажется, поняв, торговец сник и смолк.
- Мое дите... - пожалела его сердобольная Валентина. - Ты откуда взялось? По такой жаре. Садись в тенек. Молочка тебе кисленького или холодного кваску? А может, чего похлебаешь?
Молодой человек послушно уселся, квасу попросил, но выпил немного, на вопрос ответив:
- Нас привезли. В ту деревню, а меня в эту... - И завел было прежнюю пластинку: - Наша фирма в честь юбилея...
Но хозяйка его остановила:
- Фирма твоя... Мучают детей по такой жаре. Кто у тебя чего возьмет? Тут одни старики. Ни у кого и денег-то нет.
Хутор и вправду глухой, доживающий. Колхоза нет и работы - никакой. Лишь пенсии, рубли да копейки на хлеб. Кому тут нужны ножи золингеновские. Галди не галди, хоть разбейся, не всучишь.
Молодой человек квасу выпил, и сразу его пот прошиб. Побегай по такой жаре да в такой амуниции. Лицо его, волосы были припудрены пылью. Белая меловая пыль покрывала рубашку, серея на вороте; брюки припорошены, черные башмаки и вовсе.
Но рассиживаться он не стал. Поднявшись, собирал и складывал в сумку свои товары.
- Погоди! - остановила его хозяйка, поднимая глаза на мужа. - Давай хоть какую-нибудь турунду купим.
- Зачем тебе?
- Дите в такую даль мучалось, по жаре... Начальство ругать будет, что не продал. А чего тут продашь, кому? Ты у кого уже был?
- Крайние три дома прошел, но там...
- Старый Шахман, Шура... Из них покупальщики. Лишь ноги бил... Не сепети... - попыталась она остудить нетерпение молодого торговца. - Может, рыбки покушаешь? Целый день на ногах...
- Нет, нет! - отказался гость. - Надо обязательно все дома обойти. Обязательно должен продать. Нас специально...
Он уже был готов к дальнейшему бегу, к движенью по дремавшему в летнем зное хутору, где его вовсе не ждали. Разве что дворовые собаки?
- Погоди... - снова остановила хозяйка с приговором. - Мучают детей. Погоди... Чего ноги зря бить. Давай подумакаем. К куме Шуре либо зайти? посоветовалась она с мужем. - Они двух овечек продали. К Володе? А к Зарецким не надо. Они еще кобеля спустят. Может... Мучают детей в такую даль... да в такую жару... Казня... Как тебе ловчей подсказать...
- Пойди да отведи, - подначил ее насмешливый супруг.
- Взаправди! - не поняв шутки, на ноги поднялась хозяйка. - Он и к куме не пройдет, там Роза ощенилась, злющая, на всех кидается.
Хозяин открыл было рот, чтобы жену урезонить, но лишь рукой махнул. Разве убедишь?..
И вот они подались. Жаркий полдень. Слепит глаза белая меловая дорога. В пухлой горячей пыли тонет нога. Обомлевший от зноя хутор. Немолодая женщина в белом платке. Отекшие ноги, ход неторопкий. С ней рядом - юноша с картинки или с неба упавший: белая рубашечка, галстук, черные брюки, аккуратный пробор на голове. "Наша фирма в честь юбилея..."
Они уходят. Мы остаемся в тени, у стола. Даже здесь жарко. Знойный полдень. Безветрие. На небе - ни облачка.
НА УСАДЬБЕ
Великое дело - телефон, тем более - один на хуторе. Новости сбирать не надо, они сами собой идут. Прибредет старый человек, детям в станицу позвонит, пожалуется на здоровье, на квочку, которая никак на гнездо не усядется, хоть ты ее гвоздями прибей. Другие договариваются с райцентровским магазином, чтобы свинью ли, бычка забить и сдать целиком, тушею. Это - жизнь. Порой примчится раскуделенная Верка Рахманиха:
- Больница! Строчно приезжайте! Строчно!
В сельской больнице люди мудрые, болезнь рахмановских мужиков для них не секрет. Тем более, что единственная больничная машинешка на все четыре колеса хромает. Берегут ее для дела, больничная округа - пятьдесят верст.
- Вы клятву Гиппократа давали! - вскипает Верка. - Вы свято должны ее исполнять!
Что значит восемь классов закончила, всякие слова знает. Но доктора здешние и не то слышали. Пошумит Верка, брякнет телефонной трубкой и - ходу.
Приятель мой, хозяин двора и телефона, недовольно бурчит, осматривая аппарат: "А он, между прочим, не колхозный, колотить его. Пузырек от Коли Бахчевника вам поможет, а не "скорая", - ставит он безошибочный диагноз и, глянув через забор, добавляет: - Туда она и намылилась, к Коле. Сразу бы надо, без этих... Гиппократов. И аппарат целее".
Но самых впечатляющих спектаклей возле телефона нынче, видимо, не дождемся. На дворе - июнь, а Городские носа не кажут. Видно, нажились, нарыбачились, воздухом хуторским надышались. Самого Городского вроде бы от должности отставили. Кончились казенные машины да шофера. А своим транспортом сюда добираться далеко и накладно. Видимо, и спектакли закончились. Молочного производства на хуторе не будет, не получит город и экологически чистых овощей.
Но обо всем по порядку, не забегая.
Дом и двор, где я по летнему времени порою гощу, от просторного поместья Филюковых отделяет лишь скотий прогон да пустошь, на которой стояла когда-то хуторская почта. Филюковское поместье пустует который уже год. Хозяев нет: Праскуня умерла; Иван сразу же перебрался к сыну, в райцентр, где недолго прожил. Но усадьбу он успел продать случайному городскому человеку, помешанному на рыбалке. Места тут - рыбацкий рай: малая речка, Голубинская старица, Дон, озера.
Городской рыбак в первое же лето привез семью: жену да мальчонку. Был он каким-то начальником, при шофере и казенных автомобилях: то белая "Волга" его привозила, то вездеход "УАЗ", судя по погоде. Привезут, увезут. Обычно на выходные. Но порою неделю живет и больше. Рыбалка - его страсть. Чуть свет он уже на речке. Щук ловил, и очень удачно. Семью свою рыбою закормил.
Имени да фамилии его никто не запомнил. Так и остался Рыбаком или Городским, хотя городские на хуторе не редкость. Но те - свойские, а этот напоказ чужой: белотелый, с пузцом, бабьим просторным задом, в очках и при соломенной шляпе - ни дать ни взять городской. И разговор бестолковый: "Какая рыбалка... Это просто удивительно... Мне просто не верят... Это невероятно: на четыре килограмма щука..."
В городе, может, такие разговоры и к месту. А здесь народ серьезный. Сомик пудов на пять - это интересно. Или весною за один "плав" поднять три ли, четыре сотни чехоней. Об этом стоит гутарить: под каким берегом вентирь ставил, "сплывал" да в какое время. А что твоя щука...
Но Городской был очень доволен жизнью на хуторе: охал, ахал, закатывая глаза. Жена его занималась нехитрым хозяйством, мальчонкой, любила чаевничать посреди своего двора, счастливо приобретя в собеседницы тоже ненашенскую молодуху, которая еще недавно работала на телеграфе в далеком городе Ош, а нынче бедовала на хуторе, в чужой хатке, попав сюда неизвестно зачем и как.
Одна баба - ум, две - вовсе кладезь.
Но виноват был еще и филюковский двор: просторное поместье, в котором жилой флигель занимал лишь малое место, а все остальное - скотьи сараи, стойла, базы, прибазники, закуты, рубленые амбарчики, клуни. Словом, поместье, в котором городской мальчонка забредал и терялся; находили его только по реву и не враз. А еще - немереный огород, просторная левада, полого стекавшая к речке.
Завязку будущих спектаклей я пропустил. В очередной приезд неожиданно встретил на хуторе земельного начальника из райцентра. Тот уже отъезжал, в ответ на мой вопрос засмеялся.
- Вам скучно, мы ездим и веселим. Все землю просят... - добавил он уклончиво.
Я подивился. Земли вроде все уже наелись. Какие брали, назад вернули. В том числе и мой хуторской приятель. Но мало ли...
И вот тут начались телефонные страсти, каких еще не бывало. Что молодая Рахманиха... Прошумит привычное: "Обязаны! Клятву давали!" И нет ее.
У Городских все много серьезнее. Вначале вдали слышится заливистый голос хозяйки: "Гал-гал-гал..." - на весь хутор. И отзывается под горой. "Гал-гал-гал..." - подпевает ей подруга-телеграфистка. А сам Городской, которого от речки отлучили и ведут к телефону по делу серьезному; он поддакивает бабам, точно бьет в глухой барабан: "Реально... Это реально... Вполне... Вполне... Очень реально..." Да еще мальчонка верещит, и лает приблудная шавка. Словом, табор цыганский. Все ближе и ближе.