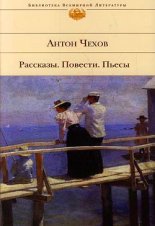Игры марионеток Юденич Марина

Потом, вспомнив еще один, где-то подсмотренный медицинский прием, приподнял безжизненное веко, и аккуратно, кончиком мизинца коснулся глазного яблока – реакции не последовало.
Он медленно провел руками вдоль тела, пытаясь на ощупь обнаружить повреждения, но не нашел ничего и только отметил, что гладкая кожа женщины на удивление холодна.
«Странно – подумал он, продолжая свои исследования – но ведь она погибла только что, несколькими минутами раньше, когда же успела остыть?»
И тут же нашел ответ.
Холодно.
Теперь была уже ночь, хоть и весенняя, майская, но все же довольно прохладная, а женщина одета в тонкое платье.
Она просто замерзла, потому и кожа так холодна.
Но почему она так странно одета?
Руки, между тем, коснулись ее головы.
Пальцы немедленно запутались в свободно распущенных, тонких волосах, довольно длинных, и вроде бы, – светлых.
В лунном сиянии лицо женщины казалось странным.
Неживым-то уж точно.
Но еще – неземным.
Тонким, прозрачным, хрупким.
С правильными, но мелкими чертами, слишком острыми, что, несомненно, вредило ее красоте.
Впрочем, заостриться они могли совсем недавно, после того, как женщина умерла.
Теперь в этом не оставалось сомнения.
Он медленно распрямился и замер, не зная, что делать дальше.
В голове промелькнула еще одна случайная, вроде бы, мысль.
«Случись кому – подумал он вдруг – наблюдать за мной из укрытия, он непременно решил бы, что перед ним холодный, расчетливый убийца, или того более – маньяк»
Это было, бесспорно, справедливое замечание, ибо со стороны его неспешные, методичные действия выглядели зловеще.
Однако ночное шоссе было по-прежнему пустынным, даже ветер, тот, что разогнал давеча дождевые тучи, стих.
Все вокруг замерло, затаилось в ужасе перед самой смертью, которая бестелесным призраком явилась сюда, чтобы забрать то, что принадлежало ей по праву.
Однако, было в этом глубоком, абсолютном безмолвии еще нечто.
Возможно, впрочем, что это нечто почудилось только одинокому человеку, застывшему у темной обочины.
И было это просто спасительным самообманом.
Но как бы там ни было, он вдруг ощутил, что пространство с ним заодно, что оно не только не осуждает его, но и, напротив, выступает и намерено выступать впредь верным, молчаливым сообщником.
Он сделал несколько неуверенных шагов к машине, потом ускорил шаг.
Мерцание красных сигналов в ночи неожиданно показалось предательской выходкой, направленной на то, чтобы обнаружить его присутствие.
Он почти побежал, но, выскочив на асфальтовую твердь, неожиданно споткнулся обо что-то, и сбавил темп.
Поначалу он не собирался останавливаться и тратить драгоценное время.
Но потом все-таки остановился.
У самой кромки дороги, там, где сходило, на нет, гладкое асфальтовое покрытие, и на него смело наползали дерзкие молодые травинки, опрокинутая вверх острым высоким каблучком лежала женская туфелька.
Он замер на сотую долю секунды, не более.
Но следом, подчиняясь, внезапному импульсу, нагнулся и, быстро подхватив «лодочку» с земли, стремительно бросился к машине.
Прошла еще пара секунд, и завороженную тишину майской ночи снова распорол тревожный звук – взвизгнули, срываясь с места колеса.
Табун лошадиных сил, запертый под капотом, вздыбился, захрапел и отчаянно, словно целая стая хищников вдруг показалась на горизонте, рванул с места в карьер.
Старик. Год 1912
Лев Модестович Штейнбах родился в Киеве в 1912 году.
Отец его, Модест Леонидович, был профессором психиатрии, ученым, что называется, с именем.
Психиатрами были дед, и прадед.
Никто не сомневался, что мальчик пойдет по их стопам, но главное – он и сам не мыслил ничего другого.
Дети любят играть «в доктора», и когда наступал черед маленького Левушки исполнять почетную роль врача, он начинал беседу с «пациентом» не так, как все.
Вместо традиционного «что у вас болит?» или «на что жалуетесь?», он обращался к «больному» с непонятным вопросом, который зачастую ставил партнера в тупик.
– Ну-с, уважаемый, извольте напомнить мне, како сегодня число? – вкрадчиво любопытствовал Лев Модестович, в точности копируя интонации отца.
Октябрьский переворот, как ни странно, не внес существенных изменений в его судьбу.
Конечно, были голод и разруха.
Преданная кухарка Нюся уносила куда-то материнские ротонды и палантины, соорудив из обычной простыни вместительный узел.
Потом в ход пошли уже и сами тонкие полотняные простыни, украшенные шитьем, с вышитой в углу монограммой – приданое матери. Их предприимчивая Нюся выменивала на муку и сало.
На кухне жарили пирожки – пустышки, запах расплавленного свиного сала надолго поселялся в квартире.
Но пирожки получались очень даже ничего, и жить было можно.
Полыхала гражданская война.
Стреляли близко, прямо под окнами профессорской квартиры.
Под звон колоколов входила добровольческая армия, и где-то за городом, по слухам, расстреливали комиссаров.
Потом в город врывались красные – человека могли пристрелить прямо на улице исключительно за то, что имел несчастье носить бородку, напомнившую кому-то из товарищей, бороду низвергнутого Императора.
Ураганом проносились петлюровцы.
Грабили магазины и квартиры, и, разумеется, тоже расстреливали – и комиссаров, и офицеров белой гвардии.
Но позже все как-то успокоилось.
Новые власти, надо полагать, не испытывали особой любви к старорежимному профессору, но душевные недуги, как оказалось, продолжали поражать людей, несмотря на то, что царство свободы вроде бы наступило, а впереди маячило и вовсе безоблачное коммунистическое завтра.
Словом, психиатрическая лечебница, закрытая было по причине войны и разрухи, была открыта вновь, и возглавить ее предложили Модесту Леонидовичу.
Врачевать душевные недуги революционные матросы и свободолюбивые кухарки – хоть и готовы были выполнить любое партийное задание – все же не умели.
Да и не гоже было победившему классу возиться с умалишенными.
Были дела поважнее.
Модест Леонидович предложение принял, чем обеспечил семье, более ли менее сносное существование.
Надо сказать, что с годами оно только улучшалось.
В тридцатом году взамен утраченной в лихолетье ротонды, он преподнес в подарок жене прекрасную котиковую шубку.
Но знаменательным этот год для семейства Штейнбахов стал вовсе не по этой причине. Льву Модестовичу исполнилось восемнадцать лет, и не иначе, как на его счастье появилась, наконец, счастливая возможность получить образование.
Левушка уехал в Москву.
Его учителями стали такие же старорежимные профессора, как Модест Леонидович, так же, как и тот, оставшиеся в советской России, незнамо за каким лешим.
Учеником Лев Модестович оказался прилежным.
И талантливым.
Весьма талантливым, что выяснилось довольно скоро.
Студенческие работы Штейнбаха – младшего привлекли внимание коллег, и вызывали в профессиональной среде живейшие дискуссии.
Идеи молодого ученого были довольно необычны и даже дерзки.
Самые убежденные и последовательные их критики всегда начинали с того, что никакого отношения к медицине вообще, и к психиатрии в частности – исследования Льва Штейнбаха не имеют.
Впрочем, с этим тезисом он никогда не спорил, и всерьез подумывал о том, чтобы оставить медицинский факультет, ради факультета психологического.
Но не успел.
Шквал страшных репрессий обрушился на тех ученых, чьи труды по психологии и философии заставили молодого Штейнбаха отложить в сторону учебники по психиатрии. На его глазах происходило страшное: наука, которой намеревался посвятить себя, с корнем выкорчевывалась из российской почвы.
Впереди были десятилетия отрицания и осуждения.
Изгнание и забвение.
Впереди был мрак.
Разумеется, ничего этого Лев Модестович знать не мог.
Он испытал ужас и шок.
Был обескуражен, растерян, раздавлен, но… остался на медицинском факультете и продолжил учебу.
Однако исследований своих не прекратил.
Риск, как полагал Штейнбах, был невелик, ибо приемы воздействия на человеческую психику, которые, собственно, и были его предметом, могли с успехом применяться в лечебных целях.
Методика была новой и довольно сложной, но разрешение на проведение эксперимента в одной из подмосковных психиатрических больниц было получено.
Результаты оказались блестящими.
Льва Модестовича поздравляли.
Ученые мужи говорили о большом открытии, и… не подозревали, что видят только вершину айсберга.
Достаточно было легкой модификации – и техника Штейнбаха начинала столь же блестяще работать применительно к людям совершенно нормальным.
Их, разумеется, незачем было лечить. Но суть методики, в том-то как раз и заключалась, что благодаря ей, больного человека удавалось привести к излечению, а здорового – подвести к…. ч ему угодно.
Однако ж, фанфары гремели.
Методика Штейнбаха анализировалась и так, и эдак.
Наконец, Лев Модестович, с облегчением решил, что истинных ее возможностей никто так и не распознал.
Он ошибся.
Горина. Власть
«Здравствуй, заяц!
Думаю, сейчас ты очень удивилась.
Просто вижу воочию, как поползли вверх твои тонюсенькие брови.
Кстати, никогда не мог понять, зачем женщины щиплют их, обрекая себя на такие страдания. Неужели ты на самом деле полагаешь, что толщина бровей может всерьез изменить внешность?
Странно это, но даже самые умные женщины – а ты, без всякого сомнения, самая-самая! – подвержены самым глупым бабским заморочкам.
Но я отвлекся.
Итак, ты удивилась уже самому факту этого письма.
Действительно, в чем уж твой покорный слуга никогда не был замечен, так это в пристрастии к эпистолярному жанру.
Но – обстоятельства, которые, как тебе известно, иногда бывают сильнее нас, похоже, постучались и в мою дверь.
Вот, я и сделал одно из самых трудных признаний.
Признал, что обстоятельства сильнее меня.
А поскольку автор этих обстоятельств – ты – что ж! – пой, пляши, торжествуй.
Ты победила.
Поверь, заяц, признавая это, я не испытываю отрицательных эмоций.
Ни обиды, ни досады или злости, даже чувство уязвленного самолюбия не подает голос.
И уж тем более нет в моей душе ничего недоброго, темного, потаенного по отношению к тебе. Не огорчает меня эта твоя победа.
Возможно, и не радует.
Пока.
Потому, что допускаю: если разум мой и сердце будут двигаться в том же направлении – скоро смогу порадоваться тому, что ты, крохотный, пушистый мой зайчонок, стала такой сильной и могущественной, что победила самого меня!
И еще прошу, поверь уж, будь добра мне на слово, все, что я сейчас говорю, а вернее пишу – пишу совершенно искренне. Возможно, более искренним прежде я с тобой не был.
А уж с кем тогда был, если не с тобой?
Ни с кем.
Кстати, еще одно лирическое отступление.
Пишу и начинаю понимать, почему предки оставили такое эпистолярное наследие.
Скажешь, у них не было телефонов, факсов, электронной почты и прочих технических изобретений, сводящих всю сложную гамму человеческого общения к простому нажатию кнопки?
Еще недавно я и сам думал также, но теперь, пожалуй, стану спорить.
Нет, дорогая моя, дело не в этом, или уж, по меньшей мере, не только в этом.
Оказывается – эту истину я открыл для себя только что – проще всего излить душу чистому листу бумаги. Или – ладно, согласен, сделаем поправку на цивилизацию! – персональному компьютеру.
К чему я это?
Да, вот к чему.
Думаю, что сказать все это, глядя в твои ведьмацкие глаза, я бы не смог.
Нет, точно не смог!
Сорвался бы, начал лукавить, становиться в позы, что-то из себя изображать, надувать щеки, умничать.
Да ты сама отлично знаешь весь мой петушиный арсенал!
А вот писать могу.
Перед тобой и перед Богом чист – пишу правду.
Так вот, касательно твоей победы.
Она вызревала исподволь, постепенно и вроде бы незаметно.
То есть, это я долгое время не замечал твоего неуклонного становления.
Для тебя, надо полгать, все обстояло совершенно иначе: ты росла. Полагаю, процесс этот был сознательным и нелегким.
Но я, старый болван, воспринимал тебя в статике, неизменной данностью, ниспосланной Господом. Уж очень мил был сердцу твой изначальный образ: чудное, беззащитное, вдобавок, напуганное до смерти существо, в глазах которого я – только что – не Бог, но уж, небожитель – точно, во власти которого спасти или погубить.
Надеюсь, не обидел тебя этим пассажем, и ты не станешь спорить: был в истории наших отношений такой период.
Потом начались перемены.
Думаю, на бессознательном уровне я их замечал.
Просто не мог не замечать.
Однако, рассудок слишком занят был собственными проблемами, важнее которых не было на свете.
А может, душа моя уже тогда угадала, почуяла угрозу, которую таили в себе эти неминуемые перемены, и малодушно закрывала глаза, не желая признать очевидного.
Когда же настал, наконец, момент истины, я прозрел в одночасье, и увидел новую, тебя.
Повзрослевшую.
Возмужавшую.
Завоевавшую определенные – весьма завидные! – позиции на той стезе, которую долгое время я, самонадеянный идиот, считал исключительно своей прерогативой.
Не скрою, это был жесткий удар.
И сразу же попрошу у тебя прощения, потому что все мое дальнейшее поведение было сплошным отвратительным и стыдным свинством.
Чего я только не делал, чтобы остановить твой стремительный взлет!
И врал, пытаясь убедить тебя в том, что избранный путь тебе не по силам.
И подличал, организуя всевозможные препоны и ловушки.
И откровенно «ломал через колено», грозя оставить, разорвать наши отношения.
Впрочем, в этом, последнем, был честен.
Когда тщетность всех моих усилий стала очевидна, я, на самом деле, решил вычеркнуть тебя из жизни.
Прием этот хорошо известен, и хотя, скажем прямо, не делает чести взявшим его на вооружение, действует неплохо. Суть его проста: фактор, вызывающий отрицательные эмоции следует исключить из обхода.
С человеком – раззнакомиться, рассориться.
Предмет – забросить в дальний угол, а то и вовсе – выбросить на помойку.
Зловредную телевизионную программу – не смотреть.
Эмоции, которые немедленно закипали во мне и били, что называется, ключом, стоило только твоему голосу раздаться где-то поблизости, особенно – в эфире (а ты, как назло мелькала на экране все чаще – журналисты, пожалуй, первыми оценили твои многочисленные достоинства), скажем так, не доставляли мне радости и не делали чести.
И я решился.
Рванул с корнем.
Обрубил концы.
Сжег мосты.
Что там еще говорят и пишут в подобных случаях?
Справедливости ради, замечу все же, что поначалу все у меня получилось.
Мы расстались.
Я знаю, ты страдала.
Прости за то, что напоминаю об этом, да еще в таком высокопарном стиле. А еще прости за то, что мне осознание этого, доставляло некоторое, пусть и не слишком ощутимое, но все-таки – облегчение.
Не скажу – радость.
Радоваться было нечему.
Для меня потеря оказалась куда более тяжелой, чем мог предполагать.
К тому же, то, как я обставил наше расставание, а вернее – если уж быть честным до конца! – собственное бегство, было так гадко и стыдно, что говорить об этом до сих пор не хочется.
Стыдно.
Никогда в жизни, я не чувствовал себя таким трусом и подлецом, как в те дни.
Ты, со свойственной тебе горячностью, искала, требовала объяснений.
Я трусливо скрывался, отсиживался дома, отключив телефоны.
Мысль о встрече с тобой и необходимости что-то объяснять повергала в ужас.
Да и что, собственно, мог я объяснить тебе?
Сказать правду, то есть признать, что ты «переросла» меня, «обошла на повороте» и осознание этого мне невыносимо?
Что женщина, из которой пару лет назад я легкомысленно собирался «сделать человека», состоялась в такой степени, что стала для меня непозволительной роскошью?
Не по Сеньке, дескать, шапка?
Не по сверчку шесток?
И мне от этого тошно, и белый свет не мил?
Но в том-то и была суть проблемы!
Если бы мог я в ту пору признать такое, то и бежать от тебя не было никакой нужды!
Жил бы подле, да радовался.
Нет, гордыня не позволяла.
Она громче всех прочих чувств вопила тогда во мне, моя гордыня.
Сильна был, стерва!
Я чувствовал себя тараканом, мерзким, грязным, помойным тараканом, который, напакостив, в животном ужасе, забился в щель и притворился дохлым. А может, и не притворился вовсе, а на самом деле, от страха сдох.
Жил ли я все то время, пока корчился от зависти?
Очень условно.
Думаю, а вернее, надеюсь, что судьба моя и сейчас тебе не безразлична.
Но уверен, что в те дни ты наблюдала за событиями моей жизни пристально, и потому знаешь, как печально, если не сказать – трагически они развивались.
Далек от мистики, но, право слово, впору предположить, что судьба карала меня за то зло, которое причинил тебе.
Карала жестоко и показательно.
Все, из чего складывалось мое легендарное благополучие: репутация, карьера, связи – все, чему завидовали враги и жаждали последователи, водночасье рассыпалось, словно карточный домик, из основания которого выдернули одну-единственную карту.
Даму, разумеется.