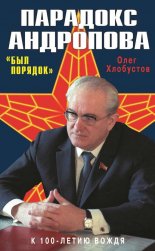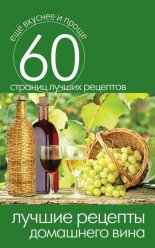Странник Цормудян Сурен

– Подставной казачок этот Данилов. Засланный. Щас вся орава на него кинется, а как раз это кому-то и нужно. Не, не журналист он, точно.
– Может, пройдусь за ним?
– Сиди. Нам ведено не светиться. Вот и не будем. Сейчас коляску милицейскую дождемся, узнаем, кто конкретно дело возьмет – мало ли что, и – можно к шефу.
– Скажешь ему, что мне сказал?
– Зачем?
– Ну, вообще.
– Нечего умничать, когда не спрашивают. Начальство этого не любит. А материала для отчета у нас и так навалом.
Данилов прошел проходной двор, еще один... Ни о чем он не думал. Странно, но в груди снова разлилась щемящая тоска, что только тронула утром душу, а вот теперь... И день как-то померк, и небо показалось неприлично ярким, и он вдруг почувствовал себя совершенно затерянным и в этом чужом городе, и в этой чужой стране, и на этой чужой планете...
...Так уже было когда-то. Он брел по африканскому бушу, коричневая пыль покрывала с головы до пят, запах выжженной солнцем травы к ночи становился терпким и густым, и к нему примешивались совершенно непостижимые для горожанина-европейца ароматы каких-то диковинных растений. Вечером жара спадала, и можно было двигаться дальше, на восток, ориентируясь по чужим звездам. Небо здесь было совсем другое; знакомые с детства созвездия остались далеко, у линии горизонта или за ним, и очертания их были иными. А когда солнце скрывалось за рваной поволокой зари, ночь наполнялась хохотом гиен, оранжевыми огоньками чужих настороженных глаз, ревом, вздохами и – новыми ароматами, неуловимыми днем, и такими яркими в густой фиолетово-черной ночи.
...Данилов брел по этому чужому пространству который день, голова тихо кружилась от усталости и истощения, и, только падая обессиленно на землю, чтобы забыться тяжким, чутким сном, он понимал, что находится не на дальней планете, а на Земле: слишком привычным и реальным было чувство опасности...
Теперь было то же. Воздух, казалось, сгустился, свет начинающего дня померк, Данилов застыл прямо посреди двора, нелепо вращая головой. Все было мирно: старушки у подъездов, пара алканов на лавочке под ивой, бродяжки у мусорных баков... Но ощущение тревоги сделалось острым, как отточенный стилет.
Или это просто нервы? Нужно дойти до дому и расслабиться, потягивая сухое винцо: тревога уляжется, все глупости, совершенные за вчерашний день, покажутся мнимыми и мир вернется в свою колею. Если у бы него, Данилова, была когда-нибудь хоть какая колея! Такая натура: стоило его жизни хоть немножко устояться, как он совершал странные поступки, лишь бы избавиться от того ощущения покоя и скуки, которые обрекали любого, им поддавшегося, на унылое прозябание.
Занятый своими мыслями, Олег пересекал небольшую улочку, когда выскочившая невесть откуда «копейка» понеслась прямо на него. Данилов вяло протрусил до тротуара, но, видно, у водителя крыша давно съехала по резьбе, причем влево:
«копейка», не снижая скорость, вильнула к той же обочине...
Все дальнейшее Данилов не просчитывал. Просто выпрыгнул высоко, сгруппировался; удар корпусом пришелся на верх лобового стекла, Олега подбросило, он перекатился через крышу и неловко упал на асфальт позади автомобиля. Вскочил.
Машина зайчиком скакнула на бордюр, юзанула по траве и боком впилилась в дерево. Олег в два прыжка одолел расстояние до автомобиля, дернул дверцу: та оказалась заперта. Зато-нированные вглухую стекла вызвали только раздражение: шпана вокзальная! Денег на «копейку», а – туда же! В ярости Данилов раскрошил боковое стекло коротким резким ударом, выдернул задвижку, распахнул дверцу.
Первое, что он увидел, был черный зрачок пистолетного ствола. Бледный парниша на пассажирском сиденье что есть мочи жал на курок, совершенно забыв в запарке о предохранителе.
Данилов ударил жестко прямым правой в лицо, выдернул пистолет из разом ослабевшей кисти, глянул на водителя: тот сидел вцепившись в руль, как в спасательный круг, и смотрел на Олега белыми то ли от страха, то ли от закачанной дозы глазами.
– Вылезай! – гаркнул Данилов, выразился крепко и коротко, выдохнул и приказал спокойнее, но тоном, не предвещавшим ничего хорошего:
– Живо, я сказал!
Вот ведь везуха с утра, нечего сказать! Сначала «двое из ларца», теперь – пара обдолбанных торчков, да еще со стволом! Сакраментальный русский вопрос «что делать» даже не возникал; понятно что: задать этим дебилам хорошую трепку, так сказать, для профилактики и до кучи!
Вынырнувшую из-за угла «восьмерку» Олег заметил боковым зрением. Шла она ходко и направлялась к месту аварии. Оч-ч-чень по-хозяйски.
Ждать у моря погоды Олег не стал. Тем более не было здесь никакого моря!
Развернулся и рванул в проходной. Бежал легко, «сквозняк» проскочил в секунды; полуобернувшись, успел заметить ринувшегося за ним из «восьмерки» милицейского сержанта. В табельном «бронике» и с автоматом тот мог догнать разве что беременную старушку, да и то если бабка – с глубокого похмелья.
Олег миновал еще пару дворов, перешел по подземному проспект, завернул в тихий скверик и только тут, на самой дальней лавочке, поставленной выпивохами в густых зарослях одичавших акаций, тормознулся. Это был другой район, и Данилов легкомысленно предположил, что ретивые правоохоронцы искать его сюда не придут исключительно по неподведомственности территории.
Извлек пистолет, который впопыхах сунул за пояс джинсов сзади, и прикрыл тенниской, рассмотрел внимательно. Тульский Токарева, самая популярная модель на просторах страны. Скорострелен, анонимен, прост в обращении. Вот только одна маленькая загвоздочка. Именно у этого экземпляра обойма пуста. И ствол – пропилен. То есть это никакое не оружие, а обыкновенный пугач.
Но это не освобождает голову от размышлений. Ибо если странные случайности неприятного свойства стали сыпаться на тебя, как из драного мешка, то это вовсе не случайности, а закономерности. А все закономерности, как учит диалектика, имеют свои причины. Не говоря уже о последствиях.
Глава 4
Солнце заливало город белым, жара наливалась влагой, обещая будущий дождь, но так было уже не день и не два: тучи, что бродили в прозрачной синеве, наплывали чернотой и даже закрывали порой полнеба, но не проливалось ни капли, и истомленные жарой и духотой люди к вечеру вяло брели по домам, чтобы на следующий день вновь окунуться во влажное душное марево.
Так бывает порой: знойный день, желтея, словно проявляется на пленке, его очертания проступают, и ты вдруг понимаешь, что оказался словно в другом мире, в другой реальности, в другом измерении, что город пуст, что пуста планета, и ты здесь один-одинешенек, и никто не поможет тебе принять решение, да и не может быть в этом чужом мире никакого решения, но не принимать его тоже нельзя...
Город был пустым. Данилов мог бы брести по нему вечность и никого не встретить.
А всполохи воспоминаний спешили непонятной раскадровкой: сочные стебли хвощей в сыром и мелком сосновом подлеске, папоротник у пряно пахнущего ручья, синие и фиолетовые соцветия мать-и-мачехи, листики подорожника у истертой тропки, сочная зелень травы на другой тропке, к безвестному пруду, и гадливая изморозь по всей спине, когда липкий ужик проскользнул прямо под босой пяткой... К чему все эти воспоминания и почему они явились теперь?..
Данилов выверенными движениями разобрал бездействующий пистолет на части, стер краем тенниски отпечатки и веером забросил железки в кусты. Встал, прошел скверик, маленькую площадь, проскочил безымянную улочку, нырнул в подворотню, миновал несколько проходных, выскочил прямо к остановке троллейбуса, рванул было за ним, уже готовым тронуться, но вместо этого остановил уже отошедшую маршрутку, проехал на ней с квартал, остановил на перекрестке, соскочил, попетлял по проулкам, вышел к другому перекрестку, запруженному нескончаемой пробкой, пересек, рванул по совсем безвестной улочке вниз... Снова проходные, забор какой-то реставрационной стройки, еще один... Данилов оказался в дореволюционном строении; проскочил в подъезд, не без труда одолел три пролета полупорушенной лестницы и оказался в огромной пустой комнате, взирающей единственным окном на глухой, красного кирпича, торец такого же покинутого дома.
Ни о чем во время этого спринтерского рывка Данилов не думал. Если и были за ним филеры, конторские или доморощенные, то теперь они его потеряли. Если все это не паранойя. День словно застыл за окнами, прилепленный тенью дальнего старого тополя к выщербленной кладке напротив. Огромная муха зудливо билась в паутине у края окна; казалось, еще рывок, и она вырвется на свободу, но маленький шустрый паучок проворно заскользил по липким нитям, стянул клейкой паутиной жертве лапки, притянул одну к другой... Теперь паучок не спешил, лишь плотнее стягивал кокон вокруг добычи, чтобы потом насладиться обильным пиршеством.
Олег нашел в углу что-то вроде низенького табурета, присел, вытянул из пачки сигарету, чиркнул кремнем, трижды затянулся, не отнимая сигареты от губ и рассматривая комнату. Остатки бледно-зеленых обоев с толщей газет под ними, проржавевшая сетка кровати у стены, продавленная пластмассовая кукла, измятая крышка кастрюли, оловянный солдатик, шахматный король без короны... У кого-то здесь прошла жизнь. И – кончилась.
Данилов дотянулся до солдатика, поднял. Круглая подставка давно поломалась, а в остальном – все как надо: каска, автомат. Когда-то он сам играл такими. Многое было когда-то. И все прошло.
– Неизвестность времени смерти рождает иллюзию безграничности жизни, – услышал Данилов скрипучий голос из соседней комнаты, заглянул, но никого не увидел: она была мала и абсолютно пуста, если не считать заваленного набок фанерного платяного шкафа. – Люди если и взглядывают на часы, то лишь затем, чтобы высмотреть, сколько осталось до сна или До ужина. А в свою смерть они не верят.
Голос раздавался сверху: в высоком потолке зияла дыра, над нею склонился небритый человечек, одетый, впрочем, чисто и опрятно, хотя и бедно. Спросил Данилова:
– Ищете что-то здесь?
– Покоя, – чуть раздраженно откликнулся Олег.
– Вот этого среди развалин искать нечего... – Человечек спустился на этаж и появился в проеме двери. Было ему на вид лет шестьдесят с преизрядным гаком.
– Хотя... Если рассуждать философски... Люди странны: боятся упустить минуты, а опаздывают на целую жизнь.
Человечек вздохнул, Данилов почувствовал свежий запах водочного перегара.
– Папироской не разодолжите? – спросил незнакомец. Данилов высыпал на ладонь горсть сигарет, протянул:
– Пожалуйста.
– Хорошего человека сразу видно. – Человечек забрал штук семь, спрятал в карман, прикурил от предложенного огня, аппетитно затянулся. – Вы не подумайте, я не бомж и не мародер... Просто я один. И общаться совсем разучился. А здесь... Здесь интереснее, чем в кино: и какие только жизни не предстают перед взором, и какие только страсти не полыхают, когда глядишь на все оставленное...
Что у вас? Солдатик?
– Да.
– Видите... И кукла. Почти как у Андерсена. Или у Окуджавы: «В огонь? Ну что ж! Иди! Идешь? И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош...» Что стало с тем мальчиком? Что стало с той девочкой? Что стало со всеми нами?
Человечек вынул из пиджака початую чекушку:
– Будете?
Олег покачал головой.
– А я – выпью. Мне хорошо здесь. Мне милы вещи ушедшего века и ушедшей страны. Среди них вспоминается о хорошем. – Человечек приложился к горлышку, несколько раз дернул острым кадыком. – Хотя – знаете, в чем штука? Ностальгия – это память вовсе не о прошлом, это воспоминание о том, что в нем так и не состоялось... Есть у души странное свойство: проникаться чужими видениями, мыслями, эмоциями, и вот они становятся настолько близки, что делаются частью твоего опыта и твоей жизни... «Я в старый троллейбус сажусь на ходу, последний, прощальный...» – Голос у человечка дрогнул, на глазах показались слезы. – Господи, если бы я знал тогда, сорок лет назад, когда в нетрезвом молодом беззаботстве горланил эту песню на Ленинских горах, если бы я знал, что троллейбус уйдет так скоро и уход его будет столь невозвратен... А я все продолжаю стоять на остановке и все жду, жду... Чего? Или – кого?
- Вот и все разбрелись по дорогам,
- И забылись дурью вчерашней,
- Как осенние псы по острогам,
- Доверяя любови бражной.
- Вот и все побежали в осень,
- А я еду – от моря к морю,
- Чтоб из прошлого бросить мостик,
- С непутевой жизнью повздоря,
- А я еду из лета в лето,
- Разрываю ненужную повесть...
- Вновь листвою земля согрета,
- Как под ветром озябшая совесть. [4]
Да, молодой человек. Листва согревает землю, а кто согреет вас, когда уже не останется впереди лета, когда на порог ступит восьмой десяток и вы окажетесь в одиночестве никому не нужным и никому не важным? А мир останется молодым, он будет ликовать, но без вас, и душа ваша – а душа не старится, потому что юна и бессмертна! – возжаждет прибиться к этому празднику, но убогое тело, что было когда-то гибким и послушным, станет ей помехою и обузой...
В два глотка человечек допил водку, глянул на Данилова устало:
– Уходите отсюда, молодой человек. Здесь не место молодым людям и молодым вещам. Четыре стены и пятая, в окне, что перекрывает даже ветер... Она стоит здесь несокрушимой кладкой уже более века и смотрит на человекообразных с невозмутимой непроглядностью сфинкса... Стены переживают людей, но куда обиднее другое: людей переживают вещи. Их собственные вещи. Вас это не забавляет?
– Нет.
– И меня тоже. Хотя порой и приходит этакое бешенство, и хочется изломать вокруг все и вся! – Человечек вздохнул. – Или вы хотите вспомнить о чем-то? Что ж, подводить итоги жизни никогда не рано, но знаете что? Таким, как вы, нельзя оставаться долго в покинутых местах. Они обольстят вас, и вам не захочется возвращаться. Так кончается жизнь.
– Разве вы не живете?
– Я фантазирую. Вы слишком молоды для этого. И – сильны. Уходите. Иначе вам станет некуда идти. Или – вас гонят? Данилов бросил на человечка быстрый взгляд.
– Ну да, гонят, я не ошибся.
– Мне нужно подумать.
– Здесь невозможно думать. Только жалеть о том, что не сбылось. У меня есть для этого досуг именно потому, что его не заполнить ничем иным. А вам нужно идти. Кстати, как вы сюда забрались?
– По лестнице.
– Вот как? Она же почти развалена «реставраторами»! Смотрите не сверните шею на обратном пути.
– Пустое.
– Я надоел вам... – вздохнул человечек. – Ну Что ж... Может быть, вы и правы. В вашем возрасте воспоминания связывают настоящее с будущим, в моем – лишь тревожат душу тоской несбывшегося, но не лечат... Водка помогает справиться с памятью, когда несостоявшееся прошлое становится мучительным. – Он пристально посмотрел на Данилова, произнес:
– Ведь вас кто-то ждет.
Лицо человечка сморщилось, и он стал похож на совершенного старика. Не говоря ни слова, незнакомец церемонно поклонился Данилову, мелкими бесшумными шажками вышел из комнаты и словно пропал. Олег обеспокоенно встал, вышел на действительно чудом державшуюся на двух ржавых арматуринах лестницу, но никого не увидел. Незнакомца не было. Он и не спускался: на пяти ступеньках кряду Олег загодя рассыпал ровным слоем старую штукатурку и битое стекло на случай, если кто захочет подобраться неслышно, и миновать бесшумно эту «контрольно-следовую полосу» старик не смог бы... Пропал. А прочитанные им стихи остались.
Глава 5
«Вот и все разбрелись по дорогам...» Так о чем толковал этот странный незнакомец? О жизни? И о смерти? Странно... Счастье он даже не упоминал.
...Летний день наполнен светом. Там, за огромным ясным окном, – нарядные люди, начало мая и впереди еще все лето, и впереди – вся жизнь.
Его отец – молодой, сильный, веселый, он подбрасывал маленького Олега высоко-высоко, к самому-самому небу, а небо оставалось далеким, и Олежка смеялся беззаботно, и казалось, такой будет вся жизнь... Он слышал упругие удары духового оркестра и пошел на них, и зашагал вместе с оркестром, а позади шли нарядные люди, и они пели, когда колонна останавливалась: «Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя – ты самая любимая...»
И это была правда: нельзя победить веселых и молодых.
А родители, не найдя его во дворе; бросились искать, и отец метался вдоль колонны, и увидел его, подошел, но совсем не ругал, а только поговорил с музыкантами, а Олег продолжал улыбаться во весь рот, и ему было хорошо и от теплого воздуха, и от солнца, и от упругих ударов большого барабана, в который толстый дядя дал ему стукнуть обмотанной толстым войлоком тяжелой палкой, похожей на богатырскую палицу, и Олег тут же представил себя богатырем Добрыней, созывающим киевлян на пир к князю Владимиру Красное Солнышко... И еще он услышал за спиной женский голос:
– Этого, что ль, мальчонку искали? Он потерялся?
– Да ты что, Татьяна? Вот и отец. Да и разве такие – потерянные?
А он пошел обратно к дому, к маме, и чувствовал – его ладонь обнимает сильная и широкая ладонь отца, и от этого было спокойно и хорошо.
...Отец умирал два года. Олегу тогда исполнилось девять или десять, в свой день рождения он пошел к отцу в больницу, тот начал уже вставать после инфаркта. Больница располагалась за городом, был теплый нежаркий августовский день, пахло смолой, солнце ласкало бликами сквозь хвойные ветви, отец сидел на поляне и вырезал узоры на прутике многолезвиевым перочинным ножом. Узорчатый прутик он подарил Олежке, ножик тоже – это был настоящий клад, там были даже крохотные ножнички! Отец попросил оставить ножик ему до следующего раза, ничего, кроме как вырезать, он еще по слабости не мог, но Олег не согласился, закапризничал: он уже представил, как покажет эту редкую игрушку во дворе, как обзавидуются пацаны: такого ни у кого не было! И – постарался побыстрей уйти.
Резной прутик поломался в тот же день, ножик стащили, а вот теперь...
Теперь ему было стыдно. И будет стыдно всегда. Папа тысячу раз простил бы его, но сам Данилов себя не простил.
И было стыдно потом, когда он приехал к отцу уже в другую больницу, и там пахло какими-то мазями, тяжелым потом, нездоровьем... Он боялся этой больницы, ему было очень неуютно там и беспокойно, и он торопился: торопился домой посмотреть какой-то фильм, которого и названия-то теперь не помнил... Он так и не остался тогда с отцом, а тому ведь немного было нужно: посидеть рядом, потрепать по волосам, просто видеть...
И потом, когда отец после инсульта возвратился домой, он уже не говорил, и что-то пытался сказать, и раздражался, а Олежка психовал, уходил в спальню, тыкался лицом в подушку и плакал... Его злило тогда, что отец беспомощен, что, несмотря на эту беспомощность, он что-то требует, и на чем-то настаивает, и выключает телевизор, и отправляет спать...
И еще – папа растил цветы. Он едва передвигался по квартире, ночами стонал от боли так, что Олежку порой отправляли спать к соседям... А цветы были везде: они вились по стенам гирляндами, цвели на балконе в ящичках до самой поздней осени, расцветали на подоконниках... А потом папа умер.
Олегу тогда было одиннадцать. Он часто плакал. И еще – играл. Он представлял себя то последним из спартанцев, защищавшим родной город, то русским воином. И любил играть в солдатиков. Одним из солдатиков был он сам.
...Когда Олег вырос, мама его ждала. А он все уезжал и уезжал. И наверное, обижал маму бессчетно: она отличалась характером жестким и своенравным, он был такой же, и каждый желал всегда настоять на своем...
...Когда-то она подарила ему машинку-амфибию. Машинка плавала в ванне и перевозила солдатиков с одного берега на другой, и Олежке казалось, что это Африка. Он выключал свет и подсвечивал воду фонариком: фонарик был самый обычный, но – о чудо! – он светил из-под воды, и переправа была тяжелой, и не все добирались живыми...
...Мама болела часто, она старилась, но она ведь была всегда и, казалось, будет всегда... А потом попала в больницу. Когда он приехал, ее уже выписали.
Мама умирала четыре дня. Она ничего не ела и не пила, щеки запали, нос заострился... Дважды приезжала «скорая», врачи бестолково суетились вокруг и только разводили руками. Двоюродные и троюродные тетушки приходили, смотрели, тихо пили чай на кухне, шептались: «Отходит».
Олег спал рядом на полу. Мама не была беспокойной, лишь иногда, а он чувствовал тупое бессилие и усталость – от невозможности чем-то помочь и даже вообще понять, что происходит.
Потом дыхание ее сделалось совсем тяжелым, поднялась температура, казалось, мама задыхается, Данилов снова вызвал «скорую», та не приезжала, он сам побежал на станцию... Женщина-врач посмотрела, произнесла мало-мальски понятное слово: «абсцесс», потом другое: «Госпитализация. Немедленно».
Они закутали маму в какое-то пальто, Олег кинулся искать шаль, не нашел, отыскал какую-то шапку черного каракуля, которую мама, кажется, и не надевала ни разу и не носила... Потом ее подняли в покрывале, понесли вниз по лестнице... Мама была легкой. И дурацкая шапка была ей велика, сползала на лоб и глаза, и мама, и без того исхудавшая, становилась вдруг неузнаваемой, и Олег непрестанно, уже в машине, все поправлял и поправлял шапку...
Потом были каталка, рентген, приемный покой, очень красивая медсестра, что брала у мамы кровь из пальца и исчезла как видение, оставив после себя запах необычайно дорогих французских духов... Никто не суетился, все знали, что им делать, это успокаивало... Маму увозили на каталке, Олег погладил ее по волосам, поцеловал, прошептал что-то, что – он теперь и не помнил... Молодой доктор звонил куда-то, сказал, что место ее будет в реанимации, что абсцесс будут оперировать сейчас, ушел, а Олег все ходил по коридорам, сжимая в ладошке полусотню, не зная, кому отдать деньги, потом отдал какой-то медсестре в приемном покое...
Была ночь, и шел снег. Он падал крупными хлопьями, и ночь была звездной, а воздух – пряным и свежим, с ароматом морозца и сосновой смолы, а на душе сделалось спокойно и даже радостно: мама вовсе не умирала, просто врачи не могли найти причину болезни, а теперь вот нашли, и теперь ее вылечат...
Пролежит она недели две, не меньше, а он успеет сделать работу, потому что денег нет совсем, а потом вознаградит врачей, и все еще будет хорошо... И он пошел домой.
Возвращался он попуткой, приборы светились зеленым спокойным светом, снег лепил в ветровое стекло, а Данилов не ощущал ничего, кроме усталости.
Следующим утром он был радостно-возбужден. Он пришел в больницу, нашел нужный этаж, открыл дверь в ординаторскую, спросил о маме.
Доктор был усталым. Олег еще что-то продолжал говорить, а доктор уже встал, подошел к нему, сказал просто, словно отчеркнул всю прошлую жизнь Данилова от теперешней:
– Она умерла.
Потом он тихо говорил еще что-то и еще... «Недавно был повторный инфаркт... как следствие, отек правого легкого... абсцесс... возраст...»
Все это было не важно. Данилов даже не спросил, когда это случилось... Он знал: ночью. Под падающий снег, что укрывал землю белым-белым...
А потом были хлопоты, и девять дней, и сорок дней, и тупая усталость, и головные боли, неотвязные, изматывающие, а Данилов впервые понял, что остался совсем-совсем один.
Сиротство ощущается просто: ты никогда уже не вернешься туда, где тебя будут любить только потому, что ты есть.
...Олег чиркнул зажигалкой, прикурил сигарету. Не правда, что итоги жизни подводятся к ее закату. Его итог неутешителен: четыре стены чужого дома, и он даже не знает, стоит ли ему возвращаться... Хотя... Нужно вспомнить хотя бы один счастливый день. Или мгновение...
...Стояла ранняя осень, день был ясен, прозрачен, свеж... Олег проснулся рано-рано, тихо оделся и вышел из дому. Он добежал до подземки, бабушки только-только собрались и выставляли в ведра пряно пахнущие хризантемы и астры, их были целые охапки, и он купил такую охапку, свежую, еще в росе, и пошел домой... Да что шел – летел! Теплое солнце струилось сквозь золотое кружево листьев, и аромат был такой, что его можно было пить, как это ярко-синее небо, как ласку лучей, как любовь...
Когда он вернулся, жена еще спала, и он рассыпал цветы по подушке, и она проснулась, и они были счастливы, и глаза ее были как небо... Казалось, так будет всегда. Но потом она ушла. Совсем.
Квартиру Данилов разменял на гостинку: нужно было расплатиться с долгами, и оказался в другом районе и в другой жизни. В таком городе, как Москва, поменять район – это почти что поменять город. И даже люди другие.
А потом он уехал далеко-далеко. К чужим звездам, дивным цветам, океану...
Еще там была девушка, что любила бродить по самой кромке прибоя... И все тоже кончилось.
Но остался страх полюбить, потому что страх потерять любовь уже обжился где-то под сердцем, делая его кусочком льда, а собственное жилище – уголком замка Снежной Королевы, в котором ты замурован неприкаянным Каем, боящимся любви и тем – предающим ее...
Данилов вернулся в Москву, и город показался ему еще более пустым и чужим, чем был до того, как он его оставил. Впрочем, любой город пуст, если тебе некуда пойти.
Олег даже заходил в свой старый двор, но там давно не осталось ничего, что напоминало ему о детстве: деревянную горку, "бывшую для него когда-то и крепостью, и плавучим домом, снесли; спилили и старый тополь... В прежних местах не найти покоя, как не найти сочувствия в прежних женщинах. И это правда.
В Княжинске скончалась двоюродная тетушка, Данилову осталась квартира, и он уехал в Княжинск, не намереваясь задерживаться, но задержался потому, что ему было все равно, где жить.
Так было до вчерашнего дня. А потом начались странные неприятности. Так что он делал вчера? То же, что и сегодня. Лежал и думал. О жизни.
Глава 6
Жизнь зависит от нашего отношения к ней. По крайней мере наполовину.
Другая половина жизни складывается из того, как она относится к нам. А к нам она относится соответственно сопротивлению всему хорошему, что она нам дарит.
Люди горды. И не желают подарков. А если таковые и случаются, стараются поскорее от них избавиться. Например, от счастья. Ибо счастье – это прежде всего со-участие в других и со-чувствие. Такую ношу не каждый захочет сносить.
Невыносимая легкость бытия... Наш скудный духом век убогие духом вожди провозгласили «веком личности»: дружбу, любовь, привязанность сочли покушением на ее постылую свободу и тем – навязали большинству неприкаянную гордость одиночества.
Данилов лежал на спине и глядел на небо. Небо было сочно-синим, как бывает всегда после долгой непогоды. Он не хотел ни о чем думать. Но это и было самым трудным: заставить себя не думать...
Странно, но многим людям совершенно наплевать на то, что с ними происходит. Важно лишь то, что случается. Выдали зарплату, напился муж, подгуляла жена... Все их отчаяние сосредоточено в ругани, алчности, пьянстве, а понимание происходящего лишь будит дремлющую зависть. Никому не нужна справедливость для всех; справедливость же к самим себе люди определяют просто: количеством удач, денег, того, что принято называть жизненными благами. Людям нужна не правда, а лишь видимость благопристойности.
Олег перевернулся на живот и стал смотреть на воду. Река пробегала мимо, где-то на том берегу играли в мяч... Все пройдет. И это тоже. Останется лишь смутное воспоминание... Бегущая вода, солнечное тепло, ласкающее плечи, кружево листьев над головой... Он закрыл глаза. Зима кончилась. Кончилась. Ему на миг даже пригрезилось, что она кончилась навсегда. И никогда он больше не увидит ни унылых прохожих, вязнущих в жижеве неубранных тротуаров, ни заиндевелых троллейбусов, лязгающих при каждом движении бесхозными железяками дверей, будто старческими зубными протезами, ни серых домов, скользких от влажных потеков хлипкого беспогодья и кутающихся в простудно-мглистый предвечерний сумрак, как в сырую вату. Олегу порой казалось, что и людям зимой хочется укутаться, укрыться, замереть сухими пчелиными остовами между оконными рамами до тепла и света, чтобы с первыми лучами ожить вновь, зазвенеть натянутой леской и – ринуться в скупое разноцветье лугов, в пряный аромат трав, в желтое медовое тепло липового лета...
Но и призрак зимы никуда не делся. Вот и теперь, пусть на мгновение, и река показалась Олегу занесенной рыхлой и грязной пеной, и деревья из шумящих сочной листвой пологов словно превратились в застывшие безжизненные колоды, исчерченные черными штрихами мертвых сучьев.
Воздух упруго вздрагивал от ритмов стереосистемы на том берегу.
Хорошенькое растет поколение... Активное. Действие рассеивает беспокойство по поводу жизни. Да и чего тревожиться, если мир принадлежит молодым? Свежесть и обаяние можно обменять на все – на богатство, благосостояние, сытость... Это кому повезет. Но не получить ни любви, ни привязанности.
Не важно. Молодость эгоистична, самонадеянна и самодовольна. И разве может представить себя юная нимфетка обрюзгшей, нагруженной сумками теткой, озабоченной пререканиями с болезненной свекровью, безденежьем, радикулитом, с некрасивыми толстыми ногами в синюшных венах?.. Разве может увидеть себя белокурый атлет пузатым алканом с потухшими глазками, с одышкой, разящей луком и воблово-водочным перегаром, с болями в подбрюшье, с непреходящей усталостью?
Вынужденным ходить изо дня в день на никчемную работу и возвращаться в постылую конуру квартиры, чтобы выслушивать сварливые выговоры выживающей из ума тещи и видеть дебелую крикливую жену?.. Да еще и пятнадцатилетняя дочь, смолящая в подъезде косячки, облизавшая уже всех окрестных самцов, злая, дерганая, глядящая на папашу, как на природное недоразумение... Разве это может случиться с молодыми?
Никогда. Потому что молодость вечна и не допускает мысли о том, что их родители были когда-то такими же: глупыми, взбалмошными, нерасчетливыми...
Старики, им уже за сорок! Что остается в этом возрасте? Кое-как доживать. И только. Мир принадлежит молодым.
...Но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться...
Данилов услышал, как подъехал тяжелый автомобиль, остановился, скрипнув тормозами. Олег приоткрыл глаза и метрах в тридцати узрел рифленый протектор джипа. Вздохнул и снова расслабился. От крутых, как от солнца, – никуда.
Олег никогда не загорал на грязнющем городском пляже: не ленился прошагать с километр вдоль какой-нибудь из многочисленных проток Борисфена, чтобы устроиться в одиночестве. Музыка, что доносилась с другого берега, делала его уединение не столь печальным. Эти же ребятки, судя по отдаленности от цивилизации, намерены повеселиться вовсю: с винцом, шашлычком, девчонками. Флаг им в руки, барабан – на шею, пилотку – на голову.
Данилов не желал себе признаваться в том, что был даже рад сомнительному и довольно бесцеремонному соседству. Одиночество плохо тем, что, если человек не занят конкретной работой, оно начинает быстро доставать пустопорожним умничаньем, и проблемы, так недавно казавшиеся забытыми или решенными, вдруг всплывают из глубин подсознания укоряющим набором совершенных несуразиц, приведших к вовсе уж плачевным результатам. А так... Можно, пусть мысленно, подосадовать на гундосый музон, позлословить про себя туповатых недорослей из джипа, впрочем чуть-чуть завидуя притом их немудрящей алчности и аппетиту к водке, мясу и девкам, и, чувствуя внутреннее превосходство, убедиться с затаенной тоской, что между тобою и Солнцем по-прежнему никого. Вполне простительная рефлексия для интеллектуала без определенных занятий.
Олег опустил голову на руки и закрыл глаза. Все звуки вокруг словно укрылись томным туманом, ему виделся уже какой-то желтый пляж, сине-лазурное море под выцветшим от зноя небом, треугольный парус, мающийся в дальнем мареве, затененная дорожка куда-то наверх, к белому дому, окруженному двором, занавешенным рыбацкими сетями, пряно пахнущими водорослями и морем... И сам он сидел на тенистой террасе за дощатым столом с запотевшим кувшином терпкого красного вина и знал, что в комнатах позади дремлет в пос-лелюбовной неге похожая на девчонку загорелая женщина с соломенными от солнца волосами, и маленький белоголовый мальчик спит в колыбели, и у его кроватки пахнет печеньем и молоком, и мальчик улыбается во сне, и сны его полны моря, любви и света... И он, Олег, знает, что жизнь продлится вечно, и сын вырастет и станет сильным, и море будет все так же ласкать берег, и рыбак под треугольным парусом будет все так же скользить по податливой глади где-то у горизонта, и счастье будет бесконечно...
...Полковнику никто не пишет, Полковника никто не жде-о-ет...
Данилов открыл глаза. Трое крепко подвыпивших стриженых пацанов заунывно тянули эту песню, поочередно прихлебывая ром из массивной цветастой бутылки.
Девчонка была почему-то одна. Ей вряд ли было больше пятнадцати. Она сидела на земле, вытянув ноги и прислонившись спиной к бамперу автомобиля, и тоже цедила из горлышка какое-то вино.
Сначала Олег хотел встать и уйти. Но вставать было лень: солнце грело спину, река несуетливо несла свои воды, обрывки сна еще бродили в мозгу, и Данилов хотел лишь одного: вернуться туда, в затененный двор, к белому дому и солоноватому запаху моря... Он закрыл глаза, нестройное пение стало постепенно удаляться, и снова заклубились под теплым бризом легкие занавески, и женщина с ребенком на руках сидела у моря на желтом песке, и волны добегали к ее ногам ласковыми курчавыми щенками.
Глава 7
Крик был пронзительным и резким. Олег принял его за крик раненой птицы; он поднял голову, но вместо далекого морского неба увидел ажурную крону дерева.
– Не-е-ет! Пустите! Не хочу!
Девчонку держали двое, заломив ей руки за спину и уложив грудью на капот машины. На ней остались только трусики и кроссовки. Стриженый верзила ухмыльнулся:
– Заткните ей пасть! Не хочет она... Кто девочку ужинает, тот ее и танцует... – гоготнул. – Пониже наклоните, – и одним движением порвал трусики и сдернул их.
Отступил на шаг, лакомо облизал губы:
– Ну надо же краля, а, Сазон? Просто конфетка! «Резинка» у кого есть?
– Да ладно, Хыпа, зараза заразу не берет, – хрипло отозвался Сазон. – Начинай уже, очередь ждет!
– Не-е-е-ет!
Крик девчонки был пронзителен. Данилов выругался про себя, – дура, подобрали, видно, покататься, тогда зачем садилась, зачем выпивала? Чего теперь орать? Он чуть привстал на локте, произнес:
– Ребятки, вы бы ласкою, что ли, а?
Хыпа обернулся:
– Че-го?
– По-моему, девочка не хочет.
– Ты чего, доходной? Лежи ветошью, понял? Пока мы добрые!
– А что, бываете злые?
– Че-го? – Хыпа оглянулся на Сазона. – Что это за петух драный, а, Сазон?
– Фильтруй базар, сявка! – резко ответил Олег. На секунду Хыпа смешался, окинул взглядом Данилова, но не заметил ни единой росписи.
– Понты гнешь, петушок? Ну ты допросился, сейчас Манькою станешь.
– Может, его к дереву прибить, Хыпа? Чтоб не отсвечивал? – подал голос второй подручный.
– Это дело, Мося. За базар отвечаешь?
– А то.
– Иди прибей. – Хыпа нехорошо прищурился, глянул на Подельника. – Помочь?
– Справлюсь.
Квадратноголовый Мося выпустил руку девчонки, заглянул в открытую дверцу машины, порылся в бардачке и секунду спустя уже шел к Данилову, неловко переваливаясь. В руке его был зажат молоток. В другой – гвоздь.
Данилов вздохнул несколько раз скоро и глубоко, медленно выдохнул, промямлил, стараясь выглядеть испуганным:
– Ребята, вы чего, я же шутил...
– Ты уже дошутился. И чего тебе не лежалось? – Мося глядел пьяно, глумливо. Оскалился:
– Не бойся, я тебя не больно прибью.
Он подошел, стал напротив, замер, то ли примериваясь, то ли стараясь продлить предощущение чужой боли.
Олег смотрел в землю, постаравшись расслабить все мышцы. Начало движения он даже не почувствовал – ощутил. Молоток, описав короткий полукруг, несся прямо в ключицу; Олег отклонился чуть назад, удар «провалился», Данилов легонько ткнул противника костяшками по запястью, рукоять выскользнула из руки, и молоток тяжело упал в песочную пыль. Удивиться своему промаху Мося не успел:
Данилов коротко ударил в точку над верхней губой, и противник, дернув головой, рухнул на месте как убитый.
– Пожелания? Аплодисменты? – натянуто улыбнулся Олег.
Хыпа побелел лицом и пущенным из катапульты камнем ринулся на Данилова. На короткий встречный удар он нарвался, как бык на оглоблю; Олег шагнул в сторону, и бесчувственное тело грузно рухнуло в пыль.
Сазон, короткими шажками обходивший Данилова справа, желая помочь вожаку, замер на месте, но отступать было поздно: убежать он бы уже не успел. Щелкнуло лезвие выкидного ножа, Сазон, наступая, отмахнул им раз, другой... Искра страха, какую Олег заметил в глазах парня, быстро истаяла, уступая место привычной уверенности. Сазон приблизился, сделал ложный выпад левой, ловко перехватил нож обратным хватом и молниеносно нанес удар. Олег поймал руку на захват, рванул вверх, поставил локоть на излом; крик боли взорвал тишину;
Данилов коротко, без замаха, ударил Сазона в основание черепа, и тот затих.
Олег натянул джинсы, кроссовки, захлестнул шнурки и пошел к автомобилю.
Девчонка, щурясь, смотрела на него, а когда он подошел, взвизгнула вдруг:
– Не хочу! – и маханула рукой, как кошка лапой, целя ногтями по глазам.
Олег легко поймал руку, перехватил, одним движением развернул девчонку к себе спиной, толкнул к реке.
– Нет! – снова крикнула она, но поперхнулась от нового сильного толчка в спину и упала на песок.
Олег подхватил ее под живот, словно котенка, вошел в реку и опустил в по-весеннему холодную воду. Девчонка погрузилась с головой, вынырнула, хрипя и отплевываясь, Олег толкал ее снова и снова, пока она, испуганная, наглотавшаяся воды, не залепетала:
– Хватит, хватит, ну пожалуйста, не надо...
– Не надо – так не надо, – пожал плечами Олег и не оборачиваясь побрел к берегу. Подошел к машине и вдруг резко ударил в ветровое стекло, вложив в этот удар всю сдерживаемую даже во время драки ярость. Удар был столь силен и скор, что стекло не развалилось: кулак просто пробил в нем дыру, от которой во все стороны заветвились паутинкой трещины.
– Эй... – Девчонка стояла по колено в воде, мокрая, замерзшая, неловко прикрывая ладошками низ живота...
И тут Олег словно впервые заметил и ее наготу, и то, как она хороша...
– Эй... Можно... можно я выйду уже? – попросила девчонка, клацая зубами.
– Выходи, – пожал плечами Олег.
Хмель, похоже, еще бродил тяжкими волнами в ее голове, но Олег заметил: взгляд заметно прояснился.
– А ты не будешь...
– Приставать?
– Да. И драться.
– Нет. На сегодня хватит.
Девочка, все так же прикрываясь руками, вышла на берег, хлюпая промокшими кроссовками, наклонилась за трусиками, произнесла озадаченно:
– Порваны...
Олег хотел было сказать ей что-то резкое и злое, но, встретив ее беспомощный взгляд, только пожал плечами:
– Стало быть, пикник не удался, – подумал, спросил, кивнув на лежащих пацанов:
– Дружбаны в претензии не будут?
– Да я их вообще не знаю! Да и... – Девушка, прикрываясь платьицем, неожиданно выпрямилась, лицо ее скривилось презрением, и она произнесла надменно:
– Замучаются претензии выставлять! – потом бросила взгляд на лежащих парней, побелела:
– Ты их что, убил?
– Много чести. Отлежатся.