Золотая симфония Миллер Лариса
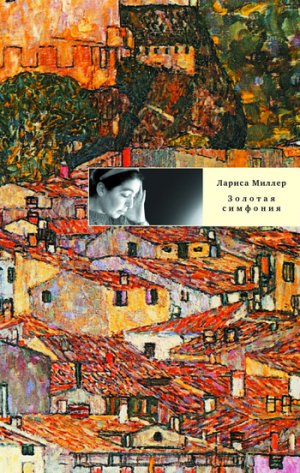
Все жили так, будто настал конец света, и не сегодня-завтра все рухнет. Полное затмение. И мне было немного стыдно за странное возбуждение и любопытство, которое я испытывала в те дни.
О, жизнь, русалочьи глаза твои! Как хотелось равномерности, устойчивости, простого доверия к человеку, с которым рядом. Ведь я никогда не знала, чего ждать от близких: какие страшные у них бывали лица, как жестоки они бывали друг к другу. Сколько раз, слово за слово, и разыгрывалась бурная сцена из-за пустяка. Вот моя мама, с искаженным злобой лицом, хватая со стола нож, бросается к бабушке, выкрикивая бессвязные, страшные слова. Бабушка рвет на себе кофту, обнажая худую шею.
- Убью,- кричит мама.
- Ну, убей, убей, - истерично и звонко отвечает бабушка.
Я забивалась в угол и, кусая руки, смотрела на них. Мир рушился. Казалось, прежняя жизнь кончилась навсегда, и тогда обычные картинки прежней жизни представлялись недостижимым, несбыточным счастьем: вечернее чаепитие под оранжевым абажуром; мама что-то рассказывает бабушке, уютно устроившись в кресле и подвернув под себя ногу; бабушка смеется звонко, по-девчачьи, то откидываясь назад, то сгибаясь в три погибели: "Ох, не могу", - стонет она. Постепенно смех ее переходит в кашель, и мама делает паузу и ждет, когда бабушка откашляется. Воскресное утро с неизменным ритуалом дедушкиного бритья, за которым я наблюдаю, лежа в кровати. "Как прекрасно это море", - насвистывает дед, водя бритвой по ремню, привязанному к ручке зеркального шкафа. "Жжик, жжик, жжик"- такой домашний звук. Такая дорогая картинка: дедушка в нарукавниках, намыленные щеки, аккуратные, экономные движения, деликатно оттопыренный во время бритья мизинец, а на столе, на куске газеты - горки мыльной пены, посеревшей от сбритых волосков. Мама, лежа рядом со мной, читает мне вслух, гипнотизируя меня неожиданными модуляциями голоса и странной мимикой: она то шепчет, то выкрикивает слова, брови ее то сходятся к переносице, то взлетают. Я почти не понимаю слов, наблюдая за ее голосом и лицом. И все, что она читает, кажется заколдованным и таящим какой-то второй, недоступный мне смысл. И вот все рушится. "Убью, Убью", - кричит мама и, нелепо выгнув худенькое запястье, сжимает побелевшими пальцами нож. Где мне было знать, что она никогда не ударит этим ножом, что слова, которые она выкрикивает, не имеют прямого смысла, что передо мной две издерганные, больные женщины, пережившие войну? Проходили дни, шла обычная жизнь, а я еще долго заглядывала им в лица, спрашивая себя: "Да было ли все, что было, и помнят ли они?"
Сколько бы раз ни повторялись эти сцены, я не могла к ним привыкнуть. Так хотелось цельности, определенности и чтоб можно было сказать о человеке: "Он не способен на такую низость. Он этого не сделает. Он так не скажет".
И вот такой человек рядом. Каждый день с ним - подарок. Он рядом со мной уже много лет. Мне кажется, до него я жила так, будто стояла на скользком мшистом камне. Когда-то в детстве, живя на море, я очутилась далеко от берега на огромной черной камере. Камера спустила и моей единственной опорой стал скользкий камень, покрытый мхом. Я стояла на цыпочках, высоко задрав подбородок, чтоб вода не затекала в рот. А мох шевелился и жил под моими ногами, и чудилось, что опора вот-вот исчезнет. Солнце слепило, от колеблющейся воды кружилась голова. Казалось, малейшее движение, даже звук, и я захлебнусь, потеряв равновесие. Меня спасли, но ощущение, что стою невесть на чем и вот-вот уйду под воду, осталось, пока не появился ты, ставший моим берегом, твердью, единственной незыблемостью на свете.
Ты был мне обещан давным-давно, в те времена, которые удерживает детская память. В эвакуации я дружила с белокурым мальчиком, который носил твое имя. Мы были неразлучны: нас купали в одной ванне, одной мочалкой и одним куском мыла. Мы откусывали от одного ломтя хлеба. Нас одевали в одинаковые серые с красной каймой платья. И когда оказалось, что мальчику надо ехать в Сибирь к отцу, мы плакали, обнявшись. Нас оттащили друг от друга, и между нами вырос темный, голый стол. Мы еще были в одной комнате, но уже врозь. Нас разделяло нечто тяжелое, дубовое, непреодолимое. Мне казалось, этот стол и есть причина разлуки, препятствие, которое нельзя обойти.
Наверно, и вправду мы рождаемся с памятью о разлуках, радостях, любви и потерях, бывших до нас. Мы рождаемся с этим грузом, еще не имея собственного. И каждый раз собственный опыт есть как бы узнавание того, что неосознанно жило в нас до рождения. Иначе почему так потрясла меня, трехлетнюю, эта разлука? Иначе почему, еще не зная утрат, я все детство боялась за своих близких, особенно за деда? Когда садились в транспорт, я всегда стремилась пропустить его вперед, опасаясь, что он не успеет сесть и двери захлопнутся, прищемив ему ногу. Я никогда не жаловалась ему на дворовых ребят, потому что боялась, что он вступится за меня и его обидят. Он был худенький, двигался легко, и всегда занимал удивительно мало места. До сих пор не понимаю, откуда такая грация и деликатность у еврея самоучки, выросшего в нищей, многодетной семье, в которой он рано стал единственным добытчиком? Он говорил тихо, но с сильным еврейским акцентом, имел ярко выраженную еврейскую внешность и всегда привлекал к себе внимание. Я особенно боялась за него, когда началось "дело врачей". Однажды он провожал меня к учительнице музыки. Мы шли по улице, и он тихо напевал. Встречный мужчина грубо задел его плечом и просипел: "Пой, пой, жидовский нос. Скоро не так запоешь". Помню свой тогдашний ужас, потому что я, маленькая, не пережившая ни одного погрома и вряд ли знавшая о них тогда, без труда вообразила всеобщую ненависть и готовность к рукопашной. Что ж это такое, как не врожденная память о чужих кошмарах? Будто до нынешней жизни прожила другую жизнь и, может быть, не одну, а несколько. Не оттого ли, слушая какой-нибудь русский романс, вдруг затоскуешь по старому усадебному быту, по разным его подробностям, которые, начни перечислять, покажутся литературой, а неназванные ощущаются остро, живо, как собственное прошлое.
Не оттого ли, когда слышу "Пречистенка, Остоженка", сердце сжимается от тоски по старой Москве, хоть и не звались так московские улицы на моей памяти. И живи я тогда, не в Москве бы жить мне, а где-нибудь в черте оседлости.
А где-то на стыке моего и чужого опыта сохранилось воспоминание (воспоминание ли?) об эвакуации из Москвы: вокзал, толпа и папа, в какой-то лохматой куртке держит меня высоко над головой, чтобы мама и бабушка, которых он потерял, увидели меня. Я плыву и плыву над людскими головами и вдруг пронзительный бабушкин крик: "Ларочка-а-а". Что было дальше - не помню.
Память дискретна: вспышка и снова темно. Вспышка - и я вижу товарный вагон, печку-буржуйку, возле которой суетятся люди: бабушка чистит печеную картошку, перекладывая ее из руки в руку, дует на нее, солит, и протягивает мне. Я откусываю прямо из бабушкиных рук. Изображение снова гаснет, а когда вспыхивает, вижу, как бегаю по вечерней куйбышевской улице во время воздушной тревоги, пытаясь поймать, сжать а ладонях мечущиеся прожектора. Мне не удается, и я, скинув варежки, ловлю и ловлю их голыми руками.
Но могу ли я помнить все это, если мне было тогда полтора-два года? И все же граница между чужим и собственным опытом иногда столь подвижна и неопределима, что и не знаешь, где свой, где чужой.
Потому, вероятно, еще и не зная утрат, я всегда жила так, будто знала их в какой-то прежней жизни. И любую устойчивость, стабильность принимала не как должное, а как редкое везенье и поблажку. И чем дальше жила, чем больше в эту жизнь врастала, тем становилась уязвимее.
С раннего детства жизнь одергивала меня, уча оглядке. Но мыслимо ли научиться недоверию, когда лишь доверие позволяет жить. Лишь веря, что воды не затопят нас, ветры не сдуют с лица земли, ближний не нанесет удар в спину, можно дышать, детей растить и спать ночами. А в детстве полон доверия к каждому, готов каждому открыться. И так хорошо, когда в двух шагах живет подружка и можно то и дело бегать друг к другу.
Мы сидим в моей комнате, жуем пряники. Я читаю подружке свой стишок про ненавистную всему классу учительницу рукоделия. Я только вчера его сочинила и мне не терпелось поделиться:
Гром гремит, земля трясется,
Видно, Поленька несется
На высоких каблуках,
С рукоделием в руках.
Вызывает ученицу,
Ставит сразу единицу.
Единица не плоха,
Ученица - ха, ха, ха.
Наташа смеется: "Перепиши мне. Я сестре прочту", - просит она. Я переписываю стихи, а она стоит за моей спиной, жуя пряник.
На следующий день в нашем классе - пионерский сбор. Я только недавно вступила в пионеры и меня недавно выбрали звеньевой. Я была счастлива и, то и дело, гладила новенькую нашивку на рукаве формы. В середине сбора моя подружка Наташа, староста класса, подняла руку, аккуратно поставив локоть на парту.
- Что, Наташа? - обратилась к ней учительница.
- Миллер стишок написала про Полину Николаевну. Пусть прочтет.
- Прочти, - обратилась ко мне учительница. Я молча глядела на Наташу.
Наташа смотрела прямо перед собой. Потом поднялась, вынула из кармана аккуратно свернутый листочек, который я накануне ей вручила, и сказала: "Если она не хочет, прочту я".
Когда она прочла, девочки захихикали, да и учительница с трудом сдерживала улыбку. Наташа обвела всех спокойным взглядом. "Я думаю, всем ясно, - произнесла она, - что после этого Миллер не может оставаться звеньевой".
Класс притих. Учительница в растерянности переводила взгляд с меня на Наташу. Наташа села, и порывшись в портфеле, достала пенал. Открыв пенал, она извлекла из него бритву, и направилась к моей парте.
- Встань, - обратилась она ко мне, - Надо срезать нашивку.
- Оставь, Наташа, она сделает это дома, - произнесла, наконец, учительница. Наташа вернулась на свое место, убрала бритву в пенал, пенал в портфель, опустила крышку парты и положила на парту локти. Сбор продолжался.
Мое лицо горело. Во рту было сухо. Я никак не могла осознать случившееся и найти этому определение. Простое слово "предательство" пришло не сразу.
Но жизнь продолжалась: дом, каникулы, школа. Вот выбегаю из школы, из темноты, из духоты на мартовский свет. Голове жарко. Снимаю теплую шапку и несу ее в руке. Течет с карнизов. Подставляю под струю макушку, ладонь, воротник, шапку. Ворсинки на шапке слипаются, и я приглаживаю их то в одну сторону, то в другую, то в разные. Мою под струей галоши и портфель. Портфель блестит, а брызги летят мне в глаза. Струя, падая на ладонь, на асфальт, на мех, звучит то звонко, то глухо. Дома оказывается, что намокли учебники и расплылись чернила в тетрадях. Раскладываю учебники на батарее и завожу новую тетрадь. Гладкая, разлинованная страница пугает своей чистотой. Приникшая к ней промокашка, вызывает трепет. Я снимаю промокашку и кладу ее под левый локоть. Трогаю кончик пера, чтобы убедиться, что он чистый и целый. Потом обмакиваю перо в чернила и вывожу первые слова на чистой странице: "Двадцатое марта". Даю себе клятву писать без единой помарки, и рука дрожит от волнения.
Такой свет за окном! Заметно каждое пятнышко на окошке. Отчетливо виден слой пыли на чернильном приборе, в центре которого белая сова ночник с зелеными глазами. Правда, глаза у нее сейчас тусклые и пыльные. Я обтираю их пальцем. Палец становится серым. Потом обтираю пальцем сову и весь мраморный чернильный прибор. Провожу пальцем по клеенке на письменном столе, а потом иду к пианино. Вот где можно разгуляться! Вожу пальцем по подсвечнику, а потом размашисто пишу на черной крышке пианино: "Двадцатое марта". Поднимаю крышку и пишу с внутренней стороны. Пылинки пляшут в столбике света.
Я подкладываю под себя клавир "Евгения Онегина", чтобы удобней было сидеть, начинаю заниматься музыкой. Подолбив надоевший этюд, поиграв его отдельно левой, отдельно правой рукой, начинаю просто перебирать клавиши. Потом достаю из-под себя клавир. Наигрываю первые такты, листаю дальше, останавливаюсь и, тыча пальцем в ноты, напеваю: "Слыхали ль вы за рощей глас ночной, певца любви, певца своей печали..."
Мне нравится рыться в нотах. Ставлю перед собой какие-то рассыпающиеся странички. Они не стоят, обмякают и валятся мне в руки. Я придерживаю их левой рукой, а правой шарю по клавиатуре. На нотах карандашом написаны пальцы, обведена лига, что-то перечеркнуто. Кто-то уже бился над всем этим, путал пальцы, рвал лигу. Нотные странички на ладан дышат, а с музыки, как с гуся вода. Так чудно находить нужные клавиши, нажимать и вдруг обнаруживать, как звуки, сцепляясь друг с другом, рождают нечто отчего дух захватывает. Тайные речи этих созвучий еще темны для меня, но трогают и томят. Тайна. Тайна. Преддверие. Будто, прильнув, гляжу в чьи-то окна, и мне оттуда машут, улыбаются, зовут. Но вхожу и снова оказываюсь снаружи, снова ряды окон, к которым приникаю. И снова машут, зовут. Захожу и снова снаружи.
Кружу, кружу вокруг да около. Пытаюсь проникнуть внутрь, но не проникаю. Нажимаю клавиши. Они отвечают мне, но ответ уклончив.
Нарушаю белизну чистой страницы, но все сводится к упражнению на твердый и мягкий знак.
Иду сквозь звенящий, болтливый, весенний день. День болтлив, но сокровенного не выбалтывает.
И дома хранят тайну.
Вот старый одноэтажный дом, в котором живет моя учительница музыки. В одном из окон открыта форточка и оттуда доносятся звуки музыки: медленная сбивчивая игра. Подхожу к окну и, загородившись от света, вглядываюсь в полумрак комнаты. Слышу голос моей учительницы: "раз-и, два-и". Вижу темный рояль. Стучу в окно, как было условлено. Не слышат. Стучу громче. Учительница кричит кому-то, и маленькая фигурка бежит отпирать. Спешу во двор, оттуда вход в дом. Вход с крыльцом и металлическим узорчатым навесом.
Крыльцо увито каким-то вьющимся растением: голые прутья обвивают металлический узор. Толстые стволы старых деревьев загораживают окна, будто находятся в сговоре с этим домом.
Но и проникая внутрь этих домов, я не постигаю их загадочной жизни.
Вот мы в гостях у старой больной музыкантши, к которой наша учительница привела нас на прослушивание.
В тесном коридоре царит высоченное тусклое зеркало в витой раме. Мы оставляем шапки и варежки на подзеркальном столике и входим в полутемную комнату, всю середину которой занимает рояль. В комнате пахнет старыми книгами и лекарством. В кресле сидит старуха в длинной юбке и валенках. Она не может передвигаться из-за болезни ног. Рядом с ней круглый стол с лекарствами, книжками и баночкой монпансье.
Мы играем, и старуха слушает нас напряженно и внимательно. Потом неожиданно звучным голосом делает замечания, просит сыграть снова и принимается энергично отбивать такт худой веснушчатой рукой.
Пока играют другие, я смотрю на картины, развешанные по стенам и гадаю, что за люди и улицы изображены на них. Вон молодая красавица на портрете - вдруг это та старуха, которая слушает нас сейчас. А что там за скалы и море на дальней картине в углу комнаты?
Все загадочно. И ступеньки при входе в дом, и полутемная комната, и крыльцо, увитое ползучим растением, и больная старуха с сильным голосом, и весеннее таяние, и слепящее солнце, и пылинки в солнечном луче - что со всем этим делать?
"Этот сладостный недуг/ Это вечное стремленье/ Обладать лучом и тенью/ И принять в ладони звук..."
Я прикасаюсь ко всему, но не могу постичь, не могу коснуться сердцевины, не могу разгадать загадку, которую вроде бы никто не загадывал мне.
Старый книжный шкаф моего детства. В нем множество книг. Некоторые без обложек. Листаю страницы, нюхаю их, гляжу на пометки, читаю и проваливаюсь в неведомый мир. Меня морочат непонятные страсти и судьбы. Читаю до рези в глазах, а потом, очнувшись, с трудом стряхиваю с себя чужую жизнь.
Две книжных полки шкафа отведены маленьким стихотворным томикам. Открываю их наугад. Выбираю, что покороче, и читаю, шевеля губами: "Все отнял у меня казнящий Бог..."
Отнял. Казнящий. Жутко. Но какие загадочный слова. Они не пугают, а завораживают.
... Открываю толстую тетрадь, беру карандаш и ластик. Долго грызу карандаш, ковыряю ластик, тычу в него грифелем, и какие-то смутные чувства переполняют меня. Наконец, решившись, пишу первые слова: "В доме на Песчаной справляли новоселье..." Пишу долго, увлеченно, боясь кончить и мечтая о конце. Пишу простенький рассказ об одной семье. Там семейные ссоры, дни рождения, плохие отметки, примирение и счастливый конец. Кончив, испытываю чувство облегчения. Пробегаю глазами по строчкам. То ли я хотела написать, сама не знаю. Но зато как чисто написано - ни одного зачеркивания. Все что не нравилось, я стирала ластиком. Приятно зажать в ладонях всю толщу исписанных страниц: Во сколько написала!
Но главное еще впереди: я понесу этот рассказ в самый заветный дом моего детства. Там живут друзья моего отца, оставшиеся нам с мамой "по наследству" еще с довоенных времен.
Я всегда вижу этот дом зимой: заваленный снегом переулок, погребенные под снегом деревянные домики. Длинная дощатая лестница, у подножья которой веник. Мы с мамой сметаем снег с обуви и идем наверх. Толкаем одну из дверей и попадаем в игрушечную переднюю, где на плитке жарится яичница с ломтиками черного хлеба. Эта передняя отделена от остальной части комнаты длинными шторами. Раздвигаем шторы и входим в комнату, посреди которой деревянный столб, вросший в пол и потолок. Кажется, что лишь усилием этого столба заставили крышу дома приподняться и выделить место двум пожилым людям. И они так обрадовались обретенному пространству, что бросились холить и нежить каждый его сантиметр: набили полочек, расставили книги, развесили картины, поставили у стены пианино. Верх столба разрисовали замысловатым узором, а пониже набили полки для книг.
В этой комнате работают: пишут книжки про писателей и музыкантов. Я люблю хозяев этой комнаты. Люблю читать здесь своя рассказы. Мне нравится, как тетя Лиза всхлипывает от умиления, едва я начинаю читать, а дядя Леша тихонько покрякивает и барабанит пальцами по столу: "Ну-с, говорит он, когда я кончаю, - молодец, Ларка. Шпарь дальше".
Тетя Лиза обнимает мою голову и прижимает к груди.
Потом начинается то, что я люблю больше всего.
Мы с дядей Лешей забираемся в самый угол дивана. Я сажусь к нему на колени, и мы принимаемся сочинять сюжеты. Он начинает, я продолжаю. И наоборот. Он выдумывает невероятное и обрывает свой рассказ в самом интересном месте. "Ну-с, продолжай", - говорит он мне.
А потом рядом с нами ставят низенький столик и мы пьем чай.
На прощанье я обнимаю дядю Лешу за шею и говорю: "Я вас люблю блаженски".
А потом того дома не стало. Не стало и тех людей. И не тогда их не стало, когда они умерли, а гораздо раньше, когда они напечатали все свои труды и переселились в шикарную квартиру, став ее важными и чопорными хозяевами.
Но заветный дом жив. Я поднимаюсь по несуществующим ступенькам давно снесенного дома и прошу тетю Лизу: "Сыграйте, пожалуйста, вальс Грибоедова". А потом дядя Леша снимает с пюпитра старинные ноты, на которых написано: "Грибоедов. Два вальса", делает на них надпись почерком Грибоедова: "Моей любимице на добрую память".
... И снова март. И глаза ломит от света, и птицы поют. Я хожу с сыном по улицам своего детства. Вот и переулок, куда бегала на уроки музыки. В какое окно стучала? В это? Нет, кажется в то. Как теперь определить? Окна наглухо забиты железными щитами и двери тоже. Видно, дом готовят к сносу. Заколоченные окна - укор мне. Я так и не разгадала их тайны. Но помню дыхание и запах этого дома, и как западали клавиши рояля моей учительницы, и как она трясла мою кисть и требовала: "Свободней руку, свободней".
"Свободней руку", - говорит молоденькая учительница музыки моему сыну. И он карабкается по тем же нотам, по каким когда-то карабкалась я. Срывается и карабкается снова.
* * *
Дом - это Иверский или Казачий.
Может, сегодня зовется иначе
Тот первозданный кусочек земли.
Мельница вечная, перемели,
Перемели все, что временем мелется.
Имя и дата пускай переменятся...
Так непримяты сегодня снега,
Будто бы здесь не ступала нога.
Чистая скатерть для трапезы стелется.
Все перемелется, все перемелется.
Над головою белы облака,
Новая сыплется с неба мука.
Новая мука для нового хлеба
Сыплется, сыплется с белого неба.
Все перемелется, все истечет
Вечность другие хлеба испечет.
Детства давнишнего нету в помине.
Крыша разобрана в той половине,
Где этажерка стояла в углу.
Вмятины две от рояля в полу.
Слышу его дребезжащие нотки.
Вижу следы допотопной проводки.
В дом прохудившийся валится снег,
Свой совершая замедленный бег.
Вижу себя: как в замедленной съемке,
Папку для нот тереблю за тесемки,
Ноты беру и готовлю урок,
Песню учу под названьем "Сурок".
В ней про сиротство, скитанье земное.
Где б ни скиталась, повсюду со мною
В память и душу запавший урок:
Преданный, тихий, печальный сурок.
Глава II
Письмо, послание, прошенье
Мама
Старинные часы на гардеробе. Те самые из моего детства: склоненная над книгой бронзовая женщина, тонкая рука, подпирающая щеку. Все то же. Только циферблат без стрелок. Часы сломаны. Они стоят в квартире моей мамы, которая недавно умерла. Совсем недавно. Еще живет в комнатах ее запах. В прихожей стоят тапки, хранящие форму ее ступни с подагрической косточкой. Возле зеркала - золотистое колечко ее волос и расческа, которой она провела по волосам, уезжая в больницу. Рядом обручальное кольцо и часы, что так беспомощно болтались последнее время на ее исхудавшей, посиневшей от уколов руке. Тупо брожу по квартире. Со дня маминой смерти прошла всего неделя. В прошлую субботу папин голос из больницы. Слабый, дрожащий голос. Едва его услышав, я все поняла. Нет! Нет! Нет!
Да! От такой болезни не спасают и не на что было надеяться. Но слаб человек, и малейшее улучшение рождает надежду. А улучшение было, и маму выписывали из больницы домой то на неделю, то на две. И мы сидели в ее уютной кухне и пили кофе, а по вечерам звонили друг другу по телефону. "Ну, как ребятки?", - спрашивала меня мама. "Так поздно не спят?"...
Я еще не жила в этом мире без мамы. Жила с ней, подле нее, отдаляясь, приближаясь, терзаясь несхожестью душ, тоскуя по детству, когда ни с кем не было так хорошо и празднично, как с ней. Делаю первые шаги в мире, где ее нет. Она приходит только ночью, садится возле меня, и мы вместе смотрим старые снимки. "А это помнишь, когда было?" "Помню. После ноябрьской демонстрации. Малокаменный мост." "Сколько тебе тут лет, девочка?" "Девять, наверное." Поднимаю голову, а ее уже нет. Бегу, зову и просыпаюсь.
Суббота, еще суббота. Уже две недели со дня маминой смерти. Мы с сыном снова на Кутузовском проспекте в маминой квартире. Приехали навестить моего отчима. Сидим на кухне. Едим сваренный к нашему приходу обед. Папа старательно и серьезно нас кормит. Папа. Тридцать лет назад меня заставили называть этого человека "папа". А теперь я держусь за драгоценное слово, как за соломинку. Мы с ним держимся друг друга. Мы звоним друг другу, и он задает мне мамины вопросы: "Ну, как ребятки? Еще не спят? Я купил тебе сыр и баночку меда. И рижский хлеб, который любит Павлик. Может, заедешь в конце недели?" Мы сидим на кухне, а рядом на полу рулоны обоев, которые папа снял с антресолей. "Возьми их себе, деточка, говорит он. Мы собирались в июне делать ремонт. Возьми их. Тебе пригодятся. Мы за ними долго стояли. Разбери фотографии, книги, ноты. Возьми что тебе нужно".
Разбираю книги. На многих дарственные надписи писателей, художников, актеров - всех тех, с кем мама встречалась, у кого брала интервью, работая в журнале "Красноармеец" в военные и первые послевоенные годы: "На память Изабелле о первых наших встречах. Вас. Качалов, 1944 г.". "Белле Румер (мамина девичья фамилия) с любовью. Мих. Жаров, 1945 г." Вот тоненький "Василий Теркин", "карманная" книжечка, выпущенная издательством "Молодая Гвардия" в 1942 году. На титульном листе - надпись: "Изабелле Вениаминовне, замученной редакционными невзгодами, - с пожеланием всего лучшего. А.Твардовский. 14.7.1943".
Вот сборник стихов Степана Щипачева с посвящением: "Милой Белочке. Пусть эта книга когда-нибудь и потом напомнит об этих днях, о нашей редакции и об авторе этого творения. Ст. Щипачев. 26.5.44."
Миниатюрная, рассыпающаяся книжка Анны Ахматовой, изданная в 1921 г. На титульном листе под строгим названием "ANNO МСМ XXI" надпись: "И.В.Румер на память о встрече - Ахматова 22 апреля 1946 г. Москва."
Скромное военное издание "Железного потока" с посвящением, сделанным старческим неровным почерком: "Т-щу Румер Изабелле Вениаминовне, прекрасному редактору, перед настойчивостью ее никто не устоит. На память А.Серафимович. Москва 10.12.44."
Английские народные баллады, подаренные: "Дорогому "Красноармейцу" Изабелле от всей души" С. Маршак 1942 г.
Журнал "Красноармеец", в котором мама работала до 1946 года, это огромный дом с колоннами, который все называли ЦДКА. Это большая, круглая площадь Коммуны. Это газетный киоск возле троллейбусной остановки, где почему-то иногда продавали кукольную посуду, непреходящую мечту моего детства. Непреходящую не потому что мечта не воплощалась, а потому, - что маленькие алюминиевые вилки легко гнулись, ложки легко ломались, тарелки легко терялись. Все приходило в негодность, еще не успев надоесть, и я снова тянула маму к газетному ларьку. Мама покупала мне новый набор, и мы шли к маме на работу, где я проводила целый день, когда меня некуда было деть и не с кем было оставить. Я доставала из маминой сумки целлулоидного голыша, строила для него дом из толстых подшивок журнала "Красноармеец" в красном кожаном переплете и кормила его из новой посудки.
Журнал "Красноармеец" - это черный кожаный диван, на котором маме иногда удавалось уложить меня днем поспать. Журнал "Красноармеец" - это мамин начальник Виктор Васильевич, болезненный, тихий в гимнастерке и валенках. Виктор Васильевич и его вечная шутка: "Ну что, черноглазая, опять глаза не промыла?".
Журнал "Красноармеец" - это макет Сталинградской битвы на первом этаже. Объемный макет в человеческий рост, куда мне однажды разрешили войти. Скинув тапки, я шагнула за барьер, внутрь макета и оказалась средь огня и дыма. Боязливо оглянулась, и увидела у самых своих ног окровавленного солдата с гранатой в руке. Не помня себя от страха, я торопливо, боясь что-нибудь нарушить, засеменила прочь, к маме. "Красноармеец" - это странные таинственные разговоры о самоубийстве секретарши Леночки, которая повесилась в приемной своего начальника. Это страшная новость о том, что начальника посадили. Начальник этот был главнее Виктора Васильевича. Я всегда думала, что он начальник всего дома с колоннами и даже всей круглой площади. Звали его Василий Иванович. Его кабинет находился возле макета Сталинградской битвы. Большой кабинет и большая приемная. Но мы с мамой никогда не ждали в приемной. Мама весело открывала массивную черную дверь и, пропустив меня вперед, входила следом. А Василий Иванович вставал нам навстречу, широко улыбался, брал мамину тонкую руку в обе свои и усаживал маму в кресло. Я любила ходить к нему, особенно накануне Нового года, потому что тогда уж я непременно получала новенький, пахнущий типографской краской пригласительный билет на елку. Пригласительный билет с профилем Сталина и Кремлевской башней на обложке. И вдруг Василий Иванович исчез. Мы с мамой больше никогда не подходили к его кабинету на первом этаже. Много лет спустя, придя домой из школы, я увидела за столом очень худого, лысоватого человека с ввалившимися щеками. Он встал мне навстречу и улыбнулся. Господи, да это же Василий Иванович. Неужели он? После его ухода я засыпала маму вопросами, припомнив загадочные рассказы о Леночке. Мама нехотя и скупо объяснила, что Леночку несколько раз вызывали в какое-то важное учреждение и расспрашивали о начальнике. Она возвращалась на работу, измученная и в слезах. Когда начальника арестовали, она повесилась.
Маму уволили из "Красноармейца" вскоре после ареста Василия Ивановича. Что такое "уволили" я плохо понимала. Но помню, как мама вернулась с работы непривычно рано и позвонила Верке, своей давней подруге. "Ты знаешь, я вышла на улицу, перекинула пальто через руку, поглядела вокруг и мне захотелось кричать". Я с опаской смотрела на маму, которая почти не говорила со мной.
Как же так? Как же можно, чтоб маму выгнали из дома с колоннами, из нашего "Красноармейца" одну на улицу? "Ты знаешь, говоря по-эзоповски, на этот дом надо бомбу сбросить", - сказала я маме. Я помнила, что есть некий "эзоповский" язык, которым иногда пользовалась мама, разговаривая в моем присутствии с кем-нибудь из взрослых, и решила, что пришло мое время говорить на этом языке.
Много лет спустя, не помню почему, мы с мамой приехали в ЦДКА, и пожилая гардеробщица, увидев маму, всплеснула руками: "Белочка, да ты ли это?" Они расцеловались, поговорили. А когда мама отошла, гардеробщица сказала мне: "Какая она красавица была. Многие по ней вздыхали. Она и сейчас хорошая, но в те-то годы..."
Снимки, снимки, снимки. Вот мама молоденькая в гимнастерке, вот она в ушанке и шинели. Вот ее пропуск на беспрепятственный проход по Москве во время воздушной тревоги. Вот она с папой перед его уходом на фронт. Это их последняя фотография. Они улыбаются друг другу. На папе военная форма. На маме шерстяная кофточка, которую я помню до мельчайших подробностей: коричневая, с бежевым воротником и бежевыми манжетами. Кофта была длинная, уютная, и мама любила носить ее в морозы. Я даже помню ее наощупь, потому, что часто, уставая, тянула маму за бежевый манжет и ныла "Пойдем домой".
Мама часто таскала меня с собой. Иногда потому, что не знала, куда меня деть. Иногда просто так "для веселья". Меня так и прозвали "Белкин хвост".
Куда и к кому только не ездила мама - спец.кор. "Красноармейца", самого популярного и читаемого в те годы журнала: к Калинину, Вышинскому, Туполеву, Ал.Толстому, Эренбургу, Гр.Александрову, Л.Орловой, Целиковской, Руслановой, Мих.Жарову. Мы ездили к Папанину на дачу, где я впервые в жизни каталась на машине, большой, черной, неуклюжей. Мы ехали по ухабистой, грязной проселочной дороге. Папанин сидел за рулем, а мы с мамой подпрыгивали на заднем сиденье. Когда мы особенно высоко подпрыгнули, Папанин обернулся и весело спросил меня: "Ну, что, мартышка, совсем ж-ку отбила?" Черная машина и слово ж-ка, произнесенное знаменитым дядей, были самыми сильными впечатлениями этой поездки. Папанина я помню смутно, но хорошо помню, что он пригласил нас остаться на обед, который уже подавали в просторной столовой. Помню, что удивительно вкусно пахло едой, и что мне очень хотелось есть. Помню свою досаду на маму, которая неизвестно почему, отказалась остаться и увела меня, голодную, домой, накормив по дороге бутербродами. Помню смуглый мамин кулачок, которым она наподдала мне на улице за то, что я слишком настойчиво и громко требовала, чтоб мы остались обедать.
Обычно я вела себя тихо, но иногда подавала голос и не всегда удачно. "Ваша фамилия Толстой, потому что вы - толстый?", - спросила я большого, грузного Ал.Толстого. Толстой без улыбки посмотрел на меня и молча протянул мне конфету, а маме сложенные трубочкой страницы, написанные для "Красноармейца". Однако голос, поданный мной в проходной Кремля, помог мне пройти к Ворошилову вместе с мамой. Охранники сами догнали маму и попросили взять с собой громко плачущего ребенка. Так я оказалась в кабинете Ворошилова. "Товарищ Ворошилов! Когда я подрасту, я встану вместо папи с винтовкой на посту!" - декламировала я, стоя на столе в кабинете Ворошилова. Я говорила "папи" с гордостью, так как знала от домашних, что папа мой погиб на фронте. Однажды поздно вечером я слышала сквозь сон, как мама рассказывала бабушке, что кто-то вошел в редакцию и сказал: "Белла, иди скорей. Тебя какой-то мужчина ждет внизу. Сказал - позовите Беллу. Скажите, что ее ждет Миллер. Представь, хочу бежать вниз, а ноги не идут", - говорила мама. "Спускаюсь по лестнице, а ноги ватные. Понимаю, что бред, что Миши нет в живых, что это не Миша, а брат его, а все-таки думаю, "а вдруг, а вдруг". Спускаюсь вниз, а там Аркадий. Я так и упала на стул возле него без сил".
С той поры и во мне поселилось это "Вдруг". А вдруг папа жив, и я его случайно встречу где-нибудь в толпе, на улице, в транспорте. Я стала сочинять бесконечные истории о нашей случайной встрече.
... "Ларка, иди скорей. К вам Сталин приехал", - кричали мне ребята с нашего двора. Бегу к дому. У подъезда машина. В подъезд входит высокий, прямой, моложавый старик в генеральской форме - Игнатьев, автор книги "Пятьдесят лет в строю". Личная машина (редкость по тем временам), генеральская форма, военная выправка, высокий рост - конечно же Сталин. Про нашу маму всегда ходили легенды: к ней ездил Сталин, а сама она актриса: яркая, рыжая, курит, на рояле играет. "Умнице и чаровнице Белочке от молодого душой ее поклонника", размашистым почерком надписал Игнатьев свою книгу, подаренную маме.
Я любила ходить с мамой к Маршаку и к Агнии Барто потому что там мне давали посмотреть груду красивых детских книжек. Некоторые из них были совсем новые и вкусно пахли краской. Я их не столько читала, сколько нюхала. Однажды Агния Барто позвонила нам на Полянку и продиктовала маме свое новое стихотворение, которое начиналось словами: "У меня родился брат..." Стихотворение называлось "Имя" и было оно о том, как брата назвали Иосифом в честь вождя. Я выучила стихи наизусть и очень выразительно прочла их на школьном утреннике, посвященном дню рождения Сталина. Барто жила в Лаврушинском переулке по соседству с нами, и мы с мамой ходили к ней пешком тихими замоскворецкими переулками.
Мы ходили пешком в Дом правительства, большой серый дом, расположенный между Большим и Малокаменным мостами. Шли по Большой Полянке через мост мимо кинотеатра "Ударник" в ворота. В этом доме жил Александр Серафимович Серафимович, с которым за годы работы в "Красноармейце" подружилась мама... Это был очень старый человек с рыжими веснушками на руках. Он всегда ходил в валенках, и возле ног его всегда лежала большая строгая собака, из-за которой я боялась быстро ходить и громко говорить. В кабинете Серафимовича были двери с матовыми стеклами. Мне нравилось, уперевшись лбом в стекло, пытаться разглядеть, что там делается за дверьми. Александр Серафимович что-то говорил мне слабым старческим голосом. Бодрая моложавая жена его Фекла Родионовна поила нас чаем с чем-нибудь вкусным. А потом мы с мамой брали узелок с чистым бельем и шли в ванную комнату купаться. В ванной комнате нашей коммунальной квартиры на Полянке лежал хлам и бегали крысы. А здесь все сверкало, "аппетитно" гудела колонка. Мама терла мне спину и приговаривала: "Одни косточки - настоящий Кащей Бессмертный." А потом смывала с меня мыло со словами: "С Ларочки вода, с Ларочки худоба, чтоб здоровенькой была, чтоб маму любила".
На прощанье Александр Серафимович дарил мне мои любимые коробочки из-под папирос. И самой любимой была коробочка с изображением цыган на крышке: пестрые фигурки поющих цыган, а впереди один из них в ослепительно-белой сорочке с гармошкой.
Однажды мама водила меня в цыганский театр "Ромэн" на пьесу, которая называлась, кажется, "Чудесная башмачница". Я все ждала, что увижу нарядных цыган с папиросной коробки, а увидела старого башмачника, которого обижала молодая цыганка, его жена, и даже швыряла в него обувные колодки. Я плакала, жалела старика. А на следующий день мама привезла меня в какой-то дом и уже у самой двери сказала: "Мы пришли в гости к Ляле Черной, которая вчера играла жену башмачника." "Как?! К той грубиянке, которая обижала старика? Нет, нет, ни за что. Я ее ненавижу", - кричала я, вырываясь из маминых рук. Мама крепко держала меня и испуганно шептала: "Ларочка, золотце, подожди, не кричи. Это - хорошая тетя. Она просто играла такую роль". На шум вышла миловидная женщина в длинном нарядном халате. "Что случилось?", - обеспокоенно спросила она, видя, как я молча, но иступленно, вырываюсь, пытаясь убежать. Растерянная и смущенная, мама рассказала ей в чем дело. Женщина рассмеялась и принесла мне целую горсть конфет. Но я не сдалась. Тогда она присела возле меня на корточки и стала шептать мне на ушко, как она ненавидит эту башмачницу, как не любит ее играть, и как ее заставляют. Я слушала и оттаивала. Женщина незаметно расстегнула мне пальто, взяла за руку, провела в комнату, усадила на диван и поставила рядом блюдце с конфетами, которые я сосредоточенно ела, пока они с мамой беседовали...
Давно исчезли маршруты моего детства, но у памяти свои законы, которые позволяют нам с мамой снова сесть в старый звонкий трамвай с кондуктором, и проделать долгий зимний путь в Лефортово к маминому будущему мужу. Мы садимся у окна: я спереди, она сзади. Дышим на заиндевевшее стекло, отогревая кружочек для смотрения. И мама, наклонившись к самому уху, принимается за наше обычное занятие: рассказывает, вернее, играет очередной спектакль. Сегодня это "Пигмалион". Мама играет все роли, меняя голос, выражение лица и, как я поняла позже, подправляя на ходу оригинал, чтоб получилось трогательнее, интереснее и понятней. "Вот Ваши туфли, и вот", - в бешенстве кричит Элиза. "Элиза, Вы дура", - холодно и невозмутимо отвечает Хиггинс. По дороге обратно из Лефортова домой, Элиза и Хиггинс мирятся. Хэппи Энд. И мой нетерпеливый вопрос: "Что дальше?" Дальше "Школа злословия", а потом в сотый раз мой любимый спектакль "Давным-давно". "Пусть я зовусь юнцом безусым", - поет мама. Я знала все реплики и песни и все же просила маму сыграть спектакль сначала до конца без пропусков и сокращений. Позже, увидев эти пьесы в театре, я ревниво и придирчиво следила за сюжетом и актерами. Мне казалось, что мама все делала лучше. Единственно чего она не могла, это изобразить постепенно гаснущую люстру и медленно раздвигающийся занавес. И за это я навеки полюбила театр. Когда я была маленькой, поездки с мамой были лакомством, праздником. Это потом мне стало в тягость всюду ездить с мамой, подчиняться ее воле, прерывая собственные занятия, бросая книги, друзей. А не поехать - означало обидеть маму, увидеть, как она ушла, обиженно закусив нижнюю губу. Не поехать означало долго жить под гнетом ее обиды, под током высокого напряжения. Но в раннем детстве я была маминым хвостиком. А зимой и маминой грелкой вдобавок. Она сажала меня к себе на колени, и я грела ее пушистой белой шубой. Мы долго ехали с Большой Полянки мимо кинотеатра "Ударник", мимо Дома правительства, мимо библиотеки Ленина. И сидя у мамы на коленях, я громко по складам читала вывески "Па-мир-ка-хер-ская, бли-бли-о-те-ка."
Несколько лет спустя я совершила свое первое самостоятельное путешествие по тому же маршруту от дома до Пушкинской площади, где был расположен Радиокомитет, куда удалось устроиться маме по ходатайству Эренбурга. Мама долго готовила меня к этому путешествию, водила на остановку, с которой мне предстояло уехать, объясняла где сойти и на какой скамейке в сквере сидеть и ждать ее. Но настал великий день, я пошла на ту остановку, на которой привыкла встречать маму после работы, села в троллейбус и долго ехала в противоположном направлении. А, заметив это, стала тихо плакать. Сердобольная женщина расспросила меня обо всем, взяла за руку, вывела из троллейбуса, перевела на другую сторону и посадила в нужный троллейбус. Я приехала к маме, но с большим опозданием. Она судорожно прижимала меня к себе, тормошила и плакала: "Ведь я тебе все объяснила, дрянцо ты этакое, шимпанзе беззубое. Золотце мое ненаглядное".
... Мама, где ты? Куда ты делась? Как это может быть, что тебя нет?
"Девочка моя, золотце мое ненаглядное", шепчешь ты, прижимая меня к себе и тихо плачешь, отвернувшись от соседок по больничной палате. "Что тебе сказал врач?"
Что сказал врач? Врач сказал: "Ваша мать - умирающая больная. Ходите почаще".
"Врач сказал, что проведут курс лечения и тебе сразу станет легче", - говорю я вслух. "Только тебе надо набраться терпения. Лечение тяжелое. От него слабость и тошнота".
"Да, такая слабость, что голову поднять нет сил. И волосы лезут страшно". Ну ничего. Пусть лезут. Лишь бы мама у меня осталась. "Тяжело дышать", - говоришь ты. Серое лицо, бескровные губы - ты ли это?
Ты - золотистые волосы, яркие глаза. Тебе так шли длинные серьги, пестрые платья. Ты любила праздники, новогоднюю ночь, бенгальские огни, музыку, танцы. Ты любила в новогоднюю ночь ездить из гостей в гости, неожиданно появляться в длинном вечернем платье с конфетти в волосах, произносить шутливый тост, танцевать игривый танец и, аккомпанируя себе на рояле, петь любимую песенку: "Нашел я чудный кабачок, кабачок. Вино там стоит пятачок, пятачок".
Ты была нарасхват. Всё приходило в движение, когда ты появлялась. "Белла, станцуем?", "Беллочка, твое здоровье!" - неслось со всех сторон.
Взгляды, взгляды, взгляды. На тебя всегда смотрели в транспорте, на улице, в театре. Была ли ты красивой? Не знаю. Когда как. Ты часто была измученной, усталой. "Расчешись. На кого ты похожа?" - просила тебя бабушка. "Оставь, мама. У меня нет сил". Ты часто рассказывала, как во время очередной чистки на партсобрании в Радиокомитете кто-то сказал: "Посмотрите, в каком виде коммунистка Фаддеева приходит на работу. Почему она так взлохмачена? Пора присмотреться к этой лохматости". Ты и на радио работала с утра до вечера, стуча на машинке, правя написанное, отвечая на вопросы радиослушателей, приглашая кого-то на запись. "Ну что Вы, Белла, это совсем не туда пошло. Совсем не туда", - твердила на ломаном русском языке твоя начальница финка Сайми, возвращая тебе твою статью. "Надо сократить".
"Невольный сын эфира", говорила ты о себе. Помню, что я всегда удивлялась, почему сын, и откуда ты взяла эти слова.
Вот маленький снимок, на котором мы с тобой сфотографированы после ноябрьской демонстрации на Малокаменном мосту. На обороте карандашом написано: 1949. Рядом с нами - твоя начальница и еще кто-то. Я любила ходить с тобой на демонстрации. Пестрая, разноязыкая колонна иностранцев, поющих песни на разных языках. "Ларочка", - говорил мне влюбленный в тебя высокий, стройный швед Сикстен. "Хочешь, я тебе куплю палька, такая длинна-длинна палька, две палька кататься зимой?"
Все пели и мы с тобой пели. "С берез неслышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс "Осенний сон" играет гармонист..." Вот они ноты моего детства: пожелтевшие разрозненные листки. Песни времен войны, изданные на серой бумаге в 1945 году. "Смерть немецким оккупантам" напечатано на обложке сверху. "Стеклография ЦДКА" напечатано снизу. "Американская солдатская песня" - посередине той страницы, где про "чудный кабачок".
Вот ноты, казавшиеся мне столь таинственными в детстве: на обложке - белое лицо, похожее на маску, трагически сдвинутые темные брови, белое жабо. Сверху - белыми буквами на черном фоне: "Песни Вертинского". "Ах, солнечным, солнечным маем, на пляже встречаясь тайком, с Лулу мы как дети играем, мы солнцем пьяны, как вином", - поешь ты, сидя за нашим стареньким Беккером. Окно нараспашку. По комнате летает тополиный пух. За окном цветет сирень. Необычно теплый май. Твой день рождения. Комната полна гостей. От ветра качнулась занавеска. Нотный лист упал на твои смуглые худые пальцы. Кто-то подхватил его и поставил на пюпитр. "Ну погоди, ну погоди, минуточка, ну погоди, мой мальчик пай. Ведь любовь наша только шуточка. Ее выдумал глупый май..."
Сегодня снова май. Скоро день твоего рождения. Всюду продают сирень - твои цветы.
Приходит Верочка-Верушка
Чудная мамина подружка.
Она несет большой букет.
(Сегодня маме тридцать лет.)
Несет большой букет сирени,
А он подобен белой пене,
Такая пышная сирень.
Я с белым бантом набекрень
Бегу... Гори, гори не гасни,
Тот миг... И розочку на масле
Пытаюсь сделать для гостей...
Из тех пределов нет вестей,
Из тех времен, где дед мой мудрый
Поет и сахарную пудру
Неспешно сыплет на пирог.
И сор цветочный на порог
Летит. И грудой белой пены
Сирень загородила стены.
Как я была богата. У меня были бабушка, дедушка. Сегодня есть отчим, которого я называю папой уже тридцать лет. Сегодня он больно ранен маминой смертью. Сегодня он одинок и растерян. Сегодня он спасается хлопотами по раздаче старых вещей. Сегодня он покупает продукты, волнуется за моих детей, занимается географией с моим старшим сыном, и ждет нас в гости. Сегодня он единственный человек, которому я могу позвонить в черную минуту и сказать: "Папа, я не могу привыкнуть, что мамы нет, не могу смириться..."
"Ну что делать, деточка", - говорит он мне, плача. "Ну что делать? Я буду помогать тебе, чем могу. Все сделаю, но я не могу вернуть тебе маму".
Живи долго, папа. Живи долго.
май 1983 г.
* * *
Маме
Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Я то и дело к тебе возвращаюсь
Утром и вечером, днем, среди ночи,
Выбрав дорогу, какая короче.
Я говорю тебе что-то про внуков,
Глажу твою исхудавшую руку.
Ты говоришь, что ждала и скучала...
Наш разговор без конца и начала.
* * *
О память-роскошь и мученье,
Мое исполни порученье:
Внезапный соверши набег
Туда, где прошлогодний снег
Еще идет; туда, где мама
Еще жива; где я упрямо
Не верю, что она умрет,
Где у ворот больничных лед
Еще лежит; где до капели,
До горя целых две недели.
* * *
Маме
Прости меня, что тает лед.
Прости меня, что солнце льет
На землю вешний свет, что птица
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьется след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветет. Прости, родная.
Папа Миша
Года в четыре мне очень нравилось играть с фотографией, на которой я, годовалая, сижу на руках у отца. Нравилось мять эту карточку, разглаживать, рисовать на ней цветными карандашами. Фотографию отбирали, но я снова находила ее и мучила.






