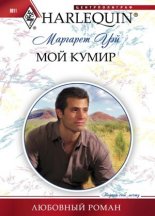Лазарит Вилар Симона
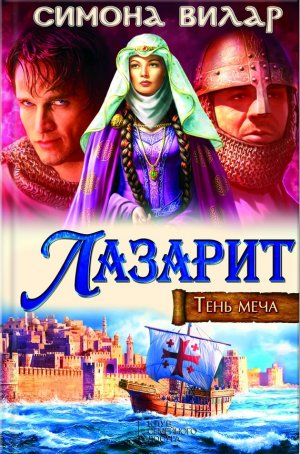
Все это Сарра поведала ему на обратном пути, еще до того, как они оказались на площади у главной городской мечети — бывшего собора Святого Креста. Там внимание Мартина привлекла толпа, собравшаяся у эшафота. Госпожа закрыла лицо покрывалом и поспешила пройти мимо, но ее спутник замешкался. Там, на железном крюке, свисавшем на цепях с перекладины, болталось ободранное, истекающее кровью тело. Узнать его было невозможно, но Мартин, не обращая внимания на окликавшую его госпожу Сарру, замешался в толпу и вскоре выяснил, что на крюке — казненный предатель: тот, кто исхитрился донести неверным о готовящейся вылазке из Акры. Этот невольник-христианин по имени Мартин пустил в лагерь крестоносцев стрелу с посланием, но один из охранников застал его за этим, и предателя тотчас схватили и подвергли пытке. Однако даже самым опытным палачам не удалось ничего добиться — невольник только бормотал молитвы, претерпевая самую адскую боль. Тогда его предали страшной казни: заживо содрали кожу и бросили кровоточащее тело в крепкий рассол, а затем вывесили труп на поживу стервятникам и в назидание иным предателям.
Мартин покидал площадь, чувствуя тугой ком в горле. Как бы ни был глуп и самонадеян этот парень, не восхищаться его мужеством было невозможно…
А вскоре разнеслась весть о том, что султан Саладин предложил Ричарду и Филиппу новые условия: он готов вернуть христианам Иерусалимское королевство, включая земли за рекой Иордан, в том случае, если отряды, прибывшие в Святую землю с христианскими королями, отправятся вместе с ним за Евфрат и помогут султану завоевать Западную Персию. Говорили, что послание от султана доставил в лагерь крестоносцев младший брат Саладина — аль-Малик аль-Адиль ибн Айюб, который неплохо говорил на языке франков и сумел произвести на Ричарда Львиное Сердце столь благоприятное впечатление, что тот почти дал согласие. Однако на сей раз воспротивился Филипп, и английский король не стал спорить со своим союзником.
Переговоры оказались бесплодными, и страшные осадные башни снова двинулись к стенам изнемогающей Акры. Одновременно заработали осадные машины. Защитники города во множестве гибли на стенах, пылала уже вся восточная часть города, а спустя два дня, на закате, чудовищный грохот сотряс воздух. Дрогнула земля — и Проклятая башня, казавшаяся неприступной, рухнула в тучах пыли и разлетающихся во все стороны обломков. В образовавшийся пролом тотчас устремились крестоносцы, и бой продолжался до глубокой темноты, пока руины башни не покрылись грудами мертвых тел христиан и сарацин.
Только непомерная усталость вынудила крестоносцев прекратить штурм, и взошедшая полная луна озарила своими бледными лучами картину страшной гибели и разрушений. Не было никаких сомнений — с рассветом штурм начнется снова и город падет. После чего предводители крестоносцев отдадут Акру на разграбление своим воинам, пролившим кровь под ее стенами.
С вечера Мартин занялся собственной внешностью. Если прежде он стремился казаться обычным жителем Акры, то теперь направил бритвы, нагрел воды и, присев у зеркала из полированной бронзы, первым делом избавился от бороды. Затем снял тюрбан и коротко подрезал волосы.
Следившая за ним толстушка Нехаба с застенчивой улыбкой заметила, что теперь он стал другим… более молодым и красивым.
Мартин не ответил, но, заметив отражение девочки в зеркале, призадумался. Нехаба, с ее смуглым личиком, карими миндалевидными глазами и носом с легкой горбинкой, была типичной еврейкой, однако ее можно с таким же успехом выдать и за магометанку. Как бы ожесточенно крестоносцы ни боролись с мусульманами, их ненависть к народу Торы, не признавшему своего соплеменника Сыном Божьим и пославшему его на казнь вместо преступника Варравы, была еще более глубокой.
— Муса! — окликнул Мартин слугу. — Раздобудь для женщин и малыша Эзры сарацинские одеяния. Пусть лучше их сочтут мусульманами, чем признают в них евреев.
Ему не стали перечить, только Сарра расплакалась, меняя свою расшитую узорами симарру на длинную черную абайю и хиджаб.[135]
— О, Моисей! — восклицала она. — О, Аарон!
— Довольно, госпожа! — прервал ее причитания Мартин. — Не упоминайте никого, кроме Аллаха, милостивого и милосердного, если хотите, чтобы вы и ваши дети остались в живых!
Мартин был резок — видимо, все возрастающее напряжение сказывалось и на нем. Отправив женщин и детей в секретное помещение, сам он провел ночь на крыше дома, гадая, что сулит следующий день. Под утро он позволил себе немного подремать, но вскоре его разбудил стук подков по камням мостовой.
Уже начинало светать, и Мартин увидел, что по Королевской улице к пролому в крепостной стене едут шагом несколько всадников. Один из них, несомненно, был рыцарем-христианином. Приглядевшись, Мартин узнал в нем Конрада Монферратского, которого ему доводилось видеть прежде в лагере крестоносцев. Сопровождающие всадников слуги имели при себе свернутые знамена.
Что это были за флаги, он понял лишь тогда, когда прокрался вдоль улицы ближе к крепостной стене. Они внезапно взвились над уцелевшими оборонительными башнями: стяг с черным соколом, принадлежавший самому Конраду, стяг с королевскими лилиями Франции и алое знамя с шествующими львами Ричарда Английского. Знамени ислама не было, и это означало, что город сдается на условиях, предложенных маркизом Монферратским.
Это случилось в священный для мусульман день — пятницу. Но даже муллы не звали правоверных к молитве, в Акре слышались стоны и плач, а в лагере крестоносцев царило радостное возбуждение. Позднее стало известно, что коннетабль Амори де Лузиньян даже пытался вызвать Конрада на поединок, так как среди поднятых на башнях знамен не было флага Иерусалимского королевства.
Однако прочие условия были сочтены королями-крестоносцами вполне приемлемыми: Акра переходила в их руки со всем, что находилось в городе — золотом, серебром, оружием и доспехами, судами в порту, запасами продовольствия и христианскими невольниками. При соблюдении этого условия населению, независимо от вероисповедания, гарантировалась безопасность. Что касается гарнизона крепости, то Конрад обещал освободить воинов и командиров, если Саладин уплатит выкуп — двести тысяч золотых динаров, вернет захваченный при Хаттине чудотворный Животворящий Крест (на этом особо настаивал король Ричард), а также даст слово освободить и прислать в Акру находящихся у него в плену христианских рыцарей — общим числом около полутора тысяч.
Когда смятение в городе немного улеглось, жители начали с осторожностью выбираться из домов, чтобы взглянуть, как отряды крестоносцев вступают в крепость.
Первым, как и полагалось тому, кто добился сдачи твердыни, под звуки фанфар в Акру въехал маркиз Монферратский со своими воинами — рыцарями из Тира, германцами умершего во время осады герцога Швабского и австрийцами герцога Леопольда. За ним следовал на великолепном коне король Франции, окруженный лесом голубых знамен, расшитых золотыми лилиями. Филипп, проехав по Королевской улице, тотчас свернул к замку тамплиеров, где должна была разместиться его резиденция.
Горожане следили за королем франков, но с их уст не сходил один и тот же вопрос: где же Ричард Львиное Сердце? Где тот неукротимый и страшный Мелик Рик, который поклялся взять Акру за месяц, и если нарушил свою клятву, то на каких-нибудь четыре дня?
Слышал ли король Франции эти возгласы в толпе, медленно проезжая по улице с каменно-надменным лицом и в короне, водруженной на заметно облысевшую за время болезни голову?
Со своего поста на крыше Мартин отчетливо видел, что Филипп осунулся и выглядит крайне изможденным. Заметил он и множество госпитальеров и тамплиеров, сопровождавших короля, — им предстояло поддерживать порядок в городе, ибо Ричард потребовал сделать все, чтобы в Акре не случилось резни и повальных грабежей.
Однако на это не приходилось особенно надеяться: крестоносцы натерпелись лишений за два года осады, а здесь, сразу же за выгоревшим дотла восточным предместьем тянулись целые кварталы богатых домов, а на мостовой стояло немало зажиточных горожан и горожанок. И так заманчиво было сорвать с первого подвернувшегося неверного шелковый тюрбан или ущипнуть за щечку молоденькую сарацинку, прячущую личико под желтым хиджабом!
Орденские рыцари были начеку: едва возникало замешательство или потасовка, они немедленно вмешивались и пресекали безобразия солдатни.
А потом Мартин услышал, как в ворота дома Сарры стучат, раздались громкие требования на германском впустить их.
Мартин тотчас спустился во двор, где застал растерянного Мусу с кривой саблей у пояса. Рыцарь велел ему скрыться с глаз, пока он попытается унять желающих проникнуть в дом.
Этими желающими оказались люди герцога Леопольда Австрийского. Хуже и быть не могло. Мартин отпер калитку, выходящую в переулок.
— Благородные рыцари, — обратился он к крестоносцам на их языке, и те удивленно отступили, заслышав родную речь из уст молодого невольника-европейца. — Высокое счастье — приветствовать вас в Акре! Я молился об этом изо дня в день, и готов опуститься перед вами на колени, чтобы выразить восхищение вашими мужеством и стойкостью. Да благословят вас небеса!
— Ладно-ладно, парень, — буркнул один из длиннобородых австрийцев. — А теперь дай нам пройти.
Однако Мартин по-прежнему стоял на коленях, загораживая узкий проход калитки.
— Прошу простить, добрые господа, но я не имею права впустить вас. Ибо по предварительному уговору этот дом уже занят иной особой.
Австрийцы переглянулись и расхохотались. Но когда он вновь преградил им путь, лица воинов стали суровыми.
— Убирайся, раб! Прежде следовало проявлять отвагу: глядишь, неверные и не пленили бы тебя!
— И кто же предъявил права на этот дом? — прогремел голос рыцаря, восседавшего на коне. Рыцарь неторопливо снял шлем, и Мартин увидел светлую бороду и багровое лицо герцога Леопольда, обожженное солнцем.
Проклятье! Из всех предводителей крестоносцев Мартин больше всего опасался именно этого бахвала и пьяницу из княжеского рода Бабенбергов, помешанного на ненависти к евреям. А теперь его свите вздумалось облюбовать неприметный с улицы дом Сарры.
— Сиятельный господин, этот дом занят его королевским величеством Гвидо де Лузиньяном, — твердо вымолвил Мартин. Он не сводил с герцога взгляда, а его рука лежала на эфесе сабли. Это был всего лишь жест — австрийцев слишком много, и стычка с ними может быть смертельно опасной.
Леопольд расхохотался, воины подхватили его смех.
— Эй, выкиньте-ка отсюда этого пса! — распорядился герцог.
Австрийские и германские рыцари — это не уличные грабители. Ринувшись на Мартина сплошной массой, они просто отшвырнули его в сторону и в два счета обезоружили, а затем с гиканьем и ревом ворвались во внутренний дворик. Кто-то из воинов, заметив Мусу, с размаху опустил на него свой меч, другие, забавляясь, лупили обухами секир по мраморным колоннам, здоровяк в пластинчатом панцире с хохотом принялся мочиться в голубую чашу водоема.
«Только бы они не обнаружили Сарру с детьми!» — в отчаянии подумал Мартин и, опрометью выскочив в переулок, бросился на Королевскую улицу, по которой продолжали шествовать конные отряды победителей.
И все же этот день был не совсем удачным для него. Мартин понял это, заметив на площади перед Королевским замком самого Гвидо де Лузиньяна, гарцующего на золотистом скакуне. Мартин тотчас узнал это красивое лицо, обрамленное кольчужным капюшоном, — он помнил его с того времени, когда доставил в Иерусалим подложное послание графини Эшивы. Голову короля венчал шлем с зубчатой короной, он держался с большим достоинством, и в то же время в его движениях чувствовалась некоторая растерянность, словно он все еще не знал, куда направиться.
Мартин пробился к нему сквозь толпу.
— Мой король! Ваше величество! Взываю к вам как к государю этой страны!
Он так стремительно бросился к Лузиньяну, что конь под ним отпрянул и король от неожиданности едва удержался в седле.
Но Мартина уже теснил своим жеребцом Амори де Лузиньян. Однако Гвидо, справившись с конем, крикнул брату, чтобы не гнал прочь того, кто взывает к нему как к монарху.
— Я где-то видел тебя? — спросил он, оглаживая храпящего коня.
Мартин напрягся. Мог ли король узнать в нем того запыленного рыжебородого рыцаря, который четыре года назад привез ему письмо от Эшивы Тивериадской, которое погубило столько людей? Едва ли. Но отступить он уже не мог.
— Государь, вы могли видеть меня в Аскалоне. Я Мартин Фиц-Годфри, сын вашего верного рыцаря Фиц-Годфри. Мой герб — оливковая ветвь на светлом фоне.
Гвидо кивнул, но без особой уверенности, зато коннетабль подтвердил: да, такой рыцарь действительно состоял в гарнизоне Аскалонской крепости.
Теперь следовало избежать дальнейших расспросов, и Мартин поспешил сообщить, что, даже оказавшись в плену, он продолжал служить своему королю, и едва узнавал новости, которые могли быть полезны крестоносцам, без промедления посылал стрелу с посланием к шатру короля Гвидо.
— Надеюсь, вы получали их, мой король! Я не подписывал свои послания, но всегда начинал словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»!
— Так это ты! — широко улыбнулся Гвидо. Он спешился и заключил Мартина в объятия. — Мы многим обязаны тебе, Мартин из Аскалона. Клянусь оком Господним, когда мы отвоюем наше королевство, я верну и приумножу твои земли и щедро тебя награжу.
— Счастлив служить моему королю, — Мартин опустился на колено и поцеловал край плаща Гвидо. — Мне удалось сохранить для вас в Акре целый дворец, где могла бы разместиться резиденция, подобающая государю, однако… Герцог Леопольд Австрийский не пожелал слушать моих разъяснений и вломился туда вместе со своими латниками!
Зная Гвидо де Лузиньяна, он действовал точно и расчетливо: лишенный королевства монарх будет рад вернуть под свою власть хоть клочок собственной земли и не зависеть от подачек европейских государей. При первом же упоминании о Леопольде, приверженце Конрада Монферратского, Лузиньян нахмурился и велел проводить его к упомянутой резиденции, тем более что она, как пояснил верный Мартин Фиц-Годфри, буквально в двух шагах и совсем рядом с Королевским замком, где намерен расположиться Ричард Английский.
Так оно и было, однако на крыше дома Сарры уже развевалось белое знамя герцога Леопольда с изображением черного орла.
— Какого дьявола, Бабенберг! — закричал Гвидо, врываясь на коне во внутренний двор, где уже толпились со своими лошадьми люди герцога. — Вам разве не сообщили, что это здание предназначается мне?
— Угомонись, Лузиньян! — хрипло огрызнулся Леопольд. — Вечно ты оказываешься не там, где следовало бы. То под Хаттином, а теперь в доме, над которым уже установлено мое знамя. Неудачники всегда опаздывают!
— И тем не менее ты немедленно уберешься отсюда! — воскликнул Гвидо, выхватывая меч.
Мартин наблюдал со стороны. Люди Леопольда схватились за оружие, обнажили сталь и сопровождавшие короля Гвидо иерусалимские рыцари-пулены. Еще мгновение — и пролилась бы кровь победителей Акры.
Но в дело вмешались тамплиеры. Белые плащи с красными крестами вмиг заполнили двор, прозвучала команда убрать, во имя Господа, оружие.
Мартин укрылся за колонной, вглядываясь в лица храмовников. Уильяма де Шампера среди них не было, а приказы отдавал рослый воин с длинной каштановой бородой. На него-то и наступал Леопольд, размахивая мечом:
— Вы, де Сабле, хоть и магистр ордена, но это не дает вам права повелевать герцогом Австрии!
— Но именно на тамплиеров возложена миссия следить за порядком в Акре! — внезапно прозвучал твердый голос, и Мартин из своего укрытия увидел, как во двор, осматриваясь, неторопливо въезжает сам король Ричард.
Его алое облачение и снежно-белый скакун ослепительно сияли в лучах солнца, и все, кто находился здесь, невольно повернулись к королю, спорящие голоса вмиг умолкли, и даже герцог Австрийский, еще минуту назад полный спеси, смешался. К Ричарду обратился Гвидо, сдержанно пояснив, что его человек, посланный заранее, занял этот особняк, а Леопольд не пожелал его слушать и водрузил здесь собственное знамя.
Золотистые брови Ричарда сошлись на переносице, глаза сверкнули.
«Не хотел бы я оказаться мишенью его гнева», — невольно подумал Мартин, следя за тем, как король Англии направляет коня прямо на герцога, вынуждая его отступить за водоем.
— Какого дьявола, Бабенберг! — зарычал Ричард. — Вы туги на ухо или совсем потеряли разум от пьянства? Разве вы не слышали, как поделен город? И тем не менее осмеливаетесь водружать свои штандарты на доме, который находится в моей части Акры, а значит, принадлежит и королю Гвидо!
«Ого! Я этого не знал, но вышло совсем недурно», — усмехнулся про себя Мартин.
Затем Ричард повелел убрать знамя с кровли, и чуть ли не половина тех, кто находился во дворе, с готовностью бросились выполнять его приказание.
Но тут очнулся Леопольд. Взревев, как разъяренный вепрь, он рванулся было к королю, но на полпути его удержали рыцари из его же свиты. Английский Лев с мрачной насмешкой смотрел на него с седла, тамплиеры в белых плащах строем окружили австрийцев. Знамя австрийских герцогов было сброшено на улицу, и люди Гвидо водрузили вместо него бело-голубой флаг Лузиньянов, а заодно и алый стяг короля Англии, чтобы больше никому не пришло в голову посягнуть на здание в той части города, что, согласно договору между предводителями крестоносцев, принадлежала Ричарду.
Австрийцы покидали двор, бросая мрачные взгляды на Гвидо и короля Ричарда.
— Я это еще припомню тебе, Плантагенет! — уже сидя в седле, угрюмо процедил сквозь зубы Леопольд.
— А у меня достанет милости, чтобы забыть твою дерзость, — отозвался король.
Герцог дал коню шпоры и ринулся прочь; собравшаяся на улице толпа едва успела расступиться.
— Не понимаю, — в недоумении проговорил Робер де Сабле. — Весь город в нашем распоряжении. Стоило ли ссориться из-за какого-то там дома?
— Действительно, не стоило, — согласился Ричард, задумчиво оглядывая загаженный конским навозом и обломками разбитых колонн дворик. — Чем тебе так приглянулся именно этот особняк? — спросил он, обращаясь к Гвидо.
— Но разве это не наша часть города? — широко улыбнулся тот, указывая на крышу, где все еще хохотали и выкрикивали непристойности в адрес убравшихся австрийцев его воины.
Позже, когда люди Лузиньяна принялись наводить порядок, Гвидо прошелся по галерее, оглядел мозаики и резные решетки из кедрового дерева, вдохнул еще не выветрившийся аромат благовоний.
— Как же я тосковал без этого, — негромко повторял король-изгнанник, легко касаясь изысканных курильниц, проводя рукой по инкрустированным перламутром столешницам, отодвигая занавеси в арках.
Так он добрался до бани, где у бассейна обнаружил верного Мартина Фиц-Годфри. Размотав тюрбан Мусы, спасший жизнь слуги-сарацина, он обмывал его окровавленную голову. Муса слабо стонал, не приходя в себя.
— Вы так заботитесь об этом неверном, — заметил Гвидо. — Кто он для вас?
— Он здешний слуга. Эти люди были добры ко мне и помогали во всем, даже зная, что я отправляю донесения в лагерь крестоносцев.
Гвидо удивленно поднял бровь.
— Вот как? Эти мусульмане готовы признать во мне своего правителя?
— Они ваши подданные, государь. И хорошо помнят те недолгие, но благодатные годы вашего правления, когда они не опасались путешествовать по дорогам Иерусалимского королевства и снимали обильные урожаи с полей и садов, орошаемых водой из каналов, проложенных по вашим повелениям. С приходом Саладина эта земля превратилась в край смерти и запустения.
— Ты сказал — «они». Но я вижу только одного раненого сарацина.
Мартин сдержанно ответил:
— Здесь есть еще женщины и дети, государь. Сейчас они прячутся в страхе и ждут вашего соизволения, чтобы и в дальнейшем служить в этом доме. Если же вы прогоните их… — он опустился на колено. — Я хочу просить за этих людей. Они были добры ко мне, когда я был невольником. Позвольте им остаться! Кто-то же должен поддерживать порядок, прибираться, готовить пищу и прислуживать вам…
«Я помню эти небесно-голубые глаза, — тем временем думал Гвидо. — Определенно, я знавал этого человека прежде. Должно быть, в Аскалоне».
— Я буду рад исполнить вашу просьбу, мессир Мартин. Мне, так или иначе, понадобится прислуга.
С этими словами король удалился, а Мартин с облегчением перевел дух.
С этой частью своей задачи он справился — Сарра и ее родные в безопасности. Остается только вывезти их из Акры…
ГЛАВА 17
Конец июля 1191 г. Акра.
Задумав возвести Королевский замок в Акре, крестоносцы прошлого пригласили лучших ромейских мастеров, и те придали зданию мощь крепостного сооружения, одновременно снабдив его всеми удобствами, какие только были мыслимы в те времена. Мощные стены замка были известны не только своей неприступностью, но и тем, что хранили прохладу даже в самые знойные дни. В их толще были проложены глиняные трубы, питавшие фонтаны на открытых террасах и в саду, по ним также подавалась горячая и холодная вода в бани. Мусульмане, около четырех лет владевшие Акрой, также оставили здесь свой след — фрески, прежде покрывавшие стены, были теперь скрыты под причудливой мозаикой с растительным орнаментом и изречениями из Корана, начертанными изысканной арабской вязью.
Для Иоанны Сицилийской, после того как они устроились в замке, именно бани стали особым удовольствием. Полированный мрамор и мозаичные стены, солнечные лучи, проникающие сквозь небольшие отверстия в сводах и отражающиеся от поверхности бассейна, покрытой радужными разводами от добавленных в нее благовонных масел, — какое наслаждение! Вода всегда была теплой, даже чересчур, но сестра Ричарда любила тепло, возвращавшее ей ощущение чистоты, по которому она так истосковалась за те несколько недель, которые дамам из свиты Ричарда Английского пришлось провести на корабле, укрытом в небольшой бухте близ горы Мусард.
На судно их отправили, едва стало известно о болезни Ричарда. Но даже после того, как состояние короля улучшилось, их по-прежнему не допускали в лагерь — женщинам не место там, где изо дня в день льется кровь и сражаются воины.
О, это было чудовищно: жара, опасность, замкнутое пространство кормовой надстройки, а для прогулок — пятьдесят футов дощатой палубы. Зато теперь…
Иоанна, блаженствуя, откинулась на округлый край бассейна, выложенного золотистым камнем. От воды поднимался ароматный пар, из-за выступа стены доносилось журчание струйки воды, вливавшейся в прохладный бассейн, в который надлежало погрузиться после того, как распаришься в горячем. Там содержали маленьких рыбешек, которые тотчас принимались легонько пощипывать подошвы и пальцы ног. Это было щекотно, зато кожа становилась, как у младенца — мягкой, чистой и нежной. Сейчас в прохладном бассейне пребывала королева Беренгария, тихонько посмеиваясь от прикосновений рыбок.
Иоанна улыбнулась.
Королева снова довольна, хотя всего несколько минут назад едва ли не крик подняла и почти выпрыгнула из бассейна с горячей водой, когда туда погрузилась дочь Исаака Кипрского. Бассейн был достаточно просторным, чтобы в нем могли нежиться несколько женщин, но если сестра и супруга короля Ричарда пользовались льняными рубашками для купания, то Дева Кипра (ее трудно произносимое имя они так и не научились выговаривать) невозмутимо сбросила всю одежду и предстала перед ними в неприкрытой наготе. Беренгария не могла стерпеть подобного бесстыдства и принялась выговаривать киприотке, но та только недоуменно смотрела на королеву своими иконописными очами и повторяла единственную фразу, которую знала по-французски: «Не понимаю! Не понимаю!»
Дева Кипра, скорее всего, лгала. Она уже вполне сносно владела речью франков, а ее «не понимаю» служило всего лишь отговоркой, чтобы вести себя как заблагорассудится. И едва ли она была девой, ибо выглядела вполне зрелой женщиной — крупная, широкобедрая, с полной тяжелой грудью. И то, как она обращалась с молодыми рыцарями и оруженосцами, как под видом игривых шалостей прикасалась к ним или одаряла многозначительными взглядами, свидетельствовало, что близость с мужчинами для нее дело привычное и желанное. Эти вольности она позволяла себе даже с самим Ричардом: порой садилась у его ног, напевая своим низким грудным голосом, или, как расшалившееся дитя, клала голову ему на колени, бросая такие пылкие взгляды, что Ричард отводил глаза и краснел, а Беренгария злилась и ревновала.
Но пусть уж лучше ревнует, чем ведет себя как монахиня, едва супруг приближается к ней.
Указать жгучей киприотке на ее место могла только Джоанна де Шампер. И не только потому, что владела греческим. Заметив, как страдает Беренгария, она поначалу ограничилась выговором, а когда это не подействовало, попросту оттаскала Деву Кипра за ее жесткие кудри, пригрозив напоследок, что если та не будет держаться скромнее, то отведает кнута.
Иоанна и сама была бы не прочь отстегать эту лукавую девицу, но королевский статус не позволял ей рукоприкладства. Поэтому в глубине души она даже завидовала Джоанне, которая не только напугала до полусмерти почетную заложницу, содержавшуюся до поры до времени при дворе, но и сумела укротить саму Изабеллу Иерусалимскую.
Случилось это после того, как супруга Конрада Монферратского бесцеремонно заявила родственницам короля Ричарда, что они, темноволосые и стройные, больше похожи на бедуинок, чем на знатных христианских дам. Изабелла необычайно гордилась своими серебристыми волосами, хотя в остальном следовала местным традициям: носила пестрые тюрбаны, расшитые узорами просторные туники и шаровары, красила ладони хной и унизывала себя бесчисленным количеством подвесок и браслетов. К этому следовало добавить татуировку над бровями и колечко с жемчужиной, вдетое в складку кожи над переносицей. Немудрено, что, услышав сравнение с бедуинскими женщинами, Джоанна резко осадила ее:
— Не думаю, что ваше замечание уместно, любезная маркиза Монферратская. Должно быть, вам давно не случалось видеть себя в зеркале!
Именуя принцессу, Джоанна намеренно воспользовалась титулом ее мужа. Изабелла оторопела, а Беренгария и Иоанна едва не рассмеялись. Однако позже Беренгария все же заметила, что Джоанна была излишне резка с наследницей Иерусалимского престола. Впрочем, в ее словах не было гнева, ибо все они — и Беренгария в том числе — с трудом выносили общество принцессы с ее легковесным и вздорным нравом.
Изабелла, против воли выданная за Конрада и отчаянно противившаяся этому браку, в конечном счете отлично ужилась с маркизом. Супруг ее холил и всячески ублажал, а принцесса сразу же понесла от него, чем теперь несказанно гордилась. Доходило до ядовитых намеков на то, что ни Иоанна за годы брака с Вильгельмом Сицилийским, ни Джоанна за семь лет супружества так и не забеременели.
Подобные намеки звучали оскорбительно, и Джоанна не удержалась, чтобы не напомнить принцессе, что и сама она за годы супружества с Онфруа не обзавелась ребенком. Может, высокородная Изабелла поделится с ними своим секретом, как быстрее и надежнее забеременеть?
Обсуждать подобные вещи дамам не полагалось, но Джоанна так напористо приступала к Изабелле с расспросами, что вогнала ее в краску. В конце концов принцесса стала побаиваться кузину короля Ричарда не меньше, чем Дева Кипра.
Впрочем, заставить киприотку покраснеть было задачей не из простых: сейчас сама Иоанна зарделась, приметив, как разомлевшая в горячей воде Дева Кипра самозабвенно ласкает себя под водой, постанывая от наслаждения.
Иоанна отвернулась и вышла из бассейна, кликнув служанок. За ширмой уже облачалась скромная Беренгария, и королева Сицилийская заняла ее место в прохладном бассейне. В Акре уже который день стояла невыносимая жара, но Иоанна не могла позволить себе долго нежиться. Сегодня ей предстояло быть хозяйкой небольшого приема, на который Ричард пригласил короля Филиппа. Придворным дамам предстояло развлекать Капетинга, который еще не вполне оправился от хвори, был раздражителен и неуступчив, что приводило к многочисленным ссорам между королями.
Ричарду приходилось уступать, чтобы задобрить Филиппа, ибо после взятия Акры тот внезапно объявил, что сделал для крестового похода достаточно и все сильнее тоскует по милой Франции. Дескать, только воздух родины способен исцелить его недуг. Для Ричарда же такой поворот событий мог оказаться плачевным. До сих пор крестоносцы имели численный перевес над армией Саладина, а взятие Акры подняло дух воинов. Но если Филипп решит вернуться и уведет из Палестины своих людей, все надежды короля Англии развеются как прах.
Однако он все еще верил, что клятва бороться с Саладином до полной победы и восстановления Иерусалимского королевства, которую принесли оба короля, не позволит Капетингу отказаться от задуманного похода на Иерусалим. Дамы, причем самые блистательные, нужны были на этом приеме для того, чтобы Филипп, окруженный их вниманием, не решился проявить малодушие и слабость. Ричард даже намекнул сестре, чтобы она на время оставила свою неприязнь к Филиппу и была с ним мила и приветлива. Ему нужен Филипп и его армия! Неужели его милая Пиона не сумеет обворожить Капетинга настолько, чтобы он и думать забыл о возвращении в Европу?
От этих мыслей Иоанну Сицилийскую бросило в дрожь. Вода в бассейне внезапно показалась слишком холодной, а суета рыбешек начала раздражать. Она поднялась по ступеням на край бассейна. Служанки тут же накинули на нее просторный шелковый халат цвета спелого персика и принялись сушить ее волосы. Внезапно Иоанна услышала испуганный возглас Девы Кипра:
— Джованна! О, Джованна!
Ее имя киприотка произносила именно так, как нравилось сицилийской королеве, — на итальянский манер. Однако сейчас она обращалась не к ней, а к ее кузине. Джоанна де Ринель, стоя у края бассейна с теплой водой, обращалась к Деве Кипра по-гречески, и ее голос звучал жестко и требовательно. В конце концов киприотка вскочила, да так стремительно, что едва не поскользнулась на мокром мраморе, и убежала за ширму так быстро, что ее мощные ягодицы заколыхались.
— Не будь с ней так сурова, кузина, — заметила Пиона. — Вспомни, когда-то и мы с тобой плескались нагишом в море у берегов Кипра.
О, то были славные деньки! Они с Джоанной устраивали вечера с танцами, носились верхом, слушали пение менестрелей и играли в куртуазную любовь. Но все это было до болезни Джоанны. С тех пор милую кузину словно подменили: она стала скрытной и необщительной, порой становилась резкой, а молилась едва ли не чаще, чем благочестивая королева Беренгария. И все больше стремилась к одиночеству. Даже эти восхитительные бани она отказывалась посещать, ссылаясь на то, что предпочитает обливание из кувшина в своих покоях. А ведь прежде она с такой жадностью стремилась изведать все новое! В чем же причина такой перемены?
Однако на кузину, как и ранее, можно было положиться. И пока Иоанна находилась в бане, именно Джоанна занималась подготовкой предстоящего приема. А теперь явилась, чтобы отчитаться перед сестрой короля, пока ту растирали и расчесывали ее волосы. В их окружении считалось, что вдовствующая королева Сицилии и ее кузина по-родственному похожи — обе довольно рослые, худощавые, темноволосые и сероглазые, у обеих яркие крупные губы, однако Иоанна была вынуждена признать, что таких замечательных кос, как у Джоанны, ей не доводилось видеть ни у кого. И пусть сейчас та была одета в простое бледно-серое блио без всяких украшений и вышивок, сами эти косы служили лучшим украшением ее наряда.
Джоанна стояла перед королевой выпрямившись, ее руки были опущены, а длинные рукава, словно острые крылья, ниспадали почти до пола, скрывая кисти рук. Но вот она сделала непроизвольное движение, чтобы поправить выбившуюся прядь волос, и Иоанна, удивленная, спросила:
— Ты и сейчас в перчатках?
В самом деле, странно: в последнее время кузина почти не появлялась на людях с открытыми руками. В такую-то адскую жару! Что это? Причуда? Или попытка ввести новую моду?
Джоанна поспешно спрятала кисти рук в рукава и стесненно улыбнулась.
— А, вы об этом… Лиловые перчатки хорошо сочетаются с серым шелком. Вы не находите?
И тут же заговорила о другом: Изабелла Иерусалимская уже явилась и ожидает прибытия гостей.
— Она снова накрасила ладони хной и надела эту свою ужасную серьгу с жемчужиной? — со смешком поинтересовалась Иоанна.
Джоанна отвечала без тени улыбки: насколько она заметила, маркиза Монферратская велела проколоть себе нижнюю губу и вдела в нее колечко, украшенное крохотным алмазом.
— Это, должно быть, выглядит чудовищно! — охнула сестра Ричарда. — Ну а ты что наденешь, кузина?..
Оказывается, та и не думала наряжаться. Когда дамы, облаченные в шелка и вуали всех мыслимых цветов, в диадемах и драгоценностях, явились в покой для приемов, Джоанна скромно отступила, предоставив им оценить ее усилия по подготовке к торжеству.
Принимать гостей было решено в небольшом зале, выходившем на высокую террасу с изящным портиком, затененную деревянными решетками. Вдоль стен, сверкающих голубой с золотом смальтой, стояли низкие, покрытые коврами диваны с шелковыми валиками и подушками. На мраморном полу возлежала громадная львиная шкура с оскаленной пастью и глазами из хризолитов, а прочая мебель — легкие инкрустированные столики и кресла — согласно восточной традиции также были приземистыми. Впрочем, для тех, кому Восток был не по душе, имелось несколько самых обычных кресел с резными подлокотниками. Очарование покою придавали легкие шуршащие занавеси, расставленные вдоль стен высокие чеканные вазы, полные свежих цветов, и кадки с лимонными деревцами и раскидистыми пальмами, превратившие зал в изысканный сад. В воздухе витал аромат благовоний, которыми были наполнены ажурные курильницы, в просторных клетках, подвешенных в углах помещения, щебетали птицы. Словом — сущий рай в восточном вкусе, в котором роль гурий предстояло играть прекрасным королевам-христианкам.
Одна из них уже с удобством расположилась на груде подушек и поедала засахаренные фрукты. Изабелла Иерусалимская чувствовала себя здесь как дома и даже не сочла необходимым приветствовать появившихся в зале дам. На ее нижней губе и в самом деле остро поблескивал алмаз, а перо, украшавшее великолепный тюрбан, было настолько длинным, что маленькая мартышка, которую привела с собой на поводке королева Беренгария, то и дело пыталась дотянуться до его свисающего кончика.
Эту обезьянку подарил супруге Ричард, чтобы зверек забавлял Беренгарию в часы досуга. Однако мартышка чаще приводила королеву в отчаяние, чем тешила. Вот и теперь она каким-то образом исхитрилась освободиться от ошейника и, схватив первое, что попалось в лапы, — позолоченный карманный молитвенник Беренгарии, — вскарабкалась на капитель одной из колонн террасы и принялась грызть отделанный перламутром угол переплета.
— Ну до чего же нечестивое животное… да простит меня Господь!.. — едва не плакала королева, пока ее дамы безуспешно пытались согнать обезьянку с капители и отнять у нее драгоценный молитвенник.
Принцесса Иерусалимская искренне веселилась, наблюдая за их усилиями, но когда Беренгария велела послать за лучником, пока мартышка не погубила молитвенник окончательно, решила вмешаться. Прихватив со стола спелый персик, она стала дразнить им зверька, а потом внезапно спрятала руку за спину. Этого оказалось достаточно — обезьянка тут же забыла про молитвенник королевы и бросилась отнимать сочный плод.
Присутствующих это развеселило, лишь Беренгария, поджав губы, удалилась за колонны, чтобы привести в порядок книгу. Там она обнаружила сидевшую в одиночестве Джоанну де Ринель. Будучи добросердечной от природы, королева принялась было утешать ее, ибо при дворе считалось, что перемена в поведении Джоанны вызвана ее беспокойством о супруге, отсутствие которого становилось все более странным. Но от ласковых слов королевы Джоанна еще больше замкнулась, а когда Беренгария сердечно обняла и привлекла к себе молодую женщину, так внезапно отстранилась, что это могло быть сочтено грубостью.
Следившая за обеими Иоанна поспешила вмешаться.
— Подойди сюда, милая! — окликнула она Джоанну и увлекла ее на ту сторону террасы, откуда открывался вид на внутренний двор замка. Там в это время конюхи вываживали на корде двух великолепных скакунов. Могла ли такая ценительница лошадей, как хозяйка поместья Незерби, остаться равнодушной к подобной красоте!
— Этих скакунов преподнес Ричарду султан Саладин, — с улыбкой пояснила Иоанна. — Ты знаешь, что наши короли и султан обмениваются дорогими дарами, как и подобает благородным владыкам во время перемирия. Ричард уже отправил Саладину отменных охотничьих собак и соколов, а тот в ответ прислал ему невиданно красивые чаши из яшмы и нефрита, а в придачу — этих дивных коней. Ты только погляди на них, кузина! Вон тот, высокий и пятнистый, как барс, привезен из Берберии. Эти лошади не так сильны, чтобы нести рыцаря в боевом доспехе, но на диво хороши для верховых прогулок и охоты. А вон та кобылка из Сирии… Просто чудо! Серебристо-бежевая масть, с белоснежной гривой и голубыми глазами… Видывала ли ты когда-нибудь голубоглазых лошадей, милая? Что скажешь?
Иоанна ждала восклицаний восторга, но серые, как туман, глаза кузины остались пустыми и равнодушными. Впрочем, Джоанна обронила несколько слов — как бы из необходимости поддерживать беседу: у кобылы явные признаки арабской породы — изящная голова с широким лбом, сильно сужающаяся к широким и подвижным ноздрям, маленькие уши, красивый изгиб шеи, приподнятый круп и высоко посаженный хвост. Эту лошадь холили и берегли, поэтому ее атласная кожа сохранила чудесный серебристый отлив…
Иоанна почувствовала разочарование. Кузина говорила, как барышник на конской ярмарке где-нибудь в Норфолке.
— Эта бежевая лошадка — моя, — прервала она Джоанну. — Правда, поначалу считалось, что она достанется Беренгарии, но посол, передавший лошадей, пояснил, что Саладину известно — королева не слишком опытна в верховой езде, поэтому лошадь предназначена в дар сестре Мелика Рика, то есть мне. Любопытно, каким образом султан узнал, что Беренгария робкая наездница, а я, наоборот, страстно люблю быструю езду?
— Это всем известно, Пиона, — вполголоса отозвалась Джоанна. — Вся Акра видит, как часто ты выезжаешь верхом, а Беренгарию до сих пор никто не замечал в седле.
— И тебя, кстати, также, — заметила Иоанна. — Ты совершенно отказалась от прогулок верхом, кузина. Что случилось с самой отважной наездницей Англии? Что вообще с тобой происходит? Это… Это из-за Обри?
Джоанна молчала, наблюдая, как легко гарцует бежевая арабка, потряхивая гривой. До чего же благородное создание! Сколько всего прекрасного вокруг! И ясное южное солнце, и высокие стены с ажурными архивольтами, обрамляющими арки окон, и финиковые пальмы, широко раскинувшие перистые листья, и эти крикливые чайки, носящиеся над городом… Но ничто уже не в силах вернуть ей радость. Ее ждет смерть — медленная, мучительная, позорная. Такова расплата за краткий миг любви. Небо покарало ее запретную страсть…
Джоанна проглотила сухой комок, застрявший в горле.
— Со мной все хорошо, ваше величество. Просто жарко. И я немного утомилась, готовя прием. Может быть, вы позволите мне удалиться?
Но уходить было поздно — позади уже слышались громкие мужские голоса, и дамы поспешили приветствовать возвращавшихся с совета королей и вельмож.
Мужчин было около дюжины — короли Ричард, Филипп и Гвидо, епископы Бове, Солсбери и Пизы, маркиз Монферратский и другие. Конрад тут же расположился на подушках подле супруги и склонился, ласково целуя ее руки. А молодой и пригожий Генрих Шампанский, проходя мимо, лукаво подмигнул Изабелле, и та не удержалась, чтобы не вернуть графу игривый взгляд.
Прелаты и вельможи рассаживались кто в европейских креслах с высокими спинками, кто на низкой софе или среди диванных подушек. Гвидо и его брат Амори чувствовали себя совершенно непринужденно в восточной обстановке, зато герцог бургундский Гуго лишь с сожалением крякнул, когда епископ Бове успел занять единственное остававшееся свободным кресло под пальмой. Герцог мрачно отказался от предложенного пажом прохладительного и, побродив среди столиков с яствами, опустился на софу, прикидывая, как распорядиться собственными ногами, чтобы это не выглядело нелепо. Неподалеку он заметил укрывшуюся за пальмой красавицу Джоанну де Ринель. Та бросила на него всего один взгляд и отвернулась, но герцогу почудилось, что он с его ростом и богатырской комплекцией выглядит в глазах прелестной дамы смешным на своем кургузом седалище. Он даже позавидовал Леопольду Австрийскому, который без всяких церемоний развалился на львиной шкуре, придвинул поближе блюдо с холодной бараниной и принялся поглощать ее, вытирая жирные руки о гриву распростертого под ним царя зверей.
Присутствовавшие здесь же магистры орденов умудрялись сохранять достоинство, даже восседая среди шелковых подушек, и лишь маршал храмовников Уильям де Шампер остался стоять на террасе, облокотившись на балюстраду. Любимец Ричарда менестрель Блондель уже сидел у ног своего господина, наигрывая на лютне легкую плавную мелодию.
Ричард Львиное Сердце старался казаться веселым и приветливым. Он нежно поцеловал руку королевы, раскланялся с дамами и пригласил гостей отведать угощение. При этом он благодушно посмеивался и шутил. Тем не менее было очевидно, что хворь еще не вполне покинула его: король осунулся, под его глазами лежали свинцовые тени, движениям не хватало легкости. Вдохновение, всегда окрылявшее его в минуты опасности, ушло, а сейчас, пока длились изнурительные переговоры с султаном, с каждым днем у короля становилось все больше забот.
Несмотря на то что в Акре находилось несколько вельмож, считавших себя предводителями крестоносцев, именно Ричарду довелось решать самые насущные задачи — как разместить в городе и за его стенами столь многочисленное войско, как содержать и охранять две с половиной тысячи пленных сарацин, выкуп за которых должен был основательно пополнить казну королей. Сверх того ему приходилось договариваться о поставках продовольствия с Кипра и за все платить из собственного кармана, ибо король Филипп заявил, что его походная казна совершенно пуста.
Не менее важно было занять людей делом. Ибо при такой массе вооруженных людей, не знающих, куда приложить свои силы, неминуемо должны были начаться бесчинства — ссоры между самими крестоносцами и стычки с местным населением. По приказу Ричарда рядовых воинов направили на восстановление разрушенных укреплений Акры — и эту работу опять же оплачивал он. Желающих получать жалованье нашлось немало, в городе мало-помалу оживали разрушенные кварталы, а стены и башни крепости росли заново, как на дрожжах. В гавань начали заходить купеческие корабли, зашумели городские рынки.
Но вся эта видимость порядка и благополучия держалась одним — железной волей короля Ричарда. И если в походе воинов кормит война, то теперь армия была вынуждена бездействовать до тех пор, пока не наступит срок передачи выкупа за пленных — начало августа. Достаточно времени, чтобы отдохнуть от битв, привести в порядок оружие и доспехи, подлечить раненых и больных.
А между тем внутренних проблем у крестоносного воинства было не меньше, чем внешних. Ричарду приходилось отстаивать права короля Гвидо на трон, подтверждать права подозрительного Конрада на наследование короны Иерусалима, препятствовать едва не состоявшемуся поединку Конрада с коннетаблем Амори де Лузиньяном, который подозревал маркиза в сговоре с сарацинами, ибо тот подозрительно быстро столковался с эмирами о сдаче города. Ему даже пришлось принести извинения Леопольду Австрийскому, пригрозившему, что после публичного унижения, которому его подверг Ричард, он покинет Акру вместе со всеми своими людьми. Не так уж их много было у Леопольда, но этот поступок мог послужить примером для других.
И вот теперь, когда король Англии, поправ свою гордость, сумел заставить австрийского герцога остаться в Палестине, Филипп Французский внезапно объявляет, что состояние здоровья больше не позволяет ему находиться в Святой земле!
Ричард надеялся, что это всего лишь уловка. Просто Филиппу нужна очередная денежная подачка. Поэтому он сдержался, не вспылил и не стал напоминать союзнику об их клятве отвоевать Иерусалим. Клятве, свидетелями которой был весь христианский мир. Но король Франции не из тех, на кого можно давить, следовательно, придется быть любезным и предупредительным.
— Будьте добры к нашим дорогим гостям, любезные дамы! — с улыбкой заговорил Ричард. — И пусть ваша красота развеет грусть славного короля Филиппа — правителя и полководца, который знает, что для истинного рыцаря нет чести выше, чем проявить доблесть, когда на него взирают столь прекрасные очи.
Королева Беренгария, Иоанна Плантагенет, Изабелла Иерусалимская и Дева Кипра окружили Капетинга, осыпая его любезностями. Перед монархом словно сам собой возник столик, уставленный яствами — долмадес с бараниной в виноградных листьях, слоеные пирожки с рубленой курятиной, приправленной перцем, сахаром и корицей, на блюде под хрустальным колпаком покоился круг белого сыра с душистыми травами. Филипп — истинный француз, не мысливший трапезы без сыра, — собственноручно отрезал изрядный ломоть и принялся жевать, запивая его легким светлым вином из высокого бокала. Он улыбался, слушая дамский щебет, а его собеседницы изо всех сил делали вид, что их нисколько не удивляют перемены, которые произвела болезнь в облике французского монарха.
Король Филипп исхудал, кожа его лица бугрилась от недавно сошедших гнойников и болячек, он начисто лишился бровей, а волосы, некогда столь легкие и кудрявые, так поредели, что макушка оголилась почти полностью. Даже роскошный филигранный венец, усыпанный изумрудами и розовым жемчугом, не мог этого скрыть. Тем не менее король держался с дамами игриво и даже выпросил у Иоанны Сицилийской поцелуй.
Это было вполне в куртуазном духе, однако Пиона все же вопросительно взглянула на брата. Ричард едва заметно кивнул, продолжая улыбаться, и она позволила Филиппу обнять и поцеловать себя.
— Ах, милая Пиона! — вздохнул Капетинг, снова усаживаясь. — Когда-то я мечтал, что в один прекрасный день объявлю на весь свет о нашей любви. Но теперь мне остается лишь сокрушаться и сожалеть. Должно быть, только воздух милой родины исцелит меня от злой тоски.
— Жар доброй схватки тоже неплохое лекарство от этого недуга, не так ли, Филипп? — весело откликнулся английский король. — И когда наши знамена снова взовьются над башнями Священного Града… Кстати, милые дамы! Не поможете ли вы мне убедить этого упрямца присоединиться к обету, который я надеюсь получить от всех предводителей крестоносных воинств: они должны поклясться провести в Святой земле три года — именно столько необходимо для окончательной победы над врагами Христовой веры. И уж, по крайней мере, не возвращаться домой до тех пор, пока Иерусалим не будет отвоеван у Саладина!
Он произнес это так, чтобы его слышали даже в отдаленных уголках зала. Первым поддержал Ричарда герцог Бургундский. Вскочив со своей дьявольски неудобной софы, он воскликнул, что хоть сию минуту готов принести подобный обет. При этом он обратил выразительный взор к своему королю, но тот молчал и казался занятым исключительно смакованием долек абрикосов в сахарной пудре.
— Филипп, а что на это скажете вы? — не выдержав молчания союзника, обратился к королю Франции Ричард. В его голосе, наряду с вкрадчивыми интонациями, на сей раз послышался приглушенный львиный рык.
— Ах, любезный друг, — отправляя в рот очередную порцию лакомства, отозвался тот. — Болезнь обошлась со мной куда более жестоко, чем с вами. Поэтому я пока промолчу, чтобы не давать обетов, исполнению которых могут воспрепятствовать мои телесные и душевные недуги.
— Но ведь вы не оставите нас беззащитными среди сарацинских полчищ, ваше величество? — лукаво взглянула на него Иоанна.
— Можно ли считать себя беззащитной, когда вас оберегает ваш великий брат? — улыбнулся Филипп. При этом стало очевидным, что болезнь лишила его не только изрядной части волос, но и нескольких зубов.
Возникла неловкая пауза. Никто не решался впрямую обвинить короля Франции в измене святому делу, но никто не смел и настаивать, не зная, что в действительности у него на уме и как это может отразиться на дальнейшем развитии событий.
Ричард откинулся на спинку кресла, лицо его побагровело, могучие руки сжали подлокотники, однако ему удалось сдержаться.
— Спой нам, Блондель! — велел он менестрелю.
Тот ударил по струнам и затянул песню, которую распевали крестоносцы, прославляя отважного Ричарда Львиное Сердце, приведшего их к победе в Акре:
- И славил Ричарда воинский стан!
- Все говорили: «Сей средь христиан
- Вождь наилучший!
- Он в час мирный и в бою
- Творит Господню волю — не свою!..»
Филипп внимательно слушал, и лицо его постепенно менялось — словно он ел не сладкий абрикос, а подгнивший лимон.
Как же все они теперь восхищаются Ричардом! А ведь еще совсем недавно лагерь крестоносцев готов был взбунтоваться, когда Ричард велел вышвырнуть оттуда всех торговцев и шлюх и заставил строить осадные орудия и копать землю не только простых латников, но и опоясанных рыцарей. К Филиппу тогда потянулись возмущенные жалобщики, проклинающие наглое самоуправство Плантагенета. Впрочем, от его денег они не отказывались и брали их с охотой, а Ричард бдительно следил, чтобы нанятые им люди отрабатывали свое жалованье как с оружием в руках, так и с киркой. А потом дело пошло — в лагере установился порядок, возродился утраченный боевой дух, а с ним и вера в святость их дела. Воины Христа теперь чаще молились, чем жаловались на отсутствие шлюх и торговцев вином и опиумом. Когда же Акра пала, эту победу приписали упорству и решимости Ричарда. Словно не Филипп вел своих воинов на штурм, и не его Праща Господня разрушила Проклятую башню!
Бесспорно, крестовый поход был их общим делом. Но хоть Ричард и считался вассалом короля Франции, именно его, Плантагенета, молва признала главой крестоносного воинства. Оттого и слагались хвалебные песни, подобные той, которую сейчас распевает Блондель…
Ричард сверкал улыбкой, когда задорный мотив заставлял всех присутствующих в зале подпевать менестрелю. Когда же Блондель закончил и отложил лютню, герцог Бургундский, без оглядки на своего сюзерена, разразился бурными рукоплесканиями.
Король Англии склонился к Филиппу:
— Ну что, кузен, готовы ли вы выступить со мной против Саладина, чтобы трубадуры воспевали и ваше имя? Я буду счастлив разделить с вами воинскую славу!
— Видит Бог, меня утомляют эти воинственные солдатские напевы. Я бы предпочел услышать что-нибудь более нежное, мелодичное и возвышенное. Кажется, я вижу там прелестную певунью мадам Джоанну де Ринель? — Он прищурился, разглядывая молчаливую темноволосую даму, полускрытую перистыми листьями пальмы.
Ричард подал знак Джоанне приблизиться.
— Подойдите к нам, милая кузина, — проговорил он. — Филипп прав: мы слишком долго были лишены счастья слышать ваш дивный голос. Порадуйте же нас!
Джоанна сделала несколько шагов и остановилась перед королями, храня молчание. Блондель протянул было ей лютню, но, убедившись, что дама не намерена принять из его рук инструмент, смешался.
Однако короля Филиппа появление Джоанны привело в отличное расположение духа.
— Редкое счастье: видеть вместе стольких красавиц, среди которых просто невозможно выбрать прекраснейшую. И все же сегодня я хотел бы быть рыцарем Джоанны де Ринель. Говорят, ваш муж покинул вас, мадам? Но стоит ли о нем сожалеть, ведь поступить так мог только безумец! Зато у вас теперь есть я!
Неожиданно притянув Джоанну к себе, Филипп усадил ее к себе на колени. Пиона занервничала и попыталась поймать взгляд Ричарда. Но тот хмурился и молчал. И таким же взглядом следил за Филиппом и Джоанной маршал тамплиеров Уильям де Шампер.
— Согласны ли вы подарить мне всего один поцелуй, прекрасная дама? — король Франции улыбался, все крепче сжимая молодую женщину в объятиях.
— Не стоило бы вам меня целовать, ваше величество. Вряд ли это будет полезно для вашего здоровья и вашей красоты.
Упоминание об изменениях, которые претерпела его внешность, задело Филиппа.
— Несговорчива, как и все Плантагенеты… — процедил он сквозь зубы. — Помнится, когда-то вы были куда более благосклонны ко мне!
— Ошибаетесь, государь. А теперь вам и подавно следовало бы держаться подальше от меня. Некоторые болезни бывают заразными.
Филипп побледнел, его улыбка застыла. Он больше не удерживал молодую женщину, и та поднялась с его колен и поспешно покинула зал. Ричард удрученно молчал, да и все прочие испытывали смущение.
Лишь Блондель попытался разрядить тягостное безмолвие шуткой:
— Знаете ли, какую забавную историю рассказывают в Акре? Бредет по пустыне паломник, а навстречу ему огромный лев. Паломник взмолился: «Господи, внуши этому льву истинно христианские мысли!» И Всевышний услышал его, ибо лев тут же пал на колени и прорычал: «Господи, благослови пищу мою!»
Послышались осторожные смешки, но от прежней непринужденности не осталось и следа. Наконец Филипп поднялся, объявив, что утомился и неважно себя чувствует, и все присутствовавшие начали раскланиваться.
Несколько погодя Ричард Львиное Сердце отвел в сторону Уильяма де Шампера и попросил побеседовать с сестрой. Она поразительно изменилась, и временами ее дерзость превосходит всякие границы, на нее многие жалуются.
— Если речь идет о резком ответе леди Джоанны королю Франции, то я хотел бы знать, сир: не желаете ли вы, чтобы моя сестра поощряла его ухаживания? — мрачно обронил Уильям.
Ричард исподлобья взглянул на тамплиера.
— Думаю, только служба в ордене мешает вам понять, что следование куртуазным обычаям — признак хорошего воспитания дамы. Что касается Джоанны, то она и в самом деле была любовницей короля Филиппа. Тогда, во Франции, мне удалось замять это дело, и ее честь осталась незапятнанной. Не позволил бы я оскорбить свою родственницу и сейчас. Но ее дерзость и грубые речи способны вконец разозлить Капетинга, и если он покинет Палестину и уведет за собой французское воинство… Право, капризы одной дамы не стоят того, чтобы поставить на грань провала весь план кампании по отвоеванию Гроба Господня!