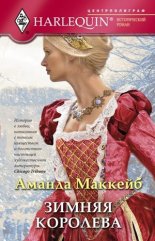Круговой перекресток Гайворонская Елена

– Ненавижу, – твердо объявила я. – И врать тоже не люблю, но приходится, потому что правдой с вами ничего не добьешься.
– Как это понимать? – нахмурилась мама. – Каким враньем и чего ты собираешься добиться?
Тут я взяла и на одном дыхании рассказала про сговор с Алкой, про объявление и про то, что завтра должна приехать покупательница. А еще добавила, что, если меня не избавят от пианино, сама от него избавлюсь. Топором разобью.
Мама слушала очень внимательно и смотрела так, будто видела меня впервые.
– Но ведь у тебя хорошо получается играть, – вздохнула она.
– У тебя готовить тоже хорошо получается, – возразила я. – Но ты же не работаешь поваром.
Мама устало потерла виски:
– Хорошо. Будь по-твоему. Мы продадим пианино. Только не ври мне больше. Ложь оскорбляет и унижает не только того, кому лжешь, но в первую очередь тебя.
– Я не хотела врать, – призналась я. – Но пришлось. Потому что правду вы не желали слышать. Люди часто слышат только то, что хотят.
Это было истиной, которую я постигла не вполне осознанно, потому что была мала для разумного понимания подобных вещей, но инстинктивно, чутьем, как неразумный зверек постигает азы существования в этом мире, иначе ему не выжить. Алка постигла эту истину прежде меня, потому что раньше шагнула из картонных стен кукольного домика детства в космос взрослой реальности.
Мама снова потерла виски и посмотрела в окно. Она выглядела растерянной и чуть виноватой. Мне даже показалось, что она избегает моего взгляда, и мне стало совестно и немного печально, оттого что поставила ее в неловкое положение.
– Обещаю впредь внимательно слушать тебя, – сказала мама. – Но и ты пообещай, что не станешь мне врать, договорились?
Я согласилась. Мама кивнула и вышла из комнаты.
Тотчас я услышала возмущенные причитания бабушки и подумала, что мама сдастся и все останется по-прежнему. Но мама сдержала слово. На следующий день пожаловала покупательница – высокая сухая дама с вытравленными краской пегими прилизанными волосами и тонкими недовольными губами. С ней пришла девочка лет шести в воздушном розовом платьице с тонкими темными косицами, увенчанными большими красными бантами. Дама облазила инструмент, постучала по всему, по чему можно было постучать, побренчала по клавишам, недоверчиво спросила:
– Почему продаете?
– Дочка не хочет играть, – объяснила мама. – Не нравится.
Дама смерила меня уничижительным взглядом:
– Еще их спрашивать. Много чести, – и железным тоном объявила безмолвной девочке с тонкими косицами: – Будешь играть.
Девочка покорно опустила пушистые черные ресницы и еле слышно вздохнула. Я смотрела на нее с нескрываемым сочувствием.
Сон
Иногда я видела кошмарный сон. Огромный страшный человек гонялся за мной по комнате. Я видела его отчетливо. Все, кроме лица. На моем преследователе были грязная тельняшка, треники с пузырями на коленях, руки с крючковатыми волосатыми пальцами держали нож… Кухонный нож с деревянной ручкой и длинным лезвием… Я знала, что мне надо спрятаться под кровать, тогда он меня не достанет. Я бежала из последних сил, но ноги переставали слушаться, а он приближался… Я кричала, кричала изо всех сил и просыпалась от собственного крика в холодном поту, с трясущимися руками и ногами.
Родители водили меня по врачам. Мне мерили давление, надевали на голову черный шлем, записывали показатели работы мозга. Мозг оказался вполне нормальным. Врачи никак не могли понять, откуда у тихой девочки из интеллигентной семьи безобразные видения.
– Ты знаешь этого человека? – участливо спрашивала сухонькая пожилая докторша.
Я мотала головой.
– Возможно, ты видела его где-нибудь? – продолжала допытываться она.
– Я не помню. Я не вижу его лица.
– Ты куда-нибудь прячешься от этого страшного человека?
– Под кровать. То есть я стараюсь до нее добежать и просыпаюсь.
– М-да… – покачала головой докторша и предложила гипноз.
Возможно, предположила она, девочка стала свидетельницей травмирующей ситуации, которая чем-то завершилась. Но именно это завершение мозг блокирует, и видение повторяется и будет повторяться до тех пор, пока ситуация не разрешатся. Под гипнозом возможно окончательное завершение ситуации, после чего она останется в прошлом и перестанет преследовать ребенка.
Мама от гипноза категорически отказалась.
– Не было никаких травмирующих ситуаций, – твердо сказала она. – У нас нормальная семья.
– Психологическая травма не обязательно связана с семьей, – возразила докторша. – Возможно, девочку испугали буйные соседи, подсмотренный страшный фильм. Психика взрослого человека закалена, ребенок уязвим и беззащитен, мир кажется ему огромным и подчас враждебным. Допустим, вы стали свидетелем уличной драки или пьяного дебоша и через пять минут забыли о случившемся, но ребенок, который прежде не наблюдал ничего подобного, непременно зафиксирует это в подсознании. И в дальнейшем его мозг может сыграть злую шутку, выдавая пугающие сновидения. Обычно с возрастом, когда в копилку мозга откладываются иные, более сильные и разнообразные впечатления, то, что называется жизненным опытом, детские страхи отходят на второй план и исчезают.
Доктор выписала таблетки. После таблеток я стала сонной и заторможенной, но кошмар повторялся все реже и реже.
Я стала его забывать, как однажды душной июльской ночью не помню, что мне привиделось, но я проснулась оттого, что мама трясла меня и гладила по взмокшему лбу.
– Саша, Сашенька, очнись! Ты снова увидела тот сон?
Мама обняла меня и заплакала.
Мне стало ее ужасно жаль. В отличие от бабушки, у которой всегда слезы были наготове, мама держалась и любые неприятности старалась встретить мужественно. Папа называл ее стойким оловянным солдатиком. Если уж мама плакала, значит, ей действительно было очень плохо. Она страдала из-за меня, моих дурацких кошмаров, и от этого мне было вдвойне тягостно.
Папа протягивал стакан с водой, руки его дрожали и гладили меня по голове. Бабушка немым укором громоздилась в дверях.
– Все книжки проклятые, – пробормотала она. – Столько читать – ум за разум зайдет. Докатится до психушки…
– Да замолчи ты! – крикнул дед. – Раскаркалась!
А я подумала, что, даже если маньяк вернется, больше я об этом никому не скажу, потому что не хочу, чтобы мама плакала, у папы дрожали руки, а бабушка считала меня сумасшедшей. Это мой кошмар, и я буду бороться с ним сама.
Гибель Виталика
Стоял знойный субботний августовский полдень. Папу еще утром вызвали на работу по причине какой-то аварии. Мама готовила обед, я валялась с книгой на диване, наслаждаясь последними днями каникул. Неожиданно, нарушив сонное спокойствие тихого московского двора, вспугнув заполошных собак и растревожив бабушек на лавках, внеслась новенькая белая «Волга», лихо выписала разворотный крендель, округа огласилась громкой музыкой из динамиков и оглушительным ржанием. Виталик возник на пороге веселый, возбужденный, карие глаза взволнованно блестели. Он протянул мне рыжего плюшевого тигренка с голубыми глазами и симпатичной мордочкой.
– Танюха, поздравь, женюсь! – выпалил он. – Всех приглашаю на свадьбу!
– Поздравляю, – искренне обрадовалась мама, чмокнула кузена в щеку, а он сгреб ее в охапку и покружил по крохотному коридору, едва не сшибив вешалку. – И кто она? – спрашивала мама. – Как зовут? Я ее знаю?
– Замечательная девчонка, – Виталик заговорщицки подмигнул, – папа дипломат, между прочим.
– Понятно, – кивнула мама.
– Не в этом дело, – отмахнулся Виталик, – она действительно потрясающая. Зовут Ира. Мы недавно познакомились на одной вечеринке. И знаешь, как бывает, что-то внутри екнуло. Впервые. Она тебе понравится. Совсем не похожа на моих прежних девчонок. Такая милая, домашняя, вроде тебя. – Он снова радостно засмеялся. – А сегодня у нас мальчишник, поедем в Ильинское, загудим напоследок! Паша-то дома?
– Нет его, – развела руками мама. – На работу вызвали.
– Ни фига себе! – изумился Виталик. – Суббота же!
– Что делать, партия сказала «надо» – сам понимаешь. Да у вас и так комплект. – Мама выглянула в окно: вокруг «Волги» курили и потягивали пивко Федечка и трое парней. Федя приветственно помахал маме рукой.
– Ничего, в тесноте, да не в обиде. Как тебе моя новая красавица? – Это уже адресовалось машине. – Заодно обмоем.
– Надеюсь, ты не станешь пить за рулем? – нахмурилась мама.
– Обижаешь, сестренка! Как-нибудь до дачи потерплю! Жаль, что Пашки не будет.
– Мы к вам еще приедем, – пообещала мама.
– И не один раз! Ну, пока. – Виталик чмокнул маму, ущипнул меня за щеку, сказал: – Пока, Санек!
Из окна мама посмотрела, как веселая гопкомпания загружается в белую «Волгу», покачала головой и вернулась к кастрюле.
Когда папа вернулся с работы, мама сообщила ему новость.
– Давно пора остепениться, – улыбнулся папа. – Сколько ему? Тридцать?
– Тридцать один. Вот не поехал на мальчишник – много потерял.
– Думаю, не так уж много. У меня здоровья не хватит столько пить. – Папа выразительно посмотрел на палец. – Лучше с Санькой в парке погуляем.
– Конечно, лучше, – подтвердила я.
Мы уже собирались выходить, когда раздался телефонный звонок.
Федечкин голос срывался на истеричные рыдания.
– Что случилось? – переспросила мама. – Что?! – Она побелела как снег, спросила осипшим голосом: – Где вы?
Я поняла: произошло что-то очень серьезное и страшное. Никогда не видела маму такой потерянной и несчастной. Губы у нее запрыгали, из глаз, размывая черную тушь, хлынули слезы. Руки тряслись, когда она вешала трубку на рычажки.
– Поедем к тете Маше, – тихо обратилась к деду. – Надо ей сказать… Виталик разбился на машине. Насмерть.
Только много лет спустя, когда выросла, я узнала, как все произошло. На даче в Ильинском веселая компания накачалась спиртным, Виталик предложил поехать купаться, все с удовольствием согласились. Залезли в машину. Нетрезвый водитель не справился с управлением, «Волга» вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком… Мария Ивановна сперва не хотела верить в страшную весть, потом стала дико кричать и биться головой о стену. Федечка, рыдая, рассказывал, что сам не мог вытащить брата из покореженной машины, просил его потерпеть, а тот глухо стонал в ответ. Когда спасатели разрезали автомобиль специальными ножницами, было уже поздно… Отец, узнав о гибели старшего сына, попал с инфарктом в больницу, откуда вышел поседевшим стариком и долго на этом свете не задержался… Обезумевшая мать винила уцелевшего сына за то, что не отговорил брата от поездки, повторяла:
– Ты должен был его остановить. Почему ты его не остановил?!
Федечка не отвечал, только плакал и пил.
Я была маленькой, и, конечно, подробности от меня утаили. Но в тот вечер поняла, что случилось нечто ужасное, непоправимое, с чем я прежде никогда не сталкивалась и с чем, по моему внезапному озарению, мне еще не раз придется столкнуться. Я знала, что больше никогда не увижу веселого и доброго дядю Виталика, и от осознания этого мне было тоскливо и страшно.
С того злополучного дня у Балашовых началась черная полоса. Невзгоды посыпались на семью как из рога изобилия, будто кто-то свыше спохватился, что отсыпал слишком много благополучия, и поспешил исправить ошибку.
Едва выйдя из больницы, Балашов-старший, невзирая на строжайшие врачебные запреты на перегрузки, буквально дневал и ночевал на работе. Должно быть, таким образом пытался хоть на несколько часов забыться и не вспоминать о страшной трагедии. Дома все напоминало о Виталике, и он старался уйти как можно раньше, а вернуться как можно позднее. Лето выдалось жарким, как-то Федор Сергеевич прямо с работы уехал ночевать в Ильинское, а утром не явился на службу. Это было совсем на него не похоже. Позвонили Марии Ивановне, она тотчас выехала на дачу и нашла мужа мертвым. Федор Сергеевич скончался от сердечного приступа.
После его похорон у Марии Ивановны забрали служебную дачу, она была тому только рада – окруженный вековыми соснами деревянный терем стал ей ненавистен. Ей казалось, что именно дом стал причиной гибели двух близких людей. Если бы Виталик не поехал в тот день в Ильинское, ничего бы не случилось. Если бы Федор Сергеевич остался в Москве, Мария Ивановна вызвала бы скорую и его успели бы спасти. Вдове и младшему сыну оставили роскошную квартиру, хранившую воспоминания о былых счастливых днях и постигших несчастьях. Одна комната стала чем-то вроде мемориала. Мария Ивановна перенесла в нее все вещи погибших мужа и сына, в шкафу повесила рубашки и костюмы, на стенах – фотографии. На столе рядом с семейным альбомом стояла ваза с цветами, вначале живыми, а когда время слегка притупило боль, живые цветы сменились искусственными.
Федечка в глубине души считал себя косвенным виновником смерти брата. Когда мать устремляла на него полный боли и горечи взгляд, ему чудился молчаливый упрек. Ее слова: «Почему ты его не остановил?!» – часто звучали в голове. По ночам мучили кошмары: изрезанное стеклами окровавленное лицо Виталика. Он вставал, находил спрятанную бутылку водки, пил прямо из горлышка. Под воздействием алкоголя Федечка становился агрессивным, неуправляемым. Как-то при выходе из бара ему показалось, что прохожий посмотрел с осуждением, Федечка незамедлительно полез выяснять отношения и сломал прохожему нос. Подоспевший наряд милиции усмирил драчуна. Поскольку больше заступаться за Федечку было некому, а потерпевший оказался работником прокуратуры, Федечке дали три года колонии общего режима.
– Так ему и надо. Будет знать, как руки распускать. Привык, что все позволено, – сказала Клара.
Мама ничего не ответила. По сути, Клара была права, но ее злорадство было неприятно. Все-таки родственники.
Крушение мечты
Тем же летом Петр Иванович с супругой решили купить трехкомнатную кооперативную квартиру взамен своей двушки. Деньги заняли у безотказных Георгия и Евдокии. Тогда Татьяна впервые осмелилась поинтересоваться у родителей, почему бы им с Павлом тоже не приобрести кооператив, чтобы всем не толкаться в малогабаритке. У Евдокии это предложение почему-то вызвало бурный шквал эмоций. Оказалось, она не готова расстаться с единственной дочкой, даже если та переедет в соседний подъезд.
– Выходит, тебе с нами тесно! – запричитала она. – Вот благодарность! Мы тебе ребенка растим, а ты нас покинуть хочешь! Старые стали – помешали!
– Ну что за глупости! – оправдывалась Таня. – Мы же не в другой город уедем. Почему надо обязательно жить вместе?
– Раньше люди в бараках жили, коммуналках, и ничего. А теперь в отдельной квартире тесно стало! – не слушала никаких разумных доводов Евдокия. – В тесноте – не в обиде.
– При чем тут «раньше»! Раньше и в туалет на улицу бегали, ты же от унитаза не отказываешься! Время идет, люди улучшают условия.
– Ага, цари да бояре во дворцах жили, а потом их за те хоромы к стенке, да по этапу! Лучше жить просто, но спать спокойно.
– Времена Сталина в прошлом, – напомнила Татьяна. – Сейчас людей не сажают за взнос в кооператив.
– Сегодня не сажают, а завтра неизвестно, как обернется! Васька Козырев из сорок пятой тоже вон и квартиру купил, и дачу, и машину… А потом раз, и посадили за спекуляцию.
– Зачем ты все мешаешь в кучу?! – возмутилась мама. – Мы же не спекулянты. Деньги честным трудом заработаны, все доходы учтены.
Но проще было доказать что-либо телеграфному столбу, чем полуграмотной запуганной Евдокии. Она твердила свое: лучше не выделяться, жить, как все, вместе надежнее.
– Надо же подумать и о Сане, – выдвинула последний аргумент Таня, ее лицо уже пошло красными пятнами. – Девочка вырастет, соберется замуж, тоже сюда мужа приведет?
– И пусть приводит, – ударила кулаком по столу Евдокия. – Не дам согласия на разъезд, и точка.
Просто удивительно, как с годами меняются люди. Безропотная безотказная простушка Евдокия после смерти свекрови как-то незаметно, потихоньку переродилась в Кабаниху советского розлива, держащую немногочисленное семейство в цепком пухленьком кулачке. Таня никогда не была бойцом. Она отступила перед домостроевским натиском Евдокии. Георгий нашел дочь молчаливой, подавленной, глядящей в окно на серый двор в пятнах блеклых луж. Погладил, как маленького ребенка, по голове.
– Не волнуйся за Саньку, – тихо, чтобы никто не услышал, сказал он. – Я отложил деньги. Хорошую сумму. Положил в сберкассу на десять лет. Как раз к тому времени, когда Саша вырастет, будет ей квартира.
– Папочка, дорогой, жизнь-то проходит, – прерывисто вздохнула Таня. – Если бы ты знал, как мне надоело быть в положении вечной девочки. Я тоже хочу быть хозяйкой в своем доме, на своей кухне. Я обалдела от бесконечных гостей с котомками, и Павел с работы приходит уставший, а дома проходной двор. Своих друзей мы пригласить не можем – мама сердится, видишь ли, чужие дети раздражают. Вечно к Павлу цепляется, как он до сих пор не сбежал, ума не приложу. Санька психовать стала, у девчонки трудный возраст. К тому же мне неловко говорить с тобой об этом, но ты должен понимать, что у мужа с женой иногда бывают определенные желания, которые трудно удовлетворить, когда в головах очень чутко спит довольно большая дочка. На соседней улице кооперативный дом закладывают. Можем взять там двушку. Будем видеться так же часто, только спать каждый будет в своей квартире, у Саньки, наконец, появится своя комната – чем плохо?
– Хорошо, я поговорю, – пообещал Георгий.
И произошло чудо. Евдокия неохотно, со вздохами и унынием, согласилась на вступление в кооператив, взяв с дочери слово, что та будет навещать ее каждый божий день. Георгий внес предварительный взнос за двухкомнатную на десятом этаже.
Целый год мы гуляли на стройку, словно в парк, смотрели, как роют огромный котлован, забивают сваи, заливают фундамент. Потом, как школьный конструктор, стали собирать бело-голубые коробки этажей. Я уже представляла, как ко мне в окно будут забегать солнечные зайчики… Наконец дом вырос. Запрокинув голову, я смотрела вверх: крутилась стрела башенного крана, с земли казавшаяся игрушечной. Еще два этажа, и готово. Конечно, это была обыкновенная панельная башня, из тех, которые двадцать лет спустя раскритикуют за низкие потолки, гулкие стены и неудобную планировку. Но тогда бело-голубое строение казалось самым настоящим сказочным замком.
А потом была ураганная ночь. Поднялся шквалистый ветер. Ветви чахлых деревьев, растущих под моим окном, всю ночь колотили в стекло, словно молили укрыть их от стихии или предупреждали об опасности. Водосточная труба грохотала, не справляясь с ревущими дождевыми потоками. Огромный тополь во дворе вывернуло с корнями и обрушило на соседский старенький «запорожец», расплющив автомобильчик в лепешку. Но самое страшное потрясение ожидало нас на стройплощадке. Не выдержав напора ветра, башенный кран рухнул, пробив все двенадцать этажей. Погиб какой-то бедолага рабочий, оказавшийся в тот момент на стройке.
Моментально приехала высокая комиссия. В ходе проверки обнаружились многочисленные нарушения. Директор строительства получил немалый тюремный срок. Деньги раздали пайщикам, стройку заморозили.
– Не судьба, – сказала суеверная Евдокия.
Георгий грустно покачал головой и виновато развел руками, будто оказался причиной несчастья.
Как ни странно, материалистка Татьяна тоже поддалась фатализму и вслед за матерью горько повторила:
– Не судьба.
Стройку закрыли. Окрестные мужики, проделав лаз в заборе, растащили все, что могло, по их мнению, сгодиться в хозяйстве. Потом на заброшенной территории поселилась стая бродячих собак. По прошествии времени пригнали технику, разобрали останки дома и соорудили на его месте железные гаражи.
Федечка
Федечка отмотал срок от звонка до звонка. За три года постарел лет на двадцать. Трудно, почти невозможно было в хмуром сгорбленном худом человеке с потухшим взглядом, землистым заветренным лицом, распухшими обмороженными ногами узнать прежнего балагура, нараспев читавшего Блока и Мандельштама, бренчавшего песни Высоцкого. Любимая некогда гитара заняла место экспоната в комнате-музее старшего брата. Иногда пьяненький Федечка заводил на ней тягучие блатные песни, а Мария Ивановна менялась в лице и просила перестать.
Работать Федечка отправился на стройку. Говорил, что привык к физическому труду, что ему там комфортнее, чем за конторским столом. После смены часто с другими работягами соображал на троих, спьяну хвастался дворянскими корнями, за что получил прозвище Прынц. Работяги его жалели за непростую судьбу, и Федечке с ними было на удивление легко и комфортно. За бутылкой горькой просто решались проблемы, заводились друзья, отступали обиды, приходило веселье. Сквозь хмельной туман мир, полный углов и острых граней, слишком резкий, громкий, яркий мир, которому не хватало полутонов, выглядел мягким, размытым, приглушенным, приятным глазу и телу.
Мария Ивановна боролась с пагубной зависимостью, умоляла, плакала, грозила, вызывала для бесед Георгия. Но все было напрасно. Мария теряла второго сына и ничего не могла поделать. Однажды появилась надежда. Федечка встретил хорошую женщину, вдову, и предложил ей жить вместе. Марии Ивановне уже грезились звуки марша Мендельсона, агуканье младенца, топот маленьких ножек по персидскому ковру в гостиной… Но однажды Федечка крепко повздорил с гражданской супругой и, когда исчерпал аргументы, попытался разрешить спор при помощи кулаков. Та долго не раздумывала, собрала нехитрый скарб и ушла. Федечка попереживал да и вернулся к проверенному средству утешения – дружеской попойке.
Переходный возраст
Как-то незаметно подкрался переходный возраст с его перепадами настроения, беспорядочным ростом разных частей тела, прыщами, проблемами, казавшимися взрослым смешными, а нам архиважными. Время превращения миленьких деток в гадких утят. Время смутного томления, новых желаний, стремлений, разочарований. Алкин ветхий дом сподобились сносить, обитателей коммуналок раскидали по окраинам.
– У черта на куличках, в Бирюлеве, – вздыхала Алка. – Как только проведут телефон, я сразу тебе позвоню.
И, зашмыгав носом, кинулась мне на шею. Я тоже прослезилась. Было жаль расставаться с подружкой. Потом я поняла, что воспоминаниям место лишь на страницах пожелтевшего альбома, научилась мгновенно забывать и двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое. Но это пришло позднее, со временем, с опытом. А тогда две девчонки обнимались и ревели, словно теряли что-то очень близкое, важное. Мы ведь наивно полагали, что наша дружба будет вечной, незыблемой, как египетские пирамиды, и вдруг прозрели и поняли, насколько все в мире зыбко, непредсказуемо и независимо от наших желаний. Позже Алка звонила мне пару раз. И я ей столько же. Алка звала в гости, я обещала приехать, но так и не получилось. Потом мы забыли друг дружку, остались лишь пожелтевшие снимки на страницах старого альбома.
Дашка
Справедливость закона физики, гласящего, что, если в одном месте что-то убывает, в другом ровно столько же прибывает, вскоре подтвердилась на деле. Первого сентября в наш класс пришла новенькая, высокая худая девочка в толстых очках, громоздившихся на востром носике, с длинными смоляными волосами, тщательно зачесанными и собранными в конский хвост, чуть сутуловатая, угловатая, как многие подростки. Робко вошла, обвела класс рассеянным взглядом, приблизилась к моей парте, к пустующему бывшему Алкиному месту, застенчиво спросила:
– Здесь свободно? Можно сесть?
– Пожалуйста, – равнодушно разрешила я. – Кстати, меня зовут Саня.
– А я Даша. Очень приятно, – улыбнулась как-то по-детски беззащитно. И неожиданно стала мне очень симпатична. А я в своих приязнях обыкновенно бывала весьма осторожна и скоропалительности не допускала.
Так у меня появилась новая подруга, Дашка Нефедова.
Дашка с мамой тоже выехала из коммуналки, только путем обмена. У них была комната в старинном доме-особняке на Остоженке, за которую они взяли небольшую отдельную квартирку в старой сталинской пятиэтажке. Это нынче «Остоженка» произносится со слащавым придыханием и за восемнадцать метров на этой имиджевой респектабельной улице можно легко взять треху в Сокольниках. Но в те времена Остоженка была одной из улиц в хорошем районе центра столицы. Сердце не замирало, не билось учащенно, воображение не подбрасывало услужливо картинки черных лимузинов с трико лором, пузатых дяденек в дорогих пиджаках, капризных силиконовых дамочек и всевозможные атрибуты роскоши. Дашка с ее мамой были безумно счастливы, что наконец-то смогли вырваться с коммунальной кухни.
Дашкина мама, Зоя Николаевна, оказалась интеллигентной дамой, высохшей и молчаливой, с темными волосами, закрученными в тугой узел, печатью усталости на лице и печалью в глазах, тщательно скрываемой толстыми стеклами тяжелых очков. Зоя Николаевна работала корректором в научном издательстве, на ее столе и вокруг него всегда высились стопки отпечатанных на машинке рукописей. Дашкина мама правила их зеленым стержнем. Дашкин папа был художником, он утонул, когда ей было пять.
– Он погиб, как герой, спасал ребенка на водохранилище, – листая фотоальбом, рассказывала Дашка, и в ее дрожащем голосе слышалась тихая гордость.
– Ты на него очень похожа, – ободряла я Дашку, хоть это было верно лишь отчасти.
На черно-белых фото отец был запечатлен с Дашкой на коленях, с шашлыком на природе, с большой овчаркой, с друзьями-художниками в обнимку на фоне выставочной стены. У него были такие же смоляные волосы, как и у Дашки, но на этом, пожалуй, сходство заканчивалось. Он был полноватым, широколицым, с широкой улыбкой в тридцать два зуба. Но Дашке искренне хотелось быть «папиной дочкой». Она здорово рисовала и после уроков ездила в художественную школу, куда-то к черту на рога, на метро и двумя транспортами. Стены в доме были увешаны отцовскими акварелями – пейзажами, натюрмортами. Свои Дашка прятала в папку и показывала немногим, опасаясь строгой критики. Мне казалось, что она рисует просто здорово, но подруга придирчиво комментировала каждую акварель: здесь линии «поплыли», здесь свет неважно передан, тут кривовато.
– Хватит к себе придираться, – говорила я. – Ты классно рисуешь. Ведь пока ты только учишься. Спорим, ты станешь известной художницей!
Дашка краснела и застенчиво улыбалась.
Ситуация менялась с зеркальной точностью, когда я читала свои неумелые стихи и рассказики. Мои литературные таланты казались мне очень скромными, а произведения несовершенными. Дашка же приходила в восторг, твердила, что мне непременно надо отправить свои вирши в газету или журнал.
– Давай напишем прямо сейчас, – теребила она меня, – немедленно.
Однажды мы состряпали письмо, вложили пару коротких рассказиков и послали в редакцию «Юности». Вскоре пришел ответ-отписка: редакция благодарит, но в настоящий момент не располагает возможностью к публикации в связи с большим количеством материала, советует совершенствовать литературное мастерство, желает творческих успехов…
– Ничего, в другой раз непременно напечатают, – твердила Дашка. – Главное не отчаиваться.
В общем, кукушка хвалила петуха…
У нас было много общего. Дашка оказалась такой же книжной фанаткой, обожала Чехова и О. Генри, позднее обе увлеклись Серебряным веком. Нам нравилась история России эпохи Петра Первого. Мы проглатывали новинки в модной «Юности», «Октябре», в почти оппозиционном по тем временам «Новом мире», потом обсуждали, иногда наши взгляды расходились, мы спорили до хрипоты, но благополучно завершали диспуты за чашкой чая с шоколадными конфетами и тягучим клубничным вареньем. Чай Дашка, как и я, могла поглощать бесконечно, кружку за кружкой, особенно темными промозглыми вечерами, когда за окном лил ненужный дождь или мела пурга. На нашей крохотной кухоньке было светло, пахло тепло и вкусно свежими булками, которые мы с Дашкой в силу своих щуплых конституций могли лопать в немереном количестве.
– Не в коня корм, девки, – говорила бабушка, подкладывая лишние кусочки.
В отличие от Алки Дашка моей семье очень нравилась, да она и не могла не нравиться – тихая стеснительная опрятная хорошистка. Помимо крайней застенчивости, была у Дашки иная отличительная особенность: она страдала вопиющей неуклюжестью. Из ее тонких рук вечно выпадали ручки, ластики, учебники и тетрадки. Несмотря на худобу, Дашка единственная в классе умудрялась свернуть в столовой поднос со стаканами, с грохотом уронить стул, смахнуть с подоконника цветок. Дашка отчаянно краснела, расстраивалась до слез, бросалась упразднять последствия, порой это ей удавалось, но иногда получалось еще хуже. Я, как могла, стремилась помочь подруге. Вместе мы мыли заляпанный компотом пол, пересаживали амариллис в новый горшок, после чего с легкой Дашкиной руки он рос лучше прежнего, да еще начинал цвести белыми цветами.
Мы вместе предавались волнующим мечтам о том, что однажды станем она – знаменитым художником, я – известным писателем. Обменивались книгами, добывали и обсуждали новинки, посещали выставки. Нам обеим нравилось шить, мы листали модные журналы по шитью и кропали наряды: я – экстравагантные, Дашка – классические. А еще мы стали выпускать свою собственную газету. О школе, о себе, о том, что нас волновало, тревожило и радовало. Я писала статьи, Дашка делала рисунки. Однажды мы рискнули вынести наше творчество на суд общественности и притащили одну из газет в класс. Лист ватмана с моими заметками и Дашкиными зарисовками вызвал настоящий фурор. Нас моментально припахали и поручили выпускать классный ежемесячник. Это не было в тягость. Папа разрешил мне взять его «Зенит», вдвоем с подругой мы освоили премудрости фотографии, и скоро наши газеты были признаны лучшими в школе, а потом победили в районе. Ободренная, я все-таки дошла до отделения районной молодежной газеты, напросилась на прием к редактору – серьезной полной тетеньке в очках, и та дала мне задание написать к среде заметку на тему участия комсомольских организаций окрестных школ в грядущих первомайских празднествах. Тут выяснилось, что я абсолютно не умею писать на заказ, о том, что мне не интересно. Слова отказывались звучать, выстраивались в скучную серую линию, предложения не сплетались, мелодия получалась редкостно фальшивой и отвратительной. Я промаялась три дня и в конце концов возненавидела – и комсомольскую организацию, и первомайские праздники, и газету, ясно осознав, что журналистика и писательство не совсем одно и то же. Перечитав статью в очередной раз, поняла, что она никуда не годится, скомкала лист, выбросила в мусор. Больше в редакцию я не ходила.
Бывшие дружбаны из хулиганистой компании Кузи отошли на второй план. В отместку за предательство обиженные пацаны обзывали нас скелетинами, зубрилками, зазнайками и лесбиянками, но мы старались не обращать внимания, а я вдобавок придумывала в ответ такие прозвища, что все вокруг катались от смеха, причем клички оказывались живучими и приклеивались надолго. Когда ребятам надоело попадать на мой острый язычок, меня оставили в покое. А заодно и тихоню Дашку, которая мухи не могла обидеть, но находилась под моей защитой: моих колкостей хватало на двоих. Я рано поняла убийственную силу слов и научилась ею пользоваться, правда, старалась применять это грозное оружие лишь в целях самообороны, когда требовалось дать отпор заносчивой однокласснице Вальке, горластой тетке, пытающейся влезть без очереди за колготками («Мадам, чехлы для самолетов в соседнем отделе») или хамовитой продавщице. Москва восьмидесятых была хамским городом, для существования в котором не мешало выработать командный голос, нарастить толстый панцирь, отточить когти и зубы. Огромный хмурый мордоворот мало у кого вызывал желание поупражняться в словопрениях, а тощая девчонка – наоборот. Мне хамили, и я не уступала. Меня посылали далеко, я отправляла намного дальше. Моя ответная агрессия имела результат: хам, получивший отпор там, где его не ожидал, быстро успокаивался и задумчиво удивлялся, откуда в нашей чудесной стране такая невоспитанная молодежь.
Маме эта моя черта ужасно не нравилась.
– Поверь, улыбка – оружие гораздо более мощное, чем брань, – убеждала мама.
– Я не собираюсь улыбаться разным идиотам, – хмуро заявляла я.
Но все-таки задумалась о маминых словах по поводу могущества улыбки. Не очень-то верилось, но я решила попробовать.
Поиск образа
Время летело, мир изменялся вокруг нас, мы изменялись в нем, но рассматривали изменения через призму своих желаний, страстей и стремлений. Нам, невыездным, отчаянно хотелось увидеть землю во всей красе и многообразии. Но еще больше волновали перемены в собственном теле, когда «поперли» грудь и бедра, потянулись ноги, голос сделался низким и глубоким. Меня эти изменения волновали, раздражали и радовали одновременно. Необходимость носить дурацкий бюстгальтер в мелкий цветочек доводила до бешенства. Он мне мешал, было тесно, душно, приходя из школы, я стаскивала ненавистный предмет и швыряла на кровать. Немного смирилась, лишь когда мама за сумасшедшие деньги приобрела настоящее французское чудо – голубое в оборочках, но после школы я упорно продолжала дышать свободной грудью. К счастью, она не очень выросла и стала упругой, словно под кожу закачали наполнитель для мягких игрушек. Как-то с наступлением месячных мама выбрала момент, села рядом со мной и рассказала, что я становлюсь взрослой, объяснила про отношения между мужчинами и женщинами. Вообще-то она не открыла Америку – беседы «про это» частенько велись между девчонками, а Верка, имевшая старших брата и сестру, выведала у них интересные подробности и передала нам, сопроводив рассказ красочными рисунками на огрызке тетрадного листа.
Но Веркины байки – одно, а беседа с мамой – совсем другое. Разумеется, мама не стала ничего рисовать, поведала мне про особенности женского строения, цикл, овуляцию и беременность. Сказала, что интимные отношения между мужчиной и женщиной – неотъемлемая часть взрослой жизни, но именно на женщине лежит двойная ответственность за происходящее, поскольку она будущая мать, а ребенок должен появляться на свет желанным, от любимого мужчины. Потом, помолчав, добавила:
– Ты вырастешь, и многие юноши будут говорить тебе о любви, но ты должна знать, что иногда мужчины и женщины понимают любовь по-разному. Часто для девушки «я тебя люблю» означает – «я хочу прожить с тобой жизнь и родить детей», а для юноши – «я хочу провести с тобой эту ночь».
Я примолкла от груза свалившегося знания, а потом поделилась сведениями с Дашкой. Подруга не без сожаления сказала, что ее мама никогда не разговаривает на подобные темы.
Девчонки нашего класса старались всячески подчеркнуть новые формы. Расстегивали пуговки на блузках, укорачивали юбки. Наносили неумелый макияж маминой косметикой, отчего полудетские личики становились карикатурными, сооружали начесы на головах, щедро заливали торчащие копны лаком для волос. Директор школы, строгий по жилой дядька, всего этого сильно не одобрял, отправлял девчонок умываться, на собраниях стыдил родителей, но это не имело большого эффекта. Рулила смазливая грудастая Валька, чей отец ходил в загранку и привозил модные дутые сапожки, колготки с офигительным рисунком и эффектную бижутерию. Валька красила темные волосы светлыми перьями, надевала под синий форменный пиджак полупрозрачные блузки с глубоким декольте и имела поклонников даже в старших классах. Нам с Дашкой все это казалось глупым и ненужным. А страдания по одноклассникам смешными.
– Вы еще просто маленькие, – оскорблялись повзрослевшие одноклассницы.
– Ну и пусть, – отвечали мы. – Лучше быть маленькими девочками, чем глупыми раскрашенными куклами.
Мы с Дашкой игнорировали вечеринки с игрой в бутылочку и школьные «огоньки», перетекавшие в танцы с обжиманиями, продолжали ходить вдвоем с книжками под мышками, гладкими прическами и без макияжа.
Но, оставшись одна, я раздевалась и долго вертелась перед зеркалом. Отражение меня не радовало. Со своим бледным заостренным длинноносым лицом и серо-зелеными глазами-блюдцами, горящими, как у голодной кошки, я еще как-то примирилась, но вот тело казалось худым и нескладным – костлявые узкие плечи, ноги как длинные палки, грудь с ку лачок, талия тонюсенькая по сравнению с бедрами, вечно приходилось ушивать купленные брюки и юбки. Волосы непонятного светло-серого цвета отросли и стали завиваться на концах, что мне даже понравилось, я решила больше коротко не стричься, отрастить подлиннее и посмотреть, что будет. Может, еще и покраситься, стать брюнеткой, как Дашка? Или лучше золотистой блондинкой, как актриса из модной французской мелодрамы.
В порыве самосовершенствования я зарулила в парикмахерскую, уселась в кресло и объявила о своем намерении. Реакция полной, крашенной затейливыми перьями парикмахерши оказалась неожиданной.
– Ты чё, с ума сошла? – воскликнула она. – Такой цвет портить! Это ж жемчужный блонд, один на миллион попадается! Во дает, девоньки, гляньте!
К моему креслу подтянулись другая салонная мастерица и посетительница в бигуди.
– Краситься хочет, а? – гневно потрясла руками над моей головой парикмахерша, будто я просила отрезать мне голову.
– А у тебя свои? – поинтересовалась дама в бигуди с соседнего кресла.
– Свои, конечно, – ответила за меня парикмахерша, – она ж малявка.
– Везет же, – завистливо вздохнула другая парикмахерша, – всю жизнь над башкой колдуешь, не знаешь, как цвет сделать, а тут свой такой красивый, необычный. И волосы – сказка: густые, пушистые!
Я слушала и не верила собственным ушам.
– Даже не думай красить, – встряла дама, ощетинившаяся бигуди. – Счас все как с ума посходили, красятся под эту, Анжелику, в рыжий. А зачем? Наоборот, надо выделяться.
– Давай я тебе форму подправлю, и дуй домой, – сказала парикмахерша. – И коротко не стригись, поняла?
Я покинула салон со смешанным чувством досады – оттого что не стала «золотистой», удивления – от неожиданного признания своей индивидуальности, и радости – от осознания того, что все не так уж плохо.
Наступил период мучительного поиска смысла существования и себя в этом мире, острого чутья на фальшь, неприятия лжи, нежелания мириться с лицемерием, от кого бы оно ни исходило – несимпатичной одноклассницы или авторитетного классного руководителя. Период доведения родителей и педагогов до белого каления каверзными вопросами, максималистскими рассуждениями, подросткового бунтарства против всего и всех. Скучные восьмидесятые с туповато-агрессивной философией очередей угнетающе действовали на импульсивную тинейджеровскую натуру, жаждущую перемен, стихий, революций.
– Скучно сейчас жить, неинтересно, – пожаловалась я как-то деду, – время какое-то сонное, ничего не происходит.
– Дурочка, – ответил дед. – Не дай бог тебе такого веселья, как в моей молодости. Пожелай своему врагу жить в интересное время.
Порой мне казалось, что я вся соткана из сомнений и противоречий. Приступы едкого правдолюбия чередовались с ленивым пофигизмом, когда черно-белый угловатый мир неожиданно становился размыто-цветным и наполнялся новыми запахами, звуками, волнениями. Хотелось оторваться от мусорной земли, взлететь, воспарить высоко-высоко над унылыми домами, ползущими автобусами и копошащимися людьми, чтобы сверху увидеть если не весь мир, то хотя бы целый город, вдохнуть пьянящий воздух одиночества и свободы. Мне стали сниться новые сны, полные солнца, неги, пряных трав, шума волн, невесомых стихов. Иногда в них незримо присутствовал некто, чьего лица я, сколько ни пыталась, не могла разглядеть, но чье присутствие наполняло мое существо не изведанным прежде томлением, восторгом и ощущением невероятного головокружительного счастья.
Я рассказала сон подруге.
– Наверное, это твой суженый, – предположила романтичная Дашка. – Я слышала, такое бывает: человек тебе снится, а потом ты встречаешь его наяву.
– Ха, – сказала я, – ты что, Жорж Санд начиталась? Еще про принца на белом коне расскажи.
Дашка густо покраснела и пробормотала, что нельзя быть такой злючкой. Я возразила, что вовсе не злючка, просто трезво смотрю на вещи. Писатели врут, потому что, если бы они писали правду, как бывает на самом деле, кто бы стал это читать? Людям не интересна реальность, они хотят сказки. Потому что не могут получить ее в жизни.
– Реальность может быть интереснее сказки, – возразила Дашка.
– Хорошо, если так. Но что интересного в нашей с тобой жизни? Или в жизни наших родителей? Дом – работа – школа – магазин – очередь – дача. Если бы я написала об этом книгу, кто стал бы ее читать? Разве что в качестве снотворного.
Дашка принялась возражать, но ужасно неубедительно. Я слушала и думала, что прекрасных принцев в природе не существует, во всяком случае, не на нашей одной шестой части суши. А все потрясающие истории любви в некнижной реальности оканчиваются скучно и банально: брак, рождение детей, работа, утренняя очередь в сортир, вечерняя очередь за продуктами, шестиметровая кухня, готовка и стирка, халат и тапочки, кастрюли, гости по выходным с непременным застольем, хмельными тостами «за радушных хозяев»… Скука, рутина, болото… Если это и есть счастье, я его не хочу. Я хотела другой жизни, как в романе, как в голливудском фильме, который тайно демонстрировала на видаке Валька. Как в сказке… И если ее не существует в природе, я должна ее выдумать для девочки Сани. В ней будет много солнца, моря, далеких стран… автомобиль цвета неба… длинное платье, тонкий бокал с пузырящимся шампанским… А еще – небоскребы, прокалывающие облака… И стеллажи книг с моим именем на ярких обложках… И еще кто-то, чью улыбку я непременно узнаю при встрече…
– А может, в твоем сне был Кузя? – лукаво подмигнула Дашка.
– Фу, только не Кузя, – покривилась я.
Отношения с дружбаном детства Кузей с повзрослением закончились самым банальным и печальным образом. Вчерашний весельчак и сорвиголова, неизменный зачинщик хулиганских проделок, вытянулся, поширел в плечах, посерьезнел и поскучнел. Еще вчера мы вместе могли угорать над фильмом, травить анекдоты и соревноваться, кто дальше плюнет. А нынче на уроках и переменках я ловила пристальный Кузин взгляд, жадный, заинтересованный и какой-то страдальческий. Когда я в ответ смотрела на него в упор, одноклассник краснел, отводил глаза, подвергался ехидным смешкам добрых товарищей. Эта метаморфоза не вызывала положительных эмоций. Мне был нужен прежний добрый дружок, балагур и повеса, а не печальный воздыхатель, путающийся в словах.
Последней каплей стал наш совместный визит в кино. Из ближайших кинотеатров, не считая детского «Орленка» с мультиками, мы выделяли два: новый пафосный имени Моссовета и Клуб имени Русакова, прозванный в народе «Шестеренкой». Гламурному дорогому Моссовету с его мягкими креслами, отличным звучанием, интимно-полутемным баром, в котором можно было разговеться шампанским, бутербродами и цветными шариками мороженого в креманках, школьная братия предпочитала старенькую дешевую «Шестеренку». Прозвище клуб получил из-за своей нестандартной формы. Здание было образчиком оригинального архитектурного направления – конструктивизма, не получившего большого распространения, но тем не менее оставившего в мире след в виде странноватых строений причудливых форм. Если подняться над городом и посмотреть с высоты птичьего полета, здание клуба являло собой форму шестеренки. Не знаю наверняка, проводил ли кто-нибудь эксперимент над клубным зданием с целью проникнуться авторским замыслом, но снизу дом смотрелся весьма уродливо. «Грани» шестеренки выдавались вперед, как обнаженные в кривой улыбке неровные зубы. Дешевые деревянные двери, серая крыша, узкие бойницы непромытых окон, полуоблупившийся фасад, подмазанный серовато-белой краской, – таким было уникальное строение в восьмидесятых. Половина клуба скрывалась за высоким забором, где базировались какие-то склады, в другой половине располагались детские кружки по интересам, студия бального танца, небольшая лавочка с простенькой косметикой. В центре находился кинозал со старыми скрипучими креслами, обитыми дешевым дерматином, изрезанным перочинными ножичками шаловливых школяров, с отвратительной акустикой, скверной вентиляцией, маленьким наклоном между рядами, так что порой приходилось до онемения шейных позвонков выискивать удобную для просмотра точку.
И все-таки мы предпочитали «Шестеренку» за ее демократичность, копеечные цены на билеты, добрых бабушек-билетерш, которые сквозь пальцы смотрели на зайцев, прошмыгивавших в зал в темноте после первых титров. «Шестеренка» была одним из редких заведений, куда можно было спокойно зарулить на фильм «до шестнадцати» и не быть изгнанным с позором и нравоучениями. Также это место было примечательно тем, что в нем транслировались бог весть каким образом приобретенные пиратские копии запрещенных к показу в Союзе голливудских боевиков и ужастиков, «Эммануэли» и прочей эротики, причем без купюр, а также новинки, едва вышедшие в прокат в Америке и Европе. До сих пор удивляюсь, как руководству клуба удавалось проворачивать это без последствий, невзирая на железный занавес, пелену цензуры и недреманное око соответствующих органов. Но факт оставался фактом. Старенький, обшарпанный, уродливой формы клуб был для нас щелочкой в мировой кинематограф.
Вот почему я, мягко говоря, удивилась, когда Кузя изменил «Шестеренке» и пригласил меня в чопорный «Моссовет» на французскую комедию.
Раньше мы покупали в «Шестеренке» самые дешевые билеты, в темноте пробирались на лучшие места, качались в креслах, сосали леденцы, по ходу фильма обменивались репликами и дружно ржали. Кузя нынешний приобрел два билета в се редину, угостил клубничным мороженым и на удивление неразбавленным лимонадом, а после мы нудно препирались, кто должен платить. Обыкновенно каждый платил за себя либо в большой компании устраивали складчину, но сейчас Кузя играл в джентльмена и злобно шипел, чтобы я убрала смятые рубли в карман. Я же придерживалась накрепко вбитого в голову мамой принципа – «гулять на чужие нехорошо». Кузя злился, нервничал. Кончилось тем, что я пригрозила уйти, если друг не прекратит строить из себя Рокфеллера. Кузя деньги взял, но надулся, как индюк. Я сделала вид, что не обратила внимания, – отойдет с началом комедии, когда начнется ржач.
Где-то к середине фильма Кузя и впрямь отошел, только слегка не в том направлении. Когда на экране стали демонстрировать романтический поцелуй, вместо того чтобы отвешивать обычные пошловатые, но довольно смешные комменты, Кузя взял мою руку в потные ладони и принялся тискать. Моего терпения хватило ненадолго. Руку я отняла, для надежности на нее села и затосковала по старой доброй «Шестеренке» и такой же старой доброй неромантичной дружбе.
После фильма мы с Кузей пошли домой пешком, поскольку жили неподалеку. Кузя против обыкновения был молчалив и бросал на меня косые пронзительные взгляды. Я не выдержала и поинтересовалась, что со мной не так. Кузя покраснел как помидор и пробормотал, что со мной все в полном порядке. А «не так», наверно, с ним. Потому что я ему очень нравлюсь. После этого признания он снова попытался поймать мою руку, но я спрятала руку в карман. Некоторое время шли молча. Я не знала, о чем говорить. В книгах все было просто и понятно, в жизни – совсем наоборот. Конечно, было лестно услышать первое в моей жизни признание в любви, но только не от старого товарища Кузи. Я чувствовала растерянность и сердилась, словно одноклассник меня обманул. Его внезапное увлечение мной я восприняла как форменное предательство.
– Может, еще погуляем? – предложил Кузя.
– Мне домой пора, – буркнула я.
– А я тебе нравлюсь? – с надеждой спросил Кузя. – Мы могли бы… это… встречаться?
Тут я вспомнила отличную фразу, пришедшуюся как нельзя кстати:
– Давай останемся друзьями.
Кузя как-то сразу скис, помрачнел.
– Ладно, – проговорил с покорностью, которую было трудно предположить в дерзком Кольке Кузьмине. Почему-то я вспомнила, что Кузя на год старше – пошел в школу с восьми, быть может, он уже повзрослел, и ему открылось то, что мне пока неведомо? Стало ясно: дружба закончилась, и печально от осознания этого факта. В неловком молчании дошли до развилки дорог, одна из которых вела к моему дому, а другая к Кузиному.
– Ну, пока, – вздохнула я.
– Пока, – отозвался Кузя, избегая смотреть мне в глаза. Он тоже был обижен и сердит.
С той поры мы с Кузей оказались в контрах, а у секс-бомбы Вальки стало на одного поклонника больше, причем она оказывала Кузе явное предпочтение перед остальными. Мне же несостоявшийся бойфренд не упускал случая сказать колкость, я отвечала тем же, презрительно фыркая.
Вот почему Дашкино предположение по поводу Кузи меня изрядно повеселило.
– Он совсем тебе не нравится? – переспросила Дашка.
– Ни капельки, – честно призналась я.
Дашка улыбнулась и почему-то вздохнула.
Странное лето
По окончании восьмого класса мы с мамой поехали в Крым. Папа остался дома, чтобы вместе с дедом провернуть ремонт. Всю весну он таскал краски, клей, шпаклевки, гвозди, обои – приобретенные по случаю, выписанные по перечислению, выменянные у хороших людей – обычное дело в эпоху тотального дефицита. Скоро наша квартира стала напоминать магазин стройматериалов. Под кухонным столом громоздились мешки с сухой смесью. Спальня была завалена разнокалиберными досками. Под кроватью покоились листы оргалита. А посреди гостиной торжественно красовался голубой унитаз с бачком. Я выбрала для своей комнаты обои в теплых розовых тонах с размытыми цветками типа ромашек. Возможно, они не были пределом мечтаний, но явно лучшими из приобретенного заботливым папой, чьи дизайнерские таланты оказались сомнительными, но мы с мамой ему об этом не говорили, чтобы не огорчать. Бабушка долго охала, что не переживет грядущего хаоса.
– Съезди к кому-нибудь из наших многочисленных зимних гостей, – предложила я. – Например, к тете Соне. Помнится, она зазывала на грибы и ягоды.
– Правда, – подхватил дед. – Что краской дышать?
– Неудобно, – замялась бабушка.
– Очень удобно. Звони.