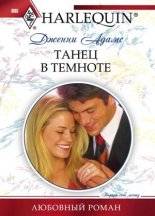Гуру и зомби Новикова Ольга

1
В Москве бывает одиноче, чем в поле без конца и края. В зимнем поле, припорошенном снегом. На замерзшей терке пашни – без иллюзий: бездельная поземка не поможет сдвинуться с места, не подтолкнет в спину. Куда идти? Надейся только на себя.
Мегаполис в графитовое время суток, когда умирает очередной день, вроде бы так и кишит людьми. Но мы друг для друга не реальнее Летучего голландца, которого, по легенде, видят заблудившиеся моряки. Скорее слабый зимний дождь начнет перешептываться с чисто вымытым окном и проситься в гости, чем мы вспомним о тех, кому без нас – плохо.
О том или той…
Ну а с незнакомыми… На «скажите, пожалуйста, где тут…» хмуримся – и мимо, не замедлив шага. Может, плечом чиркнем – вот и весь контакт. Даже если на Малой Дмитровке растерянно спрашивают, как попасть на улицу Чехова. Некогда нам остановиться, обдумать и хотя бы сфокусировать старое и новое названия одной и той же улицы. Тем более обогнем, не притормаживая, того неопрятного старика, что беспомощно осел у темного зева подворотни.
Подумаешь, вонючий бомж.
Кто бы ни был, но человек же.
Старика зовут Вадим. Отчество редко кто добавлял. Разве что в официальных инстанциях – в поликлинике, в паспортном столе… Прописывая в комнату к молодой жене, с издевкой обозвали гражданином Васильчиковым Вадимом Константиновичем.
Да еще его вежливо и чуть брезгливо именовала по полной форме теща, совсем не вредная. При первой – надо же, не забытой им – встрече, с намеком покашливая, дернула дочь за рукав: «Вера! Кх-кх… Да Вадим Константинович старше даже меня выглядит!» В голосе – и стыдная грязнотца, и женское кокетство. Дотерпела бы, пока зять куда-нибудь отлучится, – в коммуналке-то негде уединиться. Провинциальная импульсивность сработала. Слышным ему шепотом запричитала: «Пусть хоть бороду сбреет свою седую! Стыдно кому сказать! Вдруг у нас в городе узнают… Ради кого ты сына бросила… Бедный Герочка… как он без матери-то?»
Вадим тогда невиновато и необидчиво улыбнулся. Им с Верой, отчаянным новобрачным, было все равно. Богема. Возрастная дистанция в четверть века их нисколечко не напрягала.
Вадим Васильчиков – акварелист, пишущий «по-мокрому», когда уверенные мазки кистью должны дать краске растечься по бумаге, оставляя пустое пространство листа. Техника не допускает переделок, и если работа не получилась с одного раза, то – на выброс. Мир в каждый раз, в каждое мгновение заново творится. Ни заранее продуманных композиций, ни предварительных эскизов.
Художник кое-где и кое-кем был признан гением.
И Вера – как начала писать гуашью на втором курсе искусствоведческого, так не оторвать. Акварель, акрил, масло – все освоила.
Гера? Нормально живет уже больше десяти лет с заботливым и хозяйственным отцом. Да с ним мальчику даже лучше, чем с фанатичной и безалаберной Верой…
Но это все в прошлом. Прошло. Закончилось.
Веру старик не удержал. Что ж, живая женщина… Теперь она в Нольдебурге. С Вадимовой княжеской фамилией и с тамошним новым мужем-помощником. И по жизни, и по искусству.
Недавно навестили они в Москве бывшего родственника. В самом начале зимы. Белизна снега еще не разбавила, не подсветила серый уличный фон. Сыра привезли. Сегодня, когда вытащил из холодильника одинокую, как он сам, жестянку с чем-то охряного цвета, обнаружил за ней бело-желтый кусок в глубоких морщинах. Застрял в алюминиевой решетке. Понюхал, откусил и не заметил, как с голодухи все съел. Теперь что-то подташнивает.
Остаться на диване? Сумерки вот-вот… Может, получится заснуть… Надвинул веки на глаза, но мысли же так просто не занавесишь. Старость учит рачительно распределять еду, время… Хуже нет – проснуться среди ночи. В полной темноте так и жжет: зачем жил?
Нет, сейчас лучше не спать. Да и дела есть. Вдруг завтра еще больше поплохеет? Если встать не смогу…
Вадим кропотливо выпростал правую ступню из-под ватного одеяла, ни во что не одетого (нет постельного белья – нет лишней проблемы). Опустил скрюченную конечность на пол и, бормотанием заглушая неновую боль в суставах, вынул себя с лежбища, потом из комнаты, потом из квартиры…
Ноги двигались сами собой, и голова пока работала: сухари кончились, на свежую буханку без скидки, положенной пенсионерам, вряд ли хватит. Может, где и завалялась неучтенная рублевая заначка, но ведь карту, «социальную карту москвича», все равно надо восстанавливать. Потерял… Герочка бы, конечно, помог – принес бы и еды, и денег, и в собес с ним сподручнее… Но он к Вере улетел и вернется… Когда? Где-то было записано…
Старческие мышцы часто подчиняются инстинктам, не успев согласовать свои сокращения с мнением головного мозга. Непроизвольно пукают пожилые люди, мочатся, движение стопорят, замирая посреди дороги…
Вадим останавливается, и тут же кто-то, молодой, торопливый, подталкивает его. Несильно задел. Когда такое случилось впервые, он обозлился – поковылял за невоспитанной девицей, прокричал ей вслед – не помнит что. А она даже не оглянулась. С тех пор поумнел. Сердишься – значит, еще пожить хочешь. А ему уже вроде все равно.
Все равно…
Зачем тогда в непогоду потащился? В постели сподручнее ждать смерти. Но нет же. Смирившийся мозг еще не продвинул, не продавил свое решение, не довел его до мышц. Тело жить хочет.
Толкнули, но не уронили – и слава богу. Надо отойти в сторонку. Вон – арка в длинном доме…
Вадим ступает из света в тень, раздвигает на груди полы широкого зимнего пальто, подпоясанного ремнем (чтобы не поддувало). Левой рукой – как будто сам себе делает операцию на сердце – забирается во внутренний карман пиджака, тоже великоватого. Все, что на нем, теща привезла после смерти своего солидного мужа. Дерматиновый, старомодный чемодан со старомодной верхней и нижней одежей с чужого плеча… Хорошие еще вещи, ноские.
Нащупывает бумажку, но доставать не торопится – ладонь без какой-либо команды из головного мозга припадает к задергавшейся мышце, а живот вдруг так скручивает, что он не успевает даже наклониться – выташнивает его прямо на добротный ратин. Но в угасающем сознании уже нет места для досады. Зато память, как вышколенный дворецкий, заботливо подает Вадиму на прощальный ужин цветную вкусную картину. В жанре фламандского натюрморта…
Солнце, добравшись до зенита, расщедрилось и залило ярким светом их коммунальную комнату. Удача. Не единственная. Сперва прибыли к ним краски. Воспользовавшись связями, теща добыла у себя в провинции дефицитные тюбики с разноцветным маслом и коробку с сорока восемью конфетками акварели. Вчера поездом переслала их дочери, расположив к себе незнакомую проводницу. Умаслила не столько премиальной шоколадкой, сколько соучастным разговором на деревенские темы. Вера утром съездила на вокзал, вернулась нагруженная.
Пир.
Полутораспальный диван разложен, на нем – толстая чертежная доска из хорошо просушенного дуба и стул. Самодельный помост для полноватой ню, стесняющейся своей наготы. Новая натурщица. И они с Верой, каждый у своего мольберта. Напряжение, необходимое, чтобы схватить силуэт модели и закрепить его на холсте и бумаге, уже прошло. Мазок, другой – кожа на груди почти готовой фигуры начинает светиться, а когда тонкая колонковая кисть с киноварью касается вишенного соска…
От острого воспоминания каждая жилка задрожала, и тело Вадима, прикопьенное экстазом, оседает на скользкий тротуар.
2
За невысоким, бесформенным стариканом Нестор наблюдает издалека. Сам он без какой-либо цели идет по Малой Дмитровке из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках в сторону Садового кольца. Специально пару раз в месяц отпускает шофера и отправляется по делам на своих двоих, при необходимости ускоряясь только общественным транспортом.
Чтобы не потерять ориентацию в московском пространстве.
Чтобы сохранить автономность. Нисколько не раздражался, когда вдруг самому приходилось пришить пуговицу, поджарить бифштекс, выстирать трусы-носки…
Чтобы уловить неожиданное.
Человек в летах – единственный из толпы, кто идет медленно, распробывая вкус каждого шага. Возможность двигаться в старости – спасение, как кусок хлеба в голодный год. Этим он и обратил на себя внимание. Торопливые же люди похожи друг на друга. Спешка нивелирует самобытность.
Любопытный гомо сапиенс. Все запланированное на сегодня сделано, почему бы не понаблюдать…
Как не уверенный в своей машине водитель держится крайнего правого ряда, так и этот странник, не полагающийся на свою физическую оболочку, идет рядом с домами. Стен не касается, но словно подпитывается их стойкостью.
Со спины чувствуется человек из другого измерения – не сиюминутного, бытового, а философского. Таких презирают гламурщики. Но бывает, что такими старцами интересуются красивые женщины. Не просто привлекательные, а умные и в чем-то талантливые.
Никаких суетливых, ненужных желаний не приобрел незнакомец за длинную жизнь?
Потянуло проверить, заглянуть ему в глаза: наверняка в этом зеркале не увидишь мелочного беспокойства, пустяковых проблем, которые нам регулярно поставляются нашим собственным горизонтальным сознанием.
Увлекшись процессом наблюдения, Нестор ступает на мостовую, чтобы перебраться на противоположный тротуар. Хорошо хоть, что срабатывает защитный автоматизм: голова поворачивается налево, тело само шарахается с проезжей части и не напарывается на несущийся куда-то черный джип. Но сознание так быстро не переключить. Перед глазами, как въяве, обливается кровью собственная стопа, раздробленная шипованными шинами, которым наплевать на гололед. Сколько-то времени понадобилось, чтобы вытащить эту фантомную занозу.
Пока Нестор долетел до перехода, охраняющего бесстыжие машины от застенчивых пешеходов, пока дождался зеленого светового человечка, разрешающего идти туда, куда надо, старик пропал.
Охотник пробегает вперед целый квартал – нет дичи.
Ускользнула?
Вряд ли… Наверное, в своей настырной спешке просто обогнал старика.
Назад Нестор возвращается медленно, глядя под ноги. У первой же арки и обнаруживает объект своего наблюдения. Старик сидит в позе Будды, привалившись к стене. И добротный сталинский дом удерживает его от падения.
– Вам плохо? – громко спрашивает Нестор, наклонившись к уху, из которого торчит кустик черных волос.
Никакого ответа. В нос ударяет безобразно-кислый запах рвоты, застрявшей в неухоженной бороде.
Всего-навсего обыкновенный пьянчужка? Не может быть. На всякий случай Нестор принюхивается, не несет ли от бедняги алкоголем. Конечно, ни молекулы!
Не простым пьяницей он заинтересовался. Понравилось, что не обманулся.
Нестор разгибает спину, поднимается на ноги. Смотрит вокруг. Даже из любопытства никто не остановился.
Тогда он снова приседает и подбирает тяжелую, безвольную руку. Остывающую, но не окоченевшую. Мизинец бедняги, попав в извержения желудка, испачкался, а в остальном – это крепкая пятерня без изъянов. Длинные ровные пальцы, ни мозолей, ни утолщенных подагрой суставов. Только старческая гречка кое-где посыпала тыльную сторону неширокой ладони.
Есть ли пульс?
Жилка под синей, вытаращенной веной не подает признаков жизни.
Нестор отгибает испачканную полу и опускает руку на чистое колено… мертвеца?
Не поднимаясь с корточек, взглянул на небо – хмурое, словно накрытое грязноватым пуховым одеялом из ночлежки. Что оно может посоветовать… Думай сам.
Прежде всего – как у меня со временем?
Нестор оголяет левое запястье. Пусто. А-а, часы отдал Леле. Прилипчивая подружка однажды стала гладить его пальцы, разлегшиеся на черной ленте эскалаторных поручней. Лицом к ней стоял. Стекло выпало, когда он отдернул левую руку, сердито буркнув: «Не люблю прилюдных нежностей!» Скатилось оно в оттопыренный карман старой куртки, но не разбилось. Барышня от испуга забыла обидеться и сама вызвалась отдать в ремонт его брегет.
Есть же другой счетчик минут…
Вынув из брючного кармана мобильник, Нестор оживляет экран. Шестнадцать сорок. Леля ждет звонка. Обещал повидаться. В ответ на слезу в ее голосе. Но что ему-то сулит еще одно свидание? Вряд ли она удивит чем-нибудь… Нет, не сообразит придумать новое. Не понимают милые наши дамы, что их пылкость быстро приедается. Лет пять сумела рядом с ним держаться… Пора, пожалуй, начинать отходной маневр. Тем более что муж есть. Сдам на его руки.
А вот этого, как будто уже ставшего знакомым старикана жаль отдавать в руки государства. Равнодушные руки… Тем более сейчас, в сочельник. Праздничный раж подошел к апогею. Словно на крутой горке разгоняются люди от католического Рождества к православному, не упустив и светское, советское первое января. Неистово празднуют, не обращая внимания на религиозные оттенки. Экуменизм. Хотя вообще-то идея неплохая.
Столько лет народ учили, что бога нет. Бога с маленькой буквы. Делай что хочешь: жри, пей, сношайся без всяких заповедей и постов. И жили – не тужили. Только когда затужит кто – муж-кормилец от жены уйдет, ребенок у матери неизлечимо заболеет, – от отчаяния поворачивались к вере…
Православие теперь восстановили в правах, но оно оказалось пожестче коммунистического кодекса. Буквально. Начать с того, что в здешней церкви надо стоять на ногах. А экуменизм позволяет хотя бы присесть на католически-протестантскую скамью.
Но Нестор сообразил – взболтал духовный коктейль собственного изобретения. К христианству без границ добавил восточной самоуглубленности. Говоря языком простых людей – сосредоточенности на собственном пупке. «Бог один», – услышит человек, и самому захочется попробовать духовного напитка… Их пьянит.
А сейчас-то что делать? Чем декабрьско-январская вакханалия обернется для ничейного, беспризорного тела? Продержат сколько-то в холодильнике, потом засунут в полиэтилен и закопают в общей яме.
Наскоро шепча молитвенную формулу по поводу усопшего, Нестор небрезгливо обследует внешние карманы его пальто. Может, найдется какая зацепка за его близких.
Пыльные катышки, хлебные крошки, не успевшие просыпаться в дырки… Подкладочная ткань не порвалась, а износилась. Зато внутренний пиджачный карман цел и в нем – мятая четвертушка тетрадного листа с красными полями. На разлинованной бумаге расплылась какая-то чернильная запись.
Нестор встал, потопал затекшими ногами, чтобы оживить ток своей крови, потом не спеша надел очки. Сосредоточившись, разобрал, что какой-то Гера возвращается шестого января. Сегодня. И номер телефона. Тут же набрал его на своем мобильнике.
– Гера будет позже. Кто его спрашивает? – отозвался мужской баритон. Не слишком учтиво. Напуган звонком чужака? Или повседневно невежлив? Да нет, вроде бы не из простых… Те говорят отрывисто, односложно. – Нет его! – и бряк трубку.
Не разобравшись, сразу убивают возможную связь. Хотя редко кто теперь добавляет: «Что передать? Чем могу помочь?» Плавная, длящаяся речь – это течение, которое может увлечь и незнакомца. И даже противника. Разговаривать надо.
Бестолково пообъяснялись. Нестор все-таки сумел вычислить, что он вмешался в ситуацию между двумя бывшими мужьями какой-то Веры. Первый, Алексей, отец Геры, ответил ему по телефону, второй, Вадим, – тут, на тротуаре.
Условились, что Алексей позвонит похоронщикам и сам сразу приедет. Пока Нестор дожидался сменщика, чтобы сдать дежурство у тела, вспомнил своих Вер.
Верой назвала одногруппница-искусствоведка двадцать три года тому назад их общую дочь…
Началось все с того, что на третьем курсе он был приглашен на день рождения. Обыкновенная, если не считать роскошной черной гривы, именинница и гораздо более эффектная мамаша. Чтобы по-хлестаковски подклеиться к маменьке, Нестор погусарил: потребовал водки, лихо налил себе полный фужер из зеленого хрусталя с вензелем и залпом его выпил. Увы, хозяйки разбирались только в винах. Сорокаградусное пойло оказалось паленым. Неудивительно: следов мужчины не просматривалось ни в ванной комнате, ни в спальне. Не с кем посоветоваться, что покупать, и продегустировать перед подачей на стол некому.
Пригласив даму на танец, кавалер внезапно занедужил.
И не вспомнить, успел ли он проверить на упругость немолодую выдающуюся грудь перед тем, как его вырвало на многоцветный ковровый орнамент.
Через неделю примерно: «Мама зовет посмотреть, что ты сделал с нашим персом». Ковер-то у них знатный оказался, настоящий персидский. Пришел, виноватый. Но старшая хозяйка была в дипломатической командировке…
В общем, Нестор пожил там до окончания универа. Гражданская теща старательно маскировала свое великолепие: жара или холод, днем в столовой или ночью возле уборной – она в брюках и в чем-то под горло. Стеснила Нестора этим. В трусах при ней не походишь. Одно из многочисленных неудобств. Но ни разу не нудила насчет официального оформления непростых отношений. Видела, что дочь рубит сук не по себе. Но очень обрадовалась, что внучка будет. «Вам, Нестор, лучше сейчас исчезнуть, – безобидно посоветовала она перед родами. – Девочек я беру на себя». Он внял.
Регулярно посылал им деньги. Максимально – больше, чем мог. На третий год перевод вернулся обратно. Уехали, не известив. Мстили?
Окольными путями удалось узнать, что бабушка вышла замуж за американца и они все улетели за океан. Не с Интерполом же их разыскивать. Да и женский выбор он всегда уважал.
Но была же еще одна Вера. Верка… Без году ровесница. Тоже из прошлой, но, оказывается, не забытой советской жизни.
Русоволосая девица пришла на практику к ним, в научный отдел Манежа, и осталась на несколько лет. Не знающая пока про свою красоту, очень живая… Водила все знатные иностранные экскурсии. Чаушеску с супругой, американский госсекретарь, немецкий канцлер… Выставочный зал в самом центре, возле Кремля – витрина советского искусства, а Верка – Вергилий в этом почти кромешном аду. По-английски – свободно, на любой вопрос – без запинки. А чтобы как надо отвечала, ее загнали в партию. Но она и не сопротивлялась. «Я – художник, – говорила, когда вместе распивали чаи. – Можно все, что угодно, использовать, чтобы заявить о себе». Цинизм молодости.
Прошел он у нее?
В разговоре с ней же забрезжила мысль о возможности иметь свою паству. Не лучше ли собрать всех женщин вместе, чем вдохновлять их поодиночке?
Шли вдвоем по Никитскому бульвару. Она, возбужденная ночной встречей, тараторила о своих картинах. Любопытно было. Обычно женщины после первой близости начинают исповедоваться про прежних партнеров. Этим очищаются. Вроде как восстанавливают невинность. Веруя, что ты – их единственный. А Вера ни слова про мужа-сына. Только про искусство. Прервал. И самого понесло. Увлекла мысль о фундаментальной разделенности жизненного времени. О его дискретности.
Сумбурные мысли наматывались друг на друга. Если я что-то понимаю сейчас, это не причина того, что я пойму что-то в следующий момент времени. Парадокс. У нас есть глаза и желание видеть, но этого недостаточно, чтобы мы увидели и поняли, поскольку результат не вытекает из того, что мы хотим этого сейчас. Мы должны принять постулат, что мир в каждый раз, в каждое мгновение заново творится. И единственный способ, каким можно соединить разрозненные моменты, – это нанизать их на духовную вертикаль…
Художник рисовал, рисовал, а где паузы, когда он ел-пил, ходил в туалет, сексом занимался? Найти бы форму, которая даст возможность художнику все время быть художником. Не отлучаться ни на мгновение.
Она нашла ее?
Вопросы в никуда… Задал и забыл. Но мнемосферу потревожили. Отозвалась… Ответом от Веры.
3
Прилетела.
Упитанный «боинг» приземлился в Шереметьеве не в семь пятнадцать, а ровно в семь. На четверть часа раньше расписания. Попутный вечерний ветер. Казалось бы – бонус.
Вера убеждала себя, что теперь-то можно не торопиться. Нужно. Это же удовольствие – медленно идти по круговой прозрачной галерее… Не в толпе… Слева за стеклом – забетонированное поле, зовущее в путешествие, справа – то пустующие, то полные накопители, собирающие пассажиров перед посадкой.
Удовольствие…
А шаг сам собой убыстряется. Густав отстал. Ничего, тут одна дорога – муж не заблудится. На верхней ступеньке широкой лестницы, ниспадающей к залу паспортного контроля, Вера стала высматривать-вычислять, какая змейка короче и тоньше… Глупо. Как угадаешь, не подвалит ли к стоящей перед тобой спине бесцеремонная толпа путешествующих вместе сослуживцев…
И снова повезло. Очередь подтаивала так быстро, что Густаву пришлось подтолкнуть жену к окошку, только-только она успела оглядеться и встретиться с парой-тройкой внимательных глаз.
Незнакомых?
Да откуда тут взяться знакомцам…
Вместо того чтобы сосредоточиться и припомнить, где она встречалась с одним из направленных на нее взглядов, Верина мысль упорхнула в неэмпирические, вроде бы бесполезные дали. Непредсказуемая мысль художника…
Что значит – знать? Даже она сама не так уж разбирается в своем внутреннем устройстве. Часто, очень часто не может себе объяснить, почему сказала или сделала то, а не это. Непонятность лишает спокойствия, раздражает, как «хор.» в зачетке отличницы.
И когда у мольберта стоит, тоже не знает. Пишет, чтобы узнать…
Но по внешности может ее кто-то опознать? Вряд ли… Почти два года не была в России. За меньший срок забывают человека. Даже того, кого когда-то страшно, самозабвенно любили…
А то, что посматривают… Ну, заприметили ее найковскую бейсболку. Кто там, в малиновом кепоне… то есть берете. Для того и надеваем. Головной убор летом – самый простой способ не слиться с массой никому не знакомых людей. Зачем выделяться? Чтобы подзаправиться чужой энергией. Всякий взгляд – питание.
Сложнее, когда толпа состоит в основном из знакомцев. В арт-тусовке надежнее действует элегантность. Она организует все пространство вокруг. Силовые линии постороннего внимания, направленного на тебя, как бы поднимают над полом. Взмываешь. Но тогда приходится заботиться о весе. Тушу от земли не оторвать…
Смотрят… Может, кто-нибудь из женщин заметил ее почти девичью худобу, за которую она борется каждодневно, начиная с первого курса истфака… Четверть века ведет сражение, а победа никак не закрепляется. Чуток расслабишься, и наутро весы обязательно испортят настроение.
– Снимите головной убор! – отрывает от размышлений приказ суровой тети-моти.
Одета в защитного цвета рубашку, пуговички еле-еле удерживают набухающую опару ее телес. На мужской вкус – очень даже аппетитно, а на женский – фу, противно…
– Цель приезда? – полоснула контролерша военным взглядом по открытому теперь лицу Веры.
От меня защищают мою же страну, блин!
Мелькнуло негодование и пропало, не успев повысить градус обычного дорожного напряжения. Рутинный вопрос вроде бы перестал вызывать у Веры какие-либо чувства. Домой я прилетела, домой! – хотелось возмущенно выкрикнуть только в первые разы, когда паспорт с немецким гражданством еще не ощущался как бронежилет, который защищает основные органы ее… черт, как это по-русски? Органы ее личности. Уязвимых мест все равно остается предостаточно.
– У меня персональная выставка в галерее «Ривендж», – прозвучало и хвастливо, и надменно. – Приходите, приглашаю, – суетливо добавляет Вера, растянув в улыбке тонкие губы.
Получилось заискивающе. Робеет советский человек перед властью. Бывший советский перед любой властью.
Вера чертыхается про себя, когда багажная змейка никак не хочет вытащить из аэропортовского чрева тугой рулон с десятью полотнами, развеской которых придется заниматься всю ночь.
Прилетели раньше, но выигрыш во времени оборачивается дополнительной нервотрепкой. Герки возле табло, естественно, нет. Хотя теплилось: а вдруг? Вдруг он подумал о попутном ветре, предусмотрел досрочное приземление и приехал пораньше? Нелогичная надежда – сын в пику пунктуальному отцу давно сделался раззвездяем. Еще до того, как родители развелись.
Но чем больше времени Вера не виделась с сыном, тем сильнее реальный Георгий с его хмурой молчаливостью и вспышками гнева преображался в ее сознании: понурые плечи расправлялись, лицо светлело, а сам он становился добрым, внимательным рыцарем, в заботе о матери обретающим и свое счастье.
Как легко изменять мир человеку с воображением!
Но ведь ничего тут несбыточного нет. Вот Густав посвятил ей свою жизнь – и ничуть же не жалеет…
– Вера… Вы – Вера, – слышит она из-за спины.
Знакомый вроде бы голос. Не спрашивает, а вслух рассуждает. Обернулась. Мгновенно охватила фигуру.
Высокий мужчина в серых фланелевых брюках и глухо застегнутом сером пиджаке-кителе. Похожие носят католические священники и офицеры высших рангов. Небольшая сумка из хорошей, мягкой кожи с длинным ремнем ничуть не оттягивает плечо, не портит выправку. Пропорциональное тело. Стоит спокойно. Сильная мужская харизма… Похож на статую Давида, только бородатого, похудевшего и заматеревшего.
– Нестик! Господи, Нестик! – Вера кидается на шею опознанному приятелю. – Узнал! Значит, я не изменилась! – Обнимает, ощутив под пальцами напрягшиеся мускулы предплечья и притягивающий запах свежести. – Как ты тут очутился? Где живешь? Чем занимаешься? У меня завтра выставка открывается. Придешь?
Вопросы набегают один на другой. Как волны, смывающие друг друга.
Нестор сразу улавливает, что Веру совсем не занимает типичная женская заморочка насчет «постарела – не постарела». Понятно, что она обрадовалась встрече, ухватилась за возможность отвлечься от дорожной нервотрепки, от неприкаянности первых минут на новом месте… Но какой она стала? Получится ли с ней контакт?
– Веду занятия по духовному совершенствованию… – Многоточием в конце фразы Нестор прощупывает собеседницу. И привлекает, конечно. Незаконченность – она всегда притягивает. – Курс начинается послезавтра…
– Ой! Как интересно! А кто к тебе приходит? Как народ собираешь?
Нестор не успевает ответить – Вера уже отвернулась от него и лобызает высокого сутуловатого парня лет двадцати, точно так же засыпая его вопросами.
– Мам, я попал в пробку, – отстраняется он сердито. – Авария. Байкер на «харлее» подрезал синий «форд». Смылся, конечно. А двухдверная «букашка» шарахнулась от него. Естественно, впечаталась в автобус. – Отрывистые, короткие фразы, как нервные мазки, рисуют подробную и четкую картину. Хотя говорится, чтобы освободиться от испуга. Чужая трагедия притягивает и ужасает. – В мой автобус. Сбоку. За рулем разбитой машины – женщина… От удара ее голова мотнулась и пробила боковое окно… Рот открыт, глаза распахнуты. Ноль движения… После скрежета – полная тишина. Вдруг бряк – заколка выпала на асфальт. Серебристый лев… И волосы… Длинные, белые… рассыпались… Как живые…
Парень воспроизвел то, что описывал. Жестами. Непроизвольно. Так тряхнул головой, что с волос, стянутых в хвост, слетела аптекарская резинка.
«Форд», лев, блондинка… Нестор где-то на периферии сознания отмечает знакомые детали. Тропинка, обозначенная ими, отчетливо ведет к… Леля? Погибла Леля? Но ум его давно и настойчиво отучен от мысленного достраивания вероятных несчастий.
Да и Вера тут же отвлекает:
– Господи, Герочка, выкинь ты из головы этот кошмар! Лучше познакомься. Мой старый друг Нестор… Нестик, как тебя по отчеству? Да ладно, давай по-европейски, без этих причиндалов. Сынуля мой, Георгий. Победоносец. Экономист. Будущий. – Она снова приобнимает юношу, который насупился и уставился вниз, на свои ботинки. – Ты институт-то, надеюсь, не бросил?
Последний вопрос явно риторический. В материнской голове не нашлось бы места такой неприятности. Да и все остальное – вопросы, советы – она роняет так просто, для разговора. Художник слишком много времени проводит, одушевляя безмолвие бумаги, картона, холста. Услышать другого, вступить в диалог – это умение нужно поддерживать, развивать, а без должного ухода оно вянет и исчезает.
Нестор протягивает руку парнишке, сжимает его пальцы и не отпускает до тех пор, пока вялая ладошка не встрепенулась и карий взгляд не вырвался из угрюмости. Когда глаза посмотрели в глаза – только это называется встречей, знакомством.
– Приходите ко мне… – Из грудного кармана кителя Нестор несуетливо достает пару афишек, извещающих о его выступлениях, и, протягивая одну сыну, другую – матери, уже чувствует, знает: Георгий придет. Не спугнул юношу.
Это умение – не просить, по-булгаковски никогда ничего ни у кого не просить, а лишь информировать, поджидая или даже собственными руками создавая подходящий момент, – очень пригодилось Нестору в новой жизни. Собственно, благодаря ему он и нащупал теперешнюю свою стезю.
Сперва-то, как те редкие интеллигенты советского рождения, которым претило жаловаться на новые перестроечные времена с их усохшими зарплатами, он всего лишь озаботился приработком. Исходя из того, что нормальный мужик должен иметь средства на нормальную жизнь. (Тоталитарное постсоветское кредо.)
Искал и нашел факультатив в частном лицее. Сразу усек: если мало или вовсе нет желающих послушать о происхождении искусства – нет и денег. Сумел использовать родительские собрания в старших группах. Агитировал, завлекал…
Поработал и получил результат: молодые ухоженные мамаши привозили великовозрастных сынков и дочек на его лекции и сами оставались в аудитории.
Мировая культура, мировые религии…
Появилась практическая цель – и он врубился в Хайдеггера, Делёза, Мамардашвили. Не читал урывками, а отвлекался от книг, только чтобы физиологически обеспечить функции мозга. Изучал философов с потребительским азартом даже в метро – и на эскалаторе, и стоя, если женщинам не хватало сидячих мест.
Несколько красавиц, скучающих в своих золотых клетках, объединились и предложили продолжить штудии уже не с детьми, а с ними. Сами арендовали заброшенную контору в Крылатском, отремонтировали и так обставили, что хотелось бывать там почаще и подольше. И ему, и им. Получилось что-то вроде аристократического прихода…
Нестора потянуло дать этой элитной массе опору, соединив изысканное образование и не всем доступную веру… Тайная светская религия. Без устаревших ритуалов. В любом месте и в любое время – контакт с высшей силой.
Нестор – всего лишь проводник.
– Могу подвезти, – предложил он Вере с мужем и сыном, заметив через прозрачную вертушку, как шофер, которого он держал на зарплате, вылезает на тротуар из черного джипа и, профессионально цепким взглядом окинув суетящихся вокруг пассажиров, пружинисто двигается к входу в аэропорт.
Пока троица пристраивает свои саквояжи, рулоны и тела на заднее сиденье, Нестор расслабленно вытягивает ноги, пристегнувшись ремнем на своем переднем. В сознании промелькнул перечень приятных и нужных дел, ради которых он прилетел из Парижа. Но какая-то неясность, как рытвина на ровной дороге, портит спокойную, гармоничную картину.
Блондинка в «букашке»… Дорожная трагедия что-то не выходит из головы.
– Ну-с, куда вам? – с лукаво-ласковой улыбкой (ширма для посторонних, то есть для всех) оборачивается он к своим пассажирам.
Завтра надо будет позвонить Леле, если сама не объявится. А пока… пока будем наслаждаться…
4
Леля… О ней думал и муж. В то же самое время.
Мысли Василия были заняты ею. Охапка белых пионов в руках – для нее. Цветы пришлось держать на отлете – с кончиков стеблей капало, сколько ни тряси.
Букет Василий купил на коротком пути от гаража к дому: в неожиданном месте, рядом с беспризорной клумбой заметил аккуратно причесанную седовласую даму. Напряженно переминается с ноги на ногу возле цинкового ведра с шапкой из белых, свежепроклюнувшихся бутонов.
Прах к праху, цветы к цветам…
Явно не ворованное продает.
Застенчивость молодит.
Разрозненные клочки мыслей, наблюдений наслаивались один на другой, покрывая незнамо откуда появившееся неспокойствие.
Бывшая учительница или врачиха борется с пенсионерской нищетой.
В начале девяностых похожая на нее химичка, доктор наук, нанялась уборщицей к нему в офис. Никогда не опаздывает, работает в желтых резиновых перчатках и так чисто моет полы, что по утрам, особенно в дождь и слякоть, так и тянет снять следящие ботинки и в носках пробежать по коридору в свой кабинет.
И эта продает без обмана. Ни одного пиона-пенсионера, который по дороге из ведра в вазу терял бы свое оперение.
Купил всю тугую свежесть и получил вдобавок такую благодарную и незаискивающую улыбку…
Есть русская интеллигенция, есть…
Тротуар возле дома забит припаркованными машинами.
Нет синей Лелиной «букашки»…
Но это же ничего не значит. Ей тут просто не нашлось места. Наверное, поставила авто с другой стороны. Хочет постоянно видеть из окна мужнин подарок. Надо поторопиться с гаражным пристанищем…
Подъездная дверь открыта и приперта толстым томом. Голубой коленкор, стертое золото букв…
Василий наклоняется – потянуло разглядеть автора. На глаза налезают волосы. Светлые, но не прозрачные же.
Руки заняты портфелем и цветами. Тряхнул головой и, прежде чем прядь снова застила взор, успел прочитать: Алексей Константинович Толстой.
Чтобы купить по талону «Князя Серебряного», Вася, тогда восьмиклассник, сдавал двадцать килограммов макулатуры, а теперь самого князя Толстого в мусор отправляют… И дом ведь у них не простонародный, а кооперативный: в восемьдесят пятом в него въезжали не самые темные москвичи.
Пешком прошагал в свой «бельэтаж» – так они с Лелей прозвали вытянутый по жребию второй этаж. Элегантное слово помогало не комплексовать, а радоваться близости к земле, к палисаднику под окном, к прохожим, похожим на людей, а не на тараканов. С более престижной верхотуры все кажется черно-белым, и человеческие пропорции неразличимы.
Василий коленом толкает незапертую створку двери в общий холл. Оказавшись перед родной малиново-кожаной дверью, ленится лезть за ключами. Все пальцы заняты, выставился только мизинец. Вдавливает его в кнопку звонка. Молчание. Нажимает снова и вздрагивает, услышав, как к пронзительной трели присоединяется щебет домашнего телефона из недр их просторной квартиры.
Ни на одну мелодию никто не отзывается.
Где Лелька?
Куда подевалась?
Раз не предупредила, когда завтракали, и за весь день даже эсэмэски не скинула, то наверняка бросила на коврик записку. Нужно только поскорее достать ключи и открыть дверь, чтобы дикие мысли не успели червоточиной проесть сознание.
Черт, куда же связка задевалась!
Посеял?
Стоп, стоп!
Почему так паникую?
Так… Портфель на пол. Пионы к ногам. Выпрямился. Руки по швам, глаза прикрыты… Глубоко вдохнул и задержал выдох.
Несколько секунд ни о чем не думает – хватило, чтобы успокоиться. Прогнал ревнивое видение, в котором его Леля голышом прижимается к одетому, застегнутому на все пуговицы Нестору.
Ни разу не задал ей прямого вопроса…
Прошлой весной Леля в очередной раз обиделась на своего гуру. Страдала оттого, что Нестор давно не звонил. Дней десять молчал ее мобильник, купленный на следующий месяц после их знакомства. Бытовой аппарат словно превратился в капельницу, по которой каждую минуту в Лелину кровь поступал яд тишины.
Из гордости первой не звонила и так извела своим молчаливым страданием, что Василий предложил себя как бы в бодигарды – сопроводил жену на публичное камлание. Запер свои эмоции на замок и еще повесил табличку с заклинанием: ей будет хорошо, значит, и мне тоже.
Слушал Нестора, не слишком вникая, наблюдал. Сперва только за гуру, не за Лелей.
Ну, начитанный он человек…
Умный…
Не один же он такой…
Внимали солисту в основном женщины. Девяносто процентов зала мест на триста – разновозрастные, но не старые еще бабы. Парами, тройками и поодиночке пришли они на эзотерическую акцию. Пришли, чтобы заслониться от жесткой непредсказуемости жизни. Набор в группу начинающих.
С какого-то момента речь Нестора начала ввинчиваться в сознание.
– …Многое в мироздании можно ухватить точечно. Многое, но не все. Жизнь как таковую – нельзя ухватить, никак не получится. Скажем, вы видите жизнь в точке «А», и, пока фиксируете ее в этой точке, она уже добралась до следующей точки «В». Если она жива. – Нестор неспешно пошел в глубь рядов, продолжая говорить. Манера эстрадных певцов. Но они собирают букеты, а он – только любовную энергию. – А жива она, vita nostra, по определению. Всегда. Вдумаемся в простые слова: «Человек хочет жить». Что они, собственно, означают? Не просто существование белковых тел, не элементарные функции дыхания, кровообращения… Хотеть жить – это желание занять множество новых точек пространства и времени. Восполнять, дополнять себя тем, чем мы сами не обладаем. Допустим, я люблю Лолу…
Сказано было нейтрально. Произнесено с той же интонацией, с какой чуть раньше говорилось: «Допустим, я встал с этого стула». Но лектор помедлил возле Лелиного кресла. Задержался на долю секунды, незаметную для других. И очень явную для нее. Она заалела и как будто вознеслась.
Василий почти физически ощутил, что ее нет рядом. Он испуганно развернулся и схватил Лелину руку.
Она никак не отреагировала.
Она не заметила.
Она была не с ним.
А Нестор уже отсоединился от Лели. Вернулся в первый ряд и, глядя на немолодую мымристую тетку-щепку, ревновать к которой никому не придет в голову, продолжил:
– Люблю существо, наделенное некими качествами и в силу этих качеств пробудившее во мне любовное стремление. Так? Вроде бы так. А на самом деле мое стремление продуцируется расширительной силой жизни. Расширительная сила жизни! Вот оно, то самое заветное пространство, где уместно начать мыслить. Спрашиваю себя: ты любишь Лолу потому, что у нее голубые глаза, или ты любишь ее потому, что ты расширяешься во вселенной? От ответа зависит многое. Линия жизни сдвинется – пусть на градус, на минуту, на секунду, но бесповоротно. Так-то. – Нестор подпитал зал своим взглядом. Каждому, кажется, в глаза посмотрел, даже и Василию. Помолчал и продолжил: – Уловим существенное различие. Лола любима мной потому, что у нее голубые глаза, и потому, что она верх совершенства – это пред-став-ле-ние. Реальность же – причем та, которая скажет решающее слово в моей судьбе и начертает контур наших дальнейших взаимоотношений, – это нечто другое.