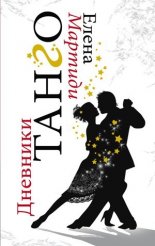Приговор, который нельзя обжаловать Зорин Николай

Часть первая
То, чего не было
Глава 1
Соня
Мой ребенок вырос. Когда это случилось? Год назад? Полгода? Я поняла это только сегодня, когда пришла в «Детский мир» выбирать подарок к Новому году. Я долго бродила по отделу игрушек, рассматривала пестрое стадо меховых зверей, пока мой взгляд не остановился на красной собаке с черными конопушками на толстом носу и белой изнанкой висячих ушей. Взяла в руки – почувствовала упоительную шелковистость шерсти, прижала к груди – ощутила умиротворяющую мягкость синтепонового тела. Такая собака вполне могла бы стать другом моему ребенку. С ней не так страшно просыпаться по ночам и вечер коротать веселее, когда дома никого. Да и любая болезнь превратится в нетягостное ожидание выздоровления. Игрушка облегчит жар, разгонит боль… Мой ребенок так часто болеет. Нет, не так: моему ребенку так часто больно.
Посмотрела на ценник, отсчитала деньги – и поняла, что никакая собака больше не нужна, опоздала я с собакой – мой ребенок вырос. Не поможет эта прекрасная игрушка – нет, этот друг – ни мне, ни ему.
Я с сожалением вернула собаку на место и быстро вышла из магазина. Не вышла – ушла навсегда.
Ледяной ветер пронзал насквозь, замораживал сердце. Сугробы, сугробы, кругом лежали высокие предновогодние сугробы.
Как я могла забыть! Однажды я купила собаку, ту самую, красную, конопатую. И принесла, и подарила… Мой ребенок никогда не был ребенком, вот в чем все дело! Даже тогда, в пятилетнем возрасте. Собака не пригодилась, совсем моя собака не пригодилась!
Ветер… Сердце превратилось в льдину. В таком виде оно вполне может сохраниться лет сто или больше.
Дело в том, что эту историю я только что выдумала. Не я покупала собаку, для меня она покупалась. Я – тот самый ребенок, Софья Королева, так и не ставшая Сонечкой, поэт-вундеркинд, в данный момент изрядно постаревший и переставший быть не только вундеркиндом, но и поэтом, в прошлом – чудо из чудес. Мои стихи сделали знаменитой мою семью, мои стихи льстили самолюбию родителей, мои стихи увели их в запредельные дали самых смелых мечтаний. Как же они все эксплуатировали мой дар! Все, кроме бабушки.
Ветер. Сугробы. Я думала, что никогда не прощу, а сегодня простила. Маму простила. Возможно, когда-нибудь прощу и остальных.
С трехлетнего возраста, с тех пор, как мои ритмизованные болезненные выкрики были зачислены в разряд стихов, детство мое кончилось. Из дома изгнали все игрушки, с одежды моей – оборки и вышивки. С трехлетнего возраста я стала Софьей Королевой. Мама усматривала в этой, в общем-то вполне заурядной фамилии, королевский подтекст, не забывая при этом, что и она Королева. Папа ее в этом поддерживал. И сестра Вероника. Я была коронована Софьей – королева-мученица. Бабушка противилась, бабушка пыталась звать меня Сонечкой, бабушка отважилась однажды купить мне меховую собаку, бабушка изо всех сил старалась вернуть мне детство.
В конце концов бабушка тоже была изгнана.
Мои стихи – это просто болезнь, неизученная и потому непризнанная. Бурно протекающая мучительная болезнь со своими симптомами и осложнениями. Я задыхалась, я умирала – крик сдержать невозможно. Я и кричала – а выходили стихи. Мой мозг раздирал кошмар, мне было больно, невыносимо больно. Мою боль собирали по капле, мою боль бережно хранили, моей болью гордились, мою боль препарировали, в моей боли находили ошибки и неточные рифмы, мою боль складировали на страницах журналов и сборников, моей новой порции боли с нетерпением дожидались родители. И одна только бабушка…
Не было никакого праздника – Новый год я потом сочинила, не было никакого специального повода (весь повод состоял только в том, чтобы очередной раз попытаться дать мне хоть крупицу детства), когда она пошла, и купила, и принесла мне меховую собаку с висячими ушами. Но приступ уже подступал, приступ накрыл меня в тот момент, когда бабушка разворачивала блестящую обертку своего подарка.
– Это Тоб. – Бабушка затормошила собаку, надеясь предотвратить приступ. – Он очень хочет подружиться с моей маленькой Сонечкой.
Но Тоб был не в силах помочь, и бабушка была не в силах – мой ритмизованный крик прорвался наружу.
– Мама! – взвизгнула мама. – Убери! Ты что, не понимаешь? Софье Королевой не нужны игрушки! Ты слышала, слышала, что она только что сочинила? Моя дочь – взрослый человек. И не надо сюсюкать!
Тоба изгнали из нашей квартиры, а через три года изгнали и бабушку.
Собака… Да. А теперь вот снег, снег, снег. Сегодня я окончательно простила маму.
Вместо детства – стихи, непосильный груз. Как часто я представляла себя другим человеком и проживала чужую счастливую, безболезненную жизнь.
Я была Соней, Сонечкой, Сонькой, веселой умной девочкой, знающей о стихах только из книжек с картинками. Софья и Сонечка вполне уживались вместе. До тех пор, пока…
Мы гуляли в парке: я, Соня и мама – на детской площадке. Было утро, начало осени, теплый солнечный день, но роса не успела просохнуть. Сначала мы вместе с Соней играли в песочнице, но потом пришли другие дети, веселые и умные, такие же, как Соня, и она предпочла их. А я отошла, я побрела по тропинке – к деревьям в непросохших каплях росы. Я знала, что должно вот-вот случиться, и хотела успеть дойти. Но не дошла, не успела – приступ настиг, я закричала от боли, я выкрикивала из души эту боль. Подбежали мама и какой-то незнакомый, длинный темнокостюмный человек. Я прокричала еще раз свою боль – и мне стало легче.
– С ней часто такое, – объяснила мужчине мама, – даже не знаю, что делать, куда обратиться.
Я так хотела, чтобы она взяла меня на руки, прижала к себе, а она все говорила и говорила что-то этому чужому длинному человеку.
Он присел передо мной на корточки – не мама, а он, – посмотрел так, как на детей не смотрят, и сказал, что это стихи и что он тоже поэт, и отчего-то загрустил.
Да, он был поэт, один из самых известных и признанных поэтов нашего города, прижизненный классик, лауреат разнообразных премий и прочая, прочая. Артемий Сергеевич Польский.
В тот день мы забыли Соню в парке. С того дня нас навсегда разлучили – ее оставили в детской, наполненной игрушками, кружевами и бантиками, а меня переселили во взрослую комнату. С того дня все мои крики заботливо записывали, с того самого дня Артемий Сергеевич стал бывать у нас так часто, что превратился в члена семьи. Мама гордилась – мной и знакомством с великим человеком. И папа гордился, и воспользовался связями, и смог открыть частный зубной кабинет (он у меня стоматолог). А сестра Вероника (ей тогда было пятнадцать, как мне сейчас) возмечтала выйти за Польского замуж.
От парка до самого нашего дома Артемий Сергеевич нес меня на руках и всю дорогу выпытывал, помню ли я еще какие-нибудь свои стихи. Оказалось, что помню – я и сама об этом не знала. Помню, но прочитать не могу – мне ведь сейчас не больно. А он засмеялся и сказал: если я сейчас ущипну тебя за ножку, больно ущипну, прочитаешь? Шутка, ставшая впоследствии реальностью: они все желали причинить мне боль, только бы побольше вышло стихов, только бы не иссяк их поток, только бы не закончилось чудо.
В сущности, виноват во всем был именно он, поэт Артемий Польский – не мама, не папа, не Вероника, а он. Родители и сестра всего лишь не захотели отказаться от причитающихся льгот за мой дар. Им по праву полагались эти льготы, как пособие по уходу за больным родственником. В конце концов, родителям и Веронике столько пришлось вытерпеть! Нелегко жить в одной квартире с человеком, у которого каждый день тяжелый приступ – им ведь приходилось оказывать мне необходимую помощь, мучиться. А Артемий совсем другое дело. Впрочем, и славой своей я обязана именно ему. Это он, Артемий Польский, добился первой публикации, организовал первый и все последующие сборники – всего их вышло три. Он забрал мое детство, но дал взамен славу.
А с Соней мы по ночам переговаривались через стенку. Я посвящала ей свои стихи. А однажды мне удалось подсмотреть детский праздник, устроенный мамой в честь дня ее рождения.
Я поняла, куда подевалась моя красная собака – ее переправили Соне в комнату.
Снег. Завывание ветра – заунывные звуки похоронного марша.
Сколько любви, сколько ненависти обрушилось на меня после первой же публикации! Моим стихам не поверил никто: такой маленький ребенок не может писать такие стихи! И все же меня любили – как мечту, неосуществимую, но, посмотрите-ка, возможную. И ненавидели – как мечту, неосуществимую свою мечту, тайную мечту, украденную, разоблаченную, выставленную на всеобщее обозрение. Однажды одна четырнадцатилетняя девочка призналась, что хотела меня убить, потому что выносить мои стихи, написанные не ею, не могла. Однажды одна взрослая – взрослая женщина призналась, что хотела меня украсть – то, что я не ее ребенок, – ошибка. Однажды один молодой человек признался…
Они ничего не знали, совсем ничего обо мне не знали. А если бы узнали, не поверили бы. Мои недетские стихи – это только недетская боль. Нечеловеческая боль. Боли не верили. Никто не верил. Артемий Сергеевич Польский и тот не верил. И мама, и папа…
Хуже всего было то, что я постоянно находилась на публике и даже дома ни на минуту не оставалась без надзора, разве что ночью. После первого витка славы мама уволилась с работы и все время находилась при мне – караулила приступ, боялась потерять хоть пылинку драгоценного продукта. Я долго не могла научиться бегло писать – записывать свои стихи, и потому была зависима от окружающих. Но когда мне исполнилось восемь, в первый раз у меня это получилось. И тогда я потребовала, чтобы на дверь в мою комнату поставили замок. Мне просто необходимо было уединение. Мама отказала наотрез, папа ужасно возмутился, Вероника сказала, что в таком случае и она станет запираться. А бабушка вызвала слесаря, и замок поставили. Вскоре после этого ее и изгнали.
Бабушки я лишилась. Зато обрела желанное одиночество. И свободу. Я вообще открыла для себя большое количество возможностей.
Что я делала, запершись в комнате? Первый месяц просто отдыхала и наслаждалась полученной свободой. А когда отдых-отпуск кончился, придумала себе увлекательнейшее занятие: подглядывала за людьми – сквозь оконное стекло, сидя на подоконнике, или сквозь сомкнутые веки, лежа на кровати. Человеческие образы толпились у меня в голове, но никогда не выходили стихами. Мои стихи были совсем не о них. О чем же тогда я писала? О древней старухе, живущей в ветхом домишке на вершине горы – «год или два – станет гора одинокой», о чужом человеке, живущем у меня за стеной: я слышу его, знаю, о чем он плачет, но однажды вдруг понимаю, что нет там никакого чужого человека, что человек этот – я, порожденная чьим-то больным сознанием. Но чаще всего я пишу о мертвом ребенке: о мертвом ребенке, которому запоздало принесли в подарок красную меховую собаку, о мертвом ребенке, которого не пригласили на детский праздник, о мертвом ребенке, не простившем обид, о мертвом ребенке, так и не ставшем ангелом. Вот эти-то стихи я никому не показываю, заботливо укладываю в тайник. Возможно, когда-нибудь я подарю их бабушке.
К снежному голосу ветра прибавился медный звук – труба и ветер поют дуэтом прощальную песнь.
Первым моего затворничества не выдержал папа. Выманил меня шахматами. Шахматы явились поводом для совместного семейного времяпрепровождения: папа учил меня играть, мама и Вероника пристраивались по бокам. Иногда к нам присоединялся Артемий Сергеевич.
Ученицей я оказалась крайне неспособной: путала названия фигур, никак не могла запомнить ходы, проникнуть в суть этой увлекательной, на взгляд отца, игры. И тогда папа, намучившись со мной, бестолковой, попытался зайти с другого края – придать этой математической игре поэтический оттенок.
– Посмотри, это бальный зал, – он нежно провел ладонью по расквадраченной доске, – сейчас начнутся танцы. И-раз, и-два – госпожа Белая Пешка выходит на середину зала, кланяется. Госпожа Черная Пешка повторяет фигуру. Его благородие Белый Офицер…
Мама растроганно улыбалась, Вероника слушала внимательно, словно это ей объясняли, Артемий одобрительно кивал, и вдруг, словно его осенила Бог весть какая гениальная мысль, сорвался с места, поставил музыку – «Экосез» Бетховена. Подошел ко мне, поклонился, как до этого кланялась пешка, пригласил на танец. Я не двинулась с места, Соня поднялась, улыбнулась своему кавалеру, подала ему руку…
– Выход Королевы! – провозгласил отец и стал двигать фигуру по диагонали доски.
Соня улыбалась, улыбалась, так обаятельно она улыбалась. Ее чуткие ножки двигались в такт. Артемий, не замечая подмены, добежал с ней в танце до конца бального зала. Музыка соскользнула в легато и кончилась.
Мы снова обратились к шахматной доске – там бал продолжился.
Теперь каждый вечер у нас проходили шахматно-музыкальные занятия. И каждый вечер приходил Артемий. Играть я так и не научилась, зато преуспела в танцевальном искусстве – движения мои стали ритмичными и плавными, почти как у Сони. Но главное не это. Наши шахматные сходки вдруг привели к совершенно неожиданному открытию: у моих приступов болезни может быть и другой выход, не только стихи – музыка.
Музыка стала причиной следующего этапа моего затворничества. Музыка стала новым яблоком раздора в нашей семье. Моя страсть к музыке чуть было не выдворила из нашего дома Артемия.
Началось с Баха. Артемий Сергеевич как-то вечером принес новый диск, посчитав, вероятно, что одной танцевальной музыки для шахматных экзерсисов недостаточно, пора пересмотреть репертуар, пустить игру в новое русло. Это были скрипичные концерты. Предчувствие близкого разрешения меня тогда ужасно взволновало и породило почти безболезненный выход нового стихотворения – не самого моего лучшего, но до сих пор любимого за эту безболезненность. Мама бросилась его записывать, а я потребовала у Артемия «главной музыки». Как лучше выразить свою мысль, я не знала, только сразу поняла, что это не все, есть что-то другое, большее, гораздо большее, оно-то мне и нужно. И он меня понял и на следующий день принес органные фуги.
Шахматные вечера на этом закончились. Я без всякого спроса перенесла в свою комнату музыкальный центр и снова закрылась от всех.
Бах спасал от стихов, Бах лечил мою искалеченную душу. Я слушала фуги и набиралась сил для того, чтобы жить дальше. За целый месяц я не написала ни одного стихотворения. А за дверью моей замкнутой комнаты то и дело вспыхивали скандалы: мать обвиняла отца, отец обвинял Артемия, Артемий, непонятно уже в чем, обвинял Веронику.
А потом Бах перестал помогать. Я вышла из комнаты. Возобновились прогулки, возобновились совместные вечера (только без шахмат), возобновились стихи. Артемий добился выхода второго моего сборника, и его водворили на место.
Ветер, снег. Ноги проваливаются в сугробы и не желают подчиняться ритму похоронного марша. Две трубы, гобой, флейта и ветер выдувают музыку прощания – прощания навсегда.
Я так старалась превозмочь свою боль, побороть болезнь, избавиться от стихов. Я так боролась за свое детство, что не заметила, как оно прошло. Мой ребенок вырос – я выросла. А стихи… Стихи больше ко мне не приходят. Боль ушла. Навалилась глухота, немота, пустота. Я и не знала, что это так страшно.
Мама первой поняла, что со мной произошло, и – сбежала от ответственности: вернулась на работу, сказав, что я уже выросла и опека мне больше не нужна, зато совершенно необходимо развивать во мне самостоятельность. Она меня бросила, попросту бросила, предоставив мне самой разбираться со своей искореженной онемевшей душой, в одиночестве биться в глухой пустоте.
Снег, ветер. Стихи ко мне больше никогда не придут, я это знаю точно. Оркестр смолк, один ветер никак не уймется. Гроб глухо ударился о мерзлую землю… Я простила ее, ну конечно, я ее простила!
Толпы образов толпятся в моей голове – и не выходят стихами. Толпа стоит у не зарытой еще могилы моей мамы… Пора и мне подойти.
* * *
Кто и за что ее мог убить, кто и за что? У нее не было никаких врагов, кроме одного – ее собственного ребенка, которого она лишила детства, на душе у нее не было никаких грехов, кроме одного – предательства по отношению ко мне. Но я простила, отпустила ей грех. Так кто же ее убил?
Нестройной толпой мы возвращаемся с кладбища, садимся в автобус. Папа, Вероника и бабушка поддерживают друг друга под руки, вместе плачут – мамина смерть воссоединила их. Артемий скорбно плетется сзади. Вот к нему пристроилась какая-то женщина – я ее не знаю, – и тоже стала его поддерживать. И только я опять осталась одна.
Пробираюсь в самый конец автобуса, сажусь, придвигаюсь к окну по привычке, чтобы освободить немного места Соне, и тут же спохватываюсь: Соня, какая уж тут Соня? Реальная беда, реальная смерть.
Кто ее убил и за что? Она никому не причинила зла, а я не в счет. Три дня назад мама разбудила меня в школу, выдала завтрак и поспешно ушла на работу. А минут через сорок нам позвонили – я еще была дома. Несчастный случай – так тогда определили ее смерть. Позже выяснилось, что это убийство. А через несколько часов была восстановлена картина ее гибели: кто-то подложил взрывчатку в обогреватель. Мама работала в архиве при университетской библиотеке. Архив находится в подвале, там всегда, даже летом, холодно и как-то промозгло. По технике безопасности пользоваться электроприборами запрещается, но и без дополнительного отопления выдержать трудно. Обогреватель мама прятала под столом, за которым сидела, и, придя на работу, первым делом его включала. Об этом мало кто знал – в архиве она была одна и по понятным причинам никого из сотрудников библиотеки не посвящала в свою, по существу, вполне безобидную тайну. Так кто же ее убил?
Три дня назад… А сегодня – автобус, и кладбище, и закрытый гроб, похоронный ветер, похоронный снег, официально предъявленная бабушка. Почему она ко мне не подходит?
Автобус тронулся и медленно, словно нехотя, покатил по заснеженной дороге.
Трубку взял папа. Я стояла одетая, с сумкой на плече, полностью готовая к выходу, и смотрела на него. Три дня назад. Он не поверил и расхохотался. И кричал в телефонную трубку, словно глухой: куда вы звоните? Набирайте правильно номер! Вы ошиблись, ошиблись! И на том конце провода тоже кричали – я даже смогла расслышать отдельные слова – и пытались его вразумить, что никакой ошибки, Екатерина Васильевна Королева – ведь это его жена?… А он продолжал не верить и отказываться от очевидного.
Мы поехали вместе – полгода назад такое никому и в голову не могло прийти: мою тонкую поэтическую душу холили и лелеяли… Впрочем, и полгода назад мы поехали бы вместе: страдания входили в воспитательный процесс, без страданий и боли стихи я рождать не умела.
По дороге, в такси, папа пытался передать суть телефонного разговора – я ее и так уже поняла – и все восклицал, успокаивая – не меня, а себя, – что это, конечно, ошибка, и сейчас она разъяснится. Первым выскочил из машины, забыл расплатиться, расхохотался, увидев совершенно целое университетское здание.
От взрыва пострадал только архив, погибла только мама. Тот, кто готовил убийство, все рассчитал точно: ему нужна была только эта смерть.
У входа в подвал нас встретил милиционер. Подхватил папу под руку, неприязненно посмотрел на меня и велел остаться. Но я не послушалась, чуть приотстав, протиснулась в дверь вслед за ними. Едкий, страшный запах ударил в нос, глаза заслезились, но я упрямо шла сосредоточившись на папиной вдруг сгорбившейся спине, стараясь не потерять ее из виду – здесь было довольно темно. Несколько раз я приходила к маме на работу, в каком направлении двигаться, знала и так, но сейчас мне казалось: потеряю спину, заблужусь, заблужусь – привести к цели может только папа, заботливо направляемый милиционером. Я понимала: впереди ожидает такой ужас, справиться с которым мне будет не под силу, и думала: даже после этого ужаса простить ее не смогу. Лелеяла нарастающую боль, обманывая себя, надеялась, что это та самая, забытая боль – предвестник стихотворения, рассчитывала, что кошмар с мамой вернет стихи, излечит от поразившей меня немоты. Я шла сосредоточившись… готовилась к кошмару… обманывалась, рассчитывала… И потому не заметила, что коридор, по которому мы идем, – вовсе не пустой коридор, в нем полно народа. И этот народ вдруг обступил меня, как толпы не написанных мною образов, отделил, оторвал от папиной спины, куда-то повлек. Все они о чем-то говорили – яростным шепотом, – пытались в чем-то меня убедить и теснили, теснили. Внезапно мы оказались в ярко освещенной комнате. Неприятно звякнуло стекло, тяжелая рука обняла за плечи, перед глазами запрыгал солнечный зайчик, рожденный в стакане воды, губы намокли, капли потекли по подбородку, назойливый голос умолял успокоиться, был еще звук – отчаянный, нескончаемо долгий, только я никак не могла понять его суть. И вдруг поняла, что это кричит мой папа и что в этом крике виновата я. Госпожа Белая Пешка выходит на середину зала, кланяется… Я не поспела за его сгорбившейся спиной. Госпожа Черная Пешка повторяет ее движения… Я предала его фугами Баха, закрылась в комнате и не поспела за его спиной. Стихи ушли от меня навсегда, немота, немота поразила – а теперь он кричит, и помочь ему некому.
Я вырвалась и побежала, но крик внезапно смолк. За спиной не успела и на крик опоздала. Вот самой бы теперь закричать – человеческим криком или стихами, как в детстве, в фантомном моем детстве. Если бы мама не вернулась на эту работу… Если бы я не перестала писать… Если бы я была обыкновенным ребенком…
Я и тогда, когда бежала по коридору на вдруг смолкнувший крик, тогда, когда ничего еще до конца не было известно, понимала, что никакой это не несчастный случай, а самое настоящее убийство, и я его соучастник. И все же маму простить не могла.
Простила я ее сегодня, на кладбище.
Автобус въехал в город по снежной дороге. Папа, Вероника и легализованная бабушка скорбной кучей сидели на переднем сиденье, Артемий о чем-то разговаривал с незнакомой женщиной, а ко мне никто не подходил. И Сони у меня больше нет. Сначала ушли стихи, теперь Соня.
Заснеженная дорога…
Папу я тогда не нашла. Добежала до пролома – вместо дверного проема оказался пролом, – но в бывшем мамином кабинете его уже не было. Меня опять оттеснили и опять куда-то повлекли. Воздух, холодный и свежий, ударил в легкие, свет ослепил… Вот оно что, меня выпроводили вон, на улицу. Хотела расчистить снег и сесть на ступеньку, но руке отчего-то было неудобно. Поднесла ее к лицу – пальцы оказались сжаты в кулак. Разжала – деньги, сложенная в несколько раз сторублевка. Опустилась на так и не расчищенную ступеньку, расправила бумажку, положила себе на колено и смотрела, смотрела, пытаясь понять, как она может быть связана с тем, что там, в подвале, произошло со мной. Крик, и шахматы, и страшный едкий запах. Ну да, мама. Люди, которые мне все время мешали, видимо, дали денег на такси. Куда же делся папа?
Я встала, пошла, зажав в руке сторублевку. Подъехала машина, радушно приняла меня в свое нутро. Вспыхнула елка в витрине, слепой Дед Мороз растянул меха немой гармошки – таксист взял с места, новогодняя витрина осталась позади.
Дочь и жена водителя оказались моими поклонницами. Никто еще не знал о постигшей меня немоте, никто еще не знал о том, что произошло сегодня в подвале. Таксист всю дорогу рассказывал о своей семье, а в конце потребовал автограф.
Папа был дома. Папа закрылся в моей комнате и не хотел выходить. Я слышала его рыдания. Я ничего не могла сделать, чтобы оказаться с ним рядом. Стучала в дверь, уговаривала – в ответ раздавались всхлипы. Тогда я позвонила Веронике. Она вот уже три года жила отдельно: вышла замуж – неудачно, развелась, теперь подыскивала себе новую партию.
Вероники ни на работе, ни дома не оказалось, и мобильный ее отчего-то был недоступен. Но через час она приехала сама – из милиции, ей все уже было известно. К тому моменту, как ее вызвали, картина убийства стала совершенно ясна: утром мама пришла на работу, включила обогреватель – привела в действие механизм, привела в исполнение приговор… Кто ее приговорил? Кто и за что? Подозреваемых не было.
Как только явилась Вероника, папа вышел из комнаты. Они обнялись и зарыдали вместе, меня в свой круг не приняв. А вечером приехала бабушка.
Они и сейчас рыдают, обнявшись втроем, на переднем сиденье. Автобус подъезжает к нашему дому. Я поднимаюсь и, не оглядываясь на свою семью, выхожу через задние двери.
* * *
На поминках собрались только самые близкие – родственники и несколько знакомых. Стол накрыли в большой комнате – кто и когда его успел накрыть? Пили водку, много ели и плакали. Это походило на праздник, только там пьют, едят и смеются. В конце концов я ушла в свою комнату. А минут через пять ко мне постучали.
– Сонечка!
Бабушка. Наконец-то! Я думала, она совсем ко мне не придет.
Я открыла дверь. В руках у нее был какой-то сверток. Меховая собака? Бабушка положила сверток на кровать, посмотрела на меня тем самым взглядом десятилетней давности, когда так неудачно выступила со своим подарком.
– Что это?
– Завтра ведь Новый год и твой день рождения. Поздравляю тебя, Сонечка! – Она подошла ко мне, обняла, с каким-то изголодавшимся наслаждением поцеловала в макушку.
Новый год? День рождения? В самом деле, завтра тридцать первое. Но как неуместны сейчас ее поздравления, как вообще можно сейчас помнить о каких-то праздниках?
– Спасибо. – Я тоже ее поцеловала, приподнявшись на цыпочках – бабушка очень высокая.
– Разверни.
Я села на кровать, развязала тесемки. Платье. Очень нарядное кремовое платье – обыкновенный подарок, без всякого подтекста, просто подарок. Но почему она решила его вручить мне сегодня, в такой неподходящий для подарков и поздравлений день?
– Примерь. – Бабушка улыбнулась, расправила платье. – Я немного сомневалась с размером, подойдет или нет.
Боже мой, как это все неуместно! Да разве можно сейчас?…
– Ну, пожалуйста.
Оглянувшись на дверь, я стала стягивать свитер, черный траурный свитер. Не снимая брюк, надела платье.
Она долго, придирчиво одергивала на мне платье, а я все боялась, что кто-нибудь зайдет в комнату, хоть точно знала, что дверь закрыта на замок.
И тут я подумала, что она-то маму не простила.
– Хорошо, очень хорошо! Жаль, что у тебя здесь нет зеркала, сама бы увидела.
Не простила. Даже на кладбище, даже после похорон.
Не простила. За меня, за себя, за свое изгнание.
Я бросилась на кровать в новом, подарочном платье, спрятала голову от кошмара в подушку.
– Сонечка! – Бабушка присела рядом, погладила меня по спине. – Поедем ко мне.
– К тебе? – Я приподнялась на локте, удивленно на нее посмотрела: как она может такое предлагать, сегодня, в день похорон мамы? – Но как же?…
Она со значением качнула головой, словно подавала знак, словно мы были с ней заговорщицами, словно мы были одни среди толпы не посвященных в нашу тайну.
– Твоего отсутствия никто не заметит.
– Но разве можно сегодня?
– Именно сегодня они не заметят. Именно сегодня! Неужели ты сама этого не понимаешь, неужели еще не увидела?
– Ты тоже ко мне не подошла ни на кладбище, ни в автобусе, ты тоже оставила меня одну!
Она опять качнула головой все с тем же, непонятным мне значением, но на мой выпад ничего не ответила.
– Поедем. В семь придет Игорек. Он тоже хотел тебя поздравить.
Вот как! Значит, она с самого начала предполагала, что сегодня я буду ночевать у нее, подготовилась и нисколько не сомневалась, что я соглашусь. Зачем же тогда она сюда принесла подарок?
Я поднялась, сняла платье, облачилась в свой траурный наряд, и мы тихонько вышли в прихожую. В большой комнате продолжались поминки: слышны были возбужденные пьяные голоса, плач, звяканье вилок о тарелки. Бабушка подала мне куртку, оделась сама и, стараясь не щелкнуть замком, открыла дверь.
* * *
Тайны, связанной с сегодняшним днем, у нас не было, но была другая, в общем, в свете последних событий и отношений, вполне невинная тайна. Дело в том, что я давно приходила к бабушке, с тех самых пор, как мама вернулась на работу и меня перестали опекать. Произошло это так. Однажды, возвращаясь из школы, я лицом к лицу столкнулась с бабулей. Я ее в первый момент не узнала, потому что давно не видела. Бабушка рассказала, что все эти годы не выпускала меня из виду, была в курсе всех моих успехов и достижений и вообще в курсе всего. Она даже знала, что мама вернулась на работу, а Вероника вышла замуж, развелась и живет отдельно от нас. А потом бабушка посадила меня в такси и привезла к себе. Еще пару недель назад это можно было рассматривать как похищение, но теперь все изменилось. Никто не заметил, что из школы я вернулась на три часа позже обычного, да и кому было замечать? Моя семья от меня отступилась, чтобы не сказать – отреклась. Но бабушка все еще была под запретом, скорее всего, просто по инерции, имя ее все так же было табу. И потому мы с ней договорились, что приезжать я буду втайне от всех. Даже Веронике, которой давно уже до меня не было никакого дела, я ни разу не проговорилась, даже Артемию, который, может, был бы и рад, что я вновь воссоединилась с бабушкой – он почему-то переживал наш разрыв. Я приезжала к ней раза два в неделю. Да, раза два… До того, как со мной не произошло… До того, как я… До того, как у нас с Игорем… Тогда я стала приезжать чаще, гораздо чаще, а в последнее время – каждый день, даже в выходные. Он не мог заполнить вакуум, образованный поразившей меня немотой, он не стал тем толчком, который смог бы породить новые стихи, пусть и совсем другие. Я стала приезжать. И ждать этих встреч. А потом мы начали встречаться не только у бабушки. Она обо всем догадалась, давно догадалась – и нисколько не препятствовала.
Игорь был бабушкиным учеником – Учеником в высоком и полном смысле этого слова. Бабушка – преподаватель французского в университете, в том самом, где находился мамин архив, а Игорь – лучший ее студент, любимый студент, на него она возлагала огромные надежды, пророчила блестящее научное будущее (как будто в наше время такое возможно!). Он приходил к ней на консультации раз-два в неделю. Иногда наши посещения совпадали. Сначала я на него не обращала никакого внимания. Несмотря на бабушкины хвалебные оды в его честь, несмотря на ее признание, что Игорь – давний поклонник моего таланта, знает почти все мои стихи наизусть и восхищается, восхищается. Но потом… Все произошло до нелепости банально. Однажды Игорь пришел, когда бабушки не было дома (ушла в магазин и отчего-то там задержалась) – и мы разговорились. Однажды он вызвался меня проводить до остановки (до дому было нельзя из конспиративных соображений) – и мы договорили то, о чем в прошлый раз не успели. Однажды он пригласил меня в зоопарк – мы смотрели на обезьян и говорили, говорили, договаривали. Однажды он попытался поцеловать меня в подъезде – но щелкнул замок в чьей-то двери, и мы опять стали разговаривать, говорить, договаривать.
Но дело было не только в наших разговорах, хотя ни с кем еще мне не было так легко и интересно. Дело было в другом… Я не знаю, в чем дело. Я ждала наших встреч, потому что понимала: он тоже их ждет, я притворялась возвышенно-поэтически-гениально-непостижимым ребенком, потому что знала: он влюблен именно в этот образ, я старалась, изо всех сил старалась сохранить свою тайну о том, что я давно не ребенок, а с недавних пор даже не поэт. Любила ли я его, полюбила ли теперь? Наверное, это все-таки не любовь. Мне нравилось, что он влюблен, мне нравилось нравиться. До такой степени, что голова кружилась и становилось трудно дышать при встрече – так, вероятно, чувствует себя влюбленный, но вряд ли я была влюблена. Может быть, я вообще не способна полюбить, потому что, в сущности, я ведь страшная эгоистка. Кроме стихов, моих стихов, меня ничто по-настоящему не трогает, потому что в любой ситуации, в любом соприкосновении с жизнью, в любых ощущениях я ищу только толчок для нового стихотворного выхода. Неужели моя немота никогда не пройдет?
Я не могу об этом не думать, я думаю об этом постоянно, даже сегодня на кладбище думала, в автобусе думала, на поминках думала. Подспудно я думала об этом, когда примеряла платье, так неуместно, кощунственно подаренное бабушкой.
И когда мы в прихожей стояли, прислушиваясь к поминальным говору и плачу в комнате, и когда в такси ехали. И сейчас думаю. Стоя перед дверью – бабушка ищет ключи и никак не находит. Она вытаскивает по очереди из сумки кошелек, какие-то квитанции, губную помаду, телефон, свернутый в несколько раз пустой полиэтиленовый пакет и подает мне. Я принимаю все это и не перестаю думать.
Наконец, когда из сумки все вытащили, ключи нашлись. Бабушка издала радостный вопль, и мы вошли в квартиру.
Я все ждала, когда она заговорит о маме, мне нужно было точно знать, простила она ее или нет. Но бабушка упорно избегала этой скорбной темы. Тогда я спросила прямо:
– Ты ее не простила?
Вышло как-то очень уж враждебно и грубо – я не хотела грубить.
– Я себя не простила. – Бабушка опять качнула головой все с тем же непонятным значением, встала и, не посмотрев на меня, пошла на кухню.
Но я не могла так ее отпустить, побежала за ней, догнала в коридоре, схватила за руку и довольно сильно дернула.
– За что ты не можешь себя простить?
Бабушка остановилась, вздохнула.
– За то, что допустила беду. Я не должна была тогда от вас уходить.
– Но ведь тебя же прогнали!
Мне показалось, что она усмехнулась, но в коридоре было темно, я ее плохо видела.
– Я дала себя прогнать, потому что была не согласна с тем, что с тобой делают, потому что обиделась, потому что… Предпочла закрыть глаза, предпочла оскорбиться, отойти в сторону и не вмешиваться. Если бы я тогда не ушла, не случилось бы… ты была бы нормальным, здоровым ребенком, а твоя мать… Ничего бы не произошло.
Я не видела, смотрит она на меня или нет. Разговаривать в темноте было невыносимо, я протянула руку и включила свет. И так и не поняла, куда она смотрела, потому что обе мы вскрикнули и зажмурились. И тут же раздался звонок – пришел Игорь. Мы так и не успели договорить.
Бабушка бросилась открывать дверь, явно обрадовавшись, что наш разговор прервали.
Игорек неловко затоптался на пороге, посмотрел на меня, вымученно улыбнулся.
– Поздравляю тебя с днем рождения. – Достал из кармана куртки небольшой сверток, протянул мне – все так же неловко и смущенно.
– Вообще-то день рождения у меня завтра, а сегодня…
– Я знаю! – поспешно перебил он и совсем потерялся.
Чувствовалось, что и его эта ситуация с поздравлениями в день похорон тяготит не меньше, чем меня.
– Да что мы здесь под порогом толчемся? – возмутилась вдруг бабушка и с интонациями тамады-зазывалы прибавила: – Гостей так не встречают! Идемте-ка в комнату. Будем отмечать.
Да что она, в самом деле, решила праздновать мой день рождения?!
Мы гуськом прошли в гостиную, самую большую комнату в этой огромной квартире.
– Помоги мне, Игорек, придвинуть стол.
Вдвоем с Игорем они перенесли большой круглый «гостевой» стол к дивану. Бабушка накрыла его белой вышитой скатертью. Я отошла к окну, отвернулась, не желая принимать участия в этом кощунстве.
Стол быстро наполнился разнообразной едой – подчеркнуто праздничной. И когда она успела все приготовить? Неужели с утра, перед похоронами? Почему она так себя ведет? Почему, почему? Это уже не непрощением, самым настоящим проклятием попахивает.
– Аграфена Тихоновна! – Игорь раскупорил бутылку вина и вопросительно уставился на бабушку. – Бокалов… сколько достать?
– Разумеется, три!
– Ну да, конечно. – Он суетливо, стыдясь меня, стыдясь своего невозможного положения, достал из серванта бокалы и разлил вино – несколько капель попало на скатерть: красное на белом – кровь на снегу.
Бабушка встала – большая, высокая, торжественная, – подняла бокал, собираясь сказать тост, кивнула нам, чтобы и мы поднялись – Игорь послушно вскочил, я осталась сидеть.
– С днем рождения, Сонечка! С пятнадцатилетием!
– С днем рождения! – эхом отозвался Игорь.
Все выпили. Я тоже отхлебнула немного вина – никогда еще не приходилось мне пить ничего спиртного. Терпкий, вяжущий вкус, пряный запах. Странное ощущение в голове, не сказать, что неприятное. Попробовать еще немного?
Уловив мой жест, бабушка снова поднялась.
– Счастья тебе, здоровья, Сонечка, и больших творческих успехов.
С успехами она опоздала.
– Успехов! – эхом откликнулся Игорь.
Огни за окном отдалились, электричество в комнате засветило приглушенней, голове захотелось на подушку. Я откинулась на спинку дивана и вдруг поняла, что почти не чувствую боли и клонит в сон. Но расслабляться нельзя, нельзя забывать о том, что… мне нужно сказать, высказать… Я встала, подняла бокал и бросила вызов бабушке:
– А теперь мы помянем маму! – И залпом допила вино.
После моего выпада все уткнулись в тарелки, усиленно делая вид, что вдруг жутко проголодались, после моего выпада настроение, и так поддерживаемое искусственно, у всех окончательно испортилось. Но бабушка быстро оправилась, сдаваться она не собиралась. Доев мясо, поднялась, улыбнулась, будто ничего и не произошло, со значением кивнула Игорю:
– Кажется, пора подавать сладкое. Пойду заварю чай и все приготовлю.
Игорь было дернулся уйти за ней, но она опять кивнула – уже сердито, – и ему пришлось остаться со мной.
Бедный, бедный, он ведь не знал всю подноготную наших семейных отношений и совершенно не понимал, как рассматривать эту дикую ситуацию, как вести себя и что делать. Бабушку он уважал до благоговения, судить, а уж тем более осуждать не стал бы никогда, но и принять то, что сейчас происходило, не мог. Вид у него был жалкий и растерянный. Тема для разговора никак не находилась. Да в самом деле, о чем говорить: о моем дне рождения? о смерти мамы? о празднике или похоронах? Поцеловать меня и еще раз поздравить – или сесть рядом, погладить по плечу и выразить соболезнования?
Он бродил по комнате с мучительным выражением лица – и вдруг взгляд его наткнулся на бумажный сверток – подарок, – который я, так и не развернув, оставила на маленьком столике. Он с облегчением вздохнул – тема наконец нашлась.
– А ты и не посмотрела, что я тебе подарил, – сказал с легким укором – не совсем искренним: он был рад, что тогда я не посмотрела, и, значит, сейчас появилась тема.
– В самом деле. – Я повернулась к нему. – Прости!
Игорь перенес сверток на диван, стал разворачивать – меховая собака, платье, он вполне перенял бабушкины жесты, стал больше ее внуком, чем я. Что он явит на свет, истинный ученик, любимый студент?
Книга. На обложке – разрушенный дом, из камней сложены французские буквы. «Quant a moi». Что касается меня. Так называлось одно из моих последних стихотворений.
– Что это?
– Перевод твоих стихов. Пока только в единственном экземпляре, но скоро… Аграфена Тихоновна ведет переговоры с одним из французских издательств…
– Бабушка? Она мне ничего не говорила.
– Да, мы хотели сделать сюрприз. Я так торопился закончить ко дню твоего рождения! Переводил по ночам, днем-то времени мало.
– Ты перевел мои стихи на французский? – наконец дошло до меня. – Зачем?
– Здесь все твои стихи. Все, с самого первого опубликованного. Я и сверстал все сам, и обложку придумал. Тебе нравится?
Он ждал похвалы, благодарности, радости, он очень гордился своей работой и рассчитывал на ответ. Что могла я ему ответить? Что не знаю французского и оценить его труд не в состоянии? Что мои прошлые стихи мне неприятны, как остриженные, мертвые волосы?
Бабушка внесла в комнату поднос: чашки, чайник и сахарница, – и снова ушла на кухню.
– Послушай. – Игорь открыл сборник где-то на середине и стал читать, с выражением, так читают чтецы-декламаторы, не поэты. По ритму я узнала «Костел». Как нелепо звучат родные стихи на чужом языке! Как больно их слушать!
Бабушка внесла торт с зажженными свечами. Мы, все трое, непременно попадем в ад.
– Загадай желание, Сонечка! – Она поставила торт передо мной. – Ну! на одном дыхании!.. Умница!
Игорь вытащил свечи, аккуратно сложил их на пустое блюдце, разложил по тарелкам куски. Бабушка разлила чай. Праздник продолжался.
Около десяти Игорь поднялся, собираясь уходить.
– Ты, конечно, сегодня останешься у нас? – пресекла его бегство бабушка.
– А это удобно, Аграфена Тихоновна… – робко попытался он возразить.
– Разумеется, удобно! – подписала подписку о невыезде бабушка. – Места много. Я постелю тебе в кабинете, а Сонечке здесь, на диване.
Втроем, отчего-то спеша, мы убрали со стола, вернули мебель на свои места и разбрелись по комнатам.
Я легла и, как ни странно, довольно быстро заснула. Наверное, все еще действовало выпитое вино.
Когда я проснулась, за окном все еще длилась ночь: редкие окна соседнего дома светили в полной темноте. Нащупала подсветку часов, посветила – половина седьмого. Значит, не ночь, а утро, раннее зимнее утро. Я полежала немного, проснулась окончательно, и тут вдруг вспомнила, что я у бабушки, что мама моя умерла, а вчера мы праздновали день моего рождения. Мне стало так горько и страшно, что не захотелось больше оставаться ни на минуту.
Я встала, оделась, не зажигая света, выскользнула из квартиры.
* * *
Уже поднимаясь по лестнице, я пожалела, что приехала домой. Начало восьмого, скоро проснется папа. Он не придет ко мне в комнату, чтобы вместе поплакать о маме, станет обходить меня стороной, как вчера на кладбище, как потом на поминках. Как трудно, как невыносимо находиться в одной квартире – и существовать по отдельности! Как же теперь мы станем жить?
Еще вчера, на кладбище, у меня возникло ощущение, что папа в смерти мамы винит меня. В том, что стихи мои кончились, и она вернулась на работу, ведь если бы она не вернулась… Он никогда не простит мне ее смерть, как бабушка не простит маму, как, возможно, я не прощу бабушку за то кощунство, которое она учинила вчера.
Идти мне было некуда и не к кому, я поднялась на свой этаж, открыла дверь и вошла. Ну и пусть, ну и ладно, будем жить по отдельности. Я закроюсь в своей комнате, папа, возможно, врежет замок в дверь их бывшей с мамой спальни. Временами нас будет навещать Вероника – по отдельности навещать: стучаться к папе, стучаться ко мне, обходить по очереди комнаты…
Я сняла куртку, повесила в шкаф, разулась. В большой комнате, где вчера были поминки, горел свет. Неужели все еще не закончилось? Но голосов не слышно, звона вилок не слышно. Я, почему-то на цыпочках, прокралась к двери, заглянула. Неубранный стол: грязные тарелки с остатками закусок, пустые бутылки, полные пепельницы, залитая чем-то зеленовато-коричневым скатерть. Тяжелый, тошнотворный воздух. И этот ярко-желтый, отчего-то тоже тошнотворный, электрический свет. За столом, в самом центре – папа. Он не сидел, скорее полулежал – голова его опрокинулась на скатерть, в это самое, зелено-коричневое. Выпил вчера слишком много водки и уснул прямо за столом? Почему же Вероника не позаботилась, не уложила его в постель?
Мне стало очень жалко отца. Я никогда еще не видела его в таком виде, и никого никогда в таком виде не видела, только читала, что так бывает.
Я стояла, не зная, что предпринять, на что решиться. Запах просто сбивал с ног, вся эта ужасная обстановка убивала, никакой жалости к отцу я уже не испытывала, только отвращение и злость. Дойти до такого состояния на поминках, в день похорон, – не меньшее кощунство, чем устроить праздник.
Папа издал какой-то отвратительный хрипящий звук, открыл глаза, поднял голову и посмотрел на меня мутным, неузнающим взглядом. От этого взгляда мне стало так страшно, что захотелось сбежать, закрыться в своей комнате и никогда, никогда с ним больше не встречаться. И ни с кем не встречаться. А лучше всего – умереть. И представилось, что, если я сейчас же не убегу, произойдет нечто еще более страшное, чем то, что со мной уже произошло. И моя немота, и мамина смерть покажутся прелюдией к настоящему кошмару.
Но я не убежала, я почему-то осталась. А папин взгляд вдруг изменился, сделался осмысленным, но каким-то злым и враждебным.
– Это ты? А я подумал… – Он сморщился, словно от боли, словно эту боль доставило ему мое присутствие.
– Папа!
– Софья. Софья Королева. Так Катенька приучила нас тебя называть. Ее больше нет, а ты осталась. – Он опять сморщился. – Боже мой, как больно! Я знал… но не думал, что будет так больно.
Больно наедине со мною, без мамы. Больно без мамы, со мной.
– Просто невыносимо больно!
Папа прижал ладони то ли к груди, то ли к животу – и закачался, убаюкивая больную свою душу.
– Дай мне попить. Отвратительный запах, отвратительный вкус во рту. И, боже мой, как тошнит! И голова просто раскалывается. Ты не осуждай меня, Софья. Мне слишком тяжело, слишком! Водка, говорят, снимает боль, я потому… Но мою боль не сняла. Принеси мне воды, ладно? И не осуждай, не осуждай. Наверное, я тебе сейчас омерзителен, но ты все равно не осуждай, скрепись как-нибудь.
Я вышла на кухню. Здесь тоже был страшный беспорядок: грязные кастрюли и сковородки, засохший, не убранный в хлебницу батон, в раковине овощные очистки, – но воздух намного свежее. Папа просил воды, но лучше я сварю ему кофе. Крепкий ароматный кофе лучше всего отбивает неприятный запах и вкус.