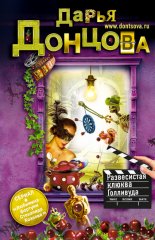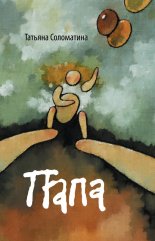Беспокойная жизнь одинокой женщины (сборник) Метлицкая Мария

Все как обычно
В три часа ночи я встала, тихо выползла из спальни, прокралась в кухню и открыла холодильник. Задумалась – и съела кусок селедки. Вот так. Представить страшно. А сделать? Еще минут сорок мучила совесть, но потом угомонилась и она – вместе со мной. Проснулась с нытьем в правом боку и в паршивом настроении. И поделом! Пиши жалобу на себя. За окном январь, полное отсутствие снега и солнца, гнусная грязь и низкое, тяжелое, серое небо, мелкий, моросящий и колючий, словно ноябрьский, дождь. С действительностью примирили чашка кофе и сигарета. Написала список дел на день. Что поделаешь, такая привычка – фиксировать. По мере исполнения – вычеркиваю. Чем больше зачеркнутых пунктов, тем больше я нравлюсь себе. Раздается звонок. Сын. Голос тревожный. Началось в деревне утро.
– Мам, у нас ягодичное предлежание!
Так, ничего хорошего. До родов четыре недели. Набираю побольше воздуха и говорю безмятежным и бодрым голосом:
– Точно как было с тобой! Ты перевернулся на тридцать девятой неделе.
Веселюсь, хотя знаю, что такое бывает ох как нечасто.
– Да? – еще сомневается сын, но голос чуть веселее.
– Конечно! – вдохновенно продолжаю я. – Обычное дело. Перевернется, куда денется.
– Ну ладно, я работаю, – обрывает он и кладет трубку. Можно подумать, это я ему позвонила и сильно отвлекла от важных дел.
Кладу трубку и лихорадочно начинаю искать Светкин телефон. Мой медицинский авторитет в семье по-прежнему непререкаем, но все же Светка – оперирующий гинеколог. Она – в разделе «ценные люди» и точно относится именно к ним.
Ее долго ищут по отделению, и наконец я слышу ее хрипловатый голос.
– У меня проблемы, – жалобно блею я.
– У тебя? – удивляется Светка. – А я думала, что они ушли под ручку с климаксом.
Острит.
– Ну, не у меня лично, а у Анечки. Анечка – это невестка, – напоминаю я.
– Помню, – резко обрывает Светка.
Я продолжаю:
– Ягодичное предлежание, срок тридцать восемь недель. Я думаю, может, еще перевернется, – с надеждой почти заигрываю я со строгой Светкой.
– Ты думаешь? – закипает Светка. – Ну да, я же забыла, что главный врач у нас ты.
Я все проглатываю. Ну не может Светка простить мне измену профессии. До третьего курса мы учились в одной группе, а потом я бросила институт и перевернула всю свою жизнь. Но, в конце концов, это Светка нам всем нужна, а не мы ей. Нас у нее – огромная туча. И все с проб-лемами. От своих проблем устаешь, а тут чужие…
– Посмотришь Анечку? – подобострастно спрашиваю я.
– А куда я денусь с подводной лодки? – тяжело вздыхает Светка. – Завтра, в восемь ноль-ноль, – с этими словами она кладет трубку.
Сурово, но я совсем не обижаюсь и с удивлением и тихой радостью обнаруживаю в себе не только нажитые с годами хронические болезни, но и приобретенные чудесные качества характера – терпимость, например.
Бедная Анечка, думаю я. Ей сейчас и так тяжело, а завтра еще вставать в шесть и ехать на другой конец Москвы. Я жалею Анечку, и мое сердце утопает в нежности. Это оттого, что я ее искренне люблю. Да-да, свою невестку Анечку. Бывает и так. Собственно, к жене сына у меня два требования – хотя что там требования, назовем это пожеланиями. Первое – чтобы она любила моего ребенка, и второе – чтобы не была клинической идиоткой. И тому, и другому Анечка соответствует с блеском. Ее способность находить компромисс меня потрясает. Моему сыну она прощает все его выпады и сглаживает острые углы. Я вижу, как она смотрит на него, держит его за руку и проверяет, надел ли он теплые носки. К тому же у нее золотая школьная медаль, красный институтский диплом, быстрый карьерный рост и внешность белокурого ангела. Какое мне дело до того, что она не варит борщ и не печет пироги?
– Какая ты у нас умница! – говорю я ей. Искренне, кстати, говорю.
– Вы ко мне так снисходительны! – вздыхает Анечка.
А меня в этот момент распирает от гордости. Боже, как я мудра! И мы обе остаемся довольны собой и друг другом.
Снова звонок. Муж.
– У меня под языком валидол, – сообщает он.
Это означает: у меня ноет сердце, настроение говенное, и ты должна немедленно среагировать на все это. Сигнал к тому, что надо начинать тревожиться, сочувствовать и вообще быть в курсе. Иначе все бессмысленно и болеть ему неинтересно. Так ему легче. А мне? Но кто же думает обо мне? И я немедленно реагирую – встревоженным голосом задаю четкие и конкретные вопросы: где болит, давно ли, характер боли (тупая, острая, давящая).
Пусть Светка не смеется – три курса мединститута что-то да значат. И в семье я действительно главный врач.
Муж на мои вопросы раздражается. Позвонил-то он не для этого. Но все же я чувствую, что ему становится легче. Так всегда, когда кто-то разделяет твою проблему, знаю по себе. Я еще что-то озабоченно советую, но он уже говорит, что я его отвлекаю. Я – его. Вот так-то. Понятно? Отбой.
Я смотрю на свой список и, вздыхая, начинаю его исполнять. Чищу картошку, отбиваю мясо, отвариваю яйца для салата, вытираю пыль, начинаю танцы с пылесосом – моя ежедневная гимнастика. Есть такие дураки, что пылесосят каждый день, – я из них. Но вообще-то у меня собака и кошка, и обе пушистые. Одновременно я включаю стиралку и посудомойку – моих верных, а главное, молчаливых помощниц. Тут я вспоминаю, что Наташка уже третий день не звонит. Хотя для нее это не срок. Наташка – это дочь. Одновременно дочь и стерва. Почему стерва? Потому что хочет – звонит, не хочет – не звонит. Мы ее мало интересуем. В общем, живет своей жизнью. Полная противоположность брату. Я с этим почти смирилась, правда, не до конца – сейчас я особенно резко это почувствовала. Понимаю, что больше не в силах выдерживать характер, теряю уважение к себе, но все же набираю номер ее мобильника. Она отвечает на шестой звонок. Я хорошо представляю дочь в эту минуту: она беззаботно крутит руль, мурлыкая под нос какую-то песенку, и косится на определитель, рассуждая при этом, стоит ли ей брать трубку, если это я. Потом я слышу ее протяжное и утомленное «аллоу-у».
– Ты – стерва, – сообщаю ей уверенно я и напоминаю: – У тебя есть мать.
Она капризно и нараспев произносит:
– У меня плохое настроение.
Это такое у нее серьезное оправдание.
– Что-то с Юрой? – пугаюсь я.
– Что с Юрой? – напрягается дочь. – С Юрой все как всегда. Мои присутственные дни в его жизни – вторник и четверг. Ничего нового.
Дело в том, что Юра женат, и даже более того – у него годовалый ребенок. Наташке он сразу объявил, что любовь любовью, а семью он не бросит никогда. Хотя… Никогда не говори «никогда». Мы-то это знаем. А он, видимо, еще нет – в силу молодого возраста. Я же говорю:
– Приличный человек. – Это я о Юре.
– А ты могла бы хоть раз подумать обо мне? – справедливо возмущается Наташка. – Я-то страдаю! Ты же моя мать, а не его теща.
В логике ей не откажешь.
– Лучше бы ты не страдала, а устроилась на нормальную работу, – начинаю я свою песню, хотя понимаю, что этот наезд не в мою пользу.
– Ты позвонила, чтобы устроить скандал? – холодно осведомляется дочь.
Она уже обиделась. Вся в своего отца. С ними непросто. А со мной? Я беру себя в руки – в конце концов, это мой ребенок, и ему сейчас плохо, правда, ее проблемы, честно говоря, кажутся мне надуманными. С Юрой давно пора расставаться. Как говорится, невеста-то просватана, да и к тому же грудной ребенок. Конечно, этот молодой человек хорош собой, умен, остроумен, щедр и много зарабатывает, но в принципе это должно радовать не нас, а его жену.
Кроме того, их путь к совместному счастью слишком тернист, да и плохо пахнет. Можно найти что-нибудь попроще. Наташке уже двадцать пять, и вообще-то пора замуж. В общем, все как обычно: сначала я обижаюсь на дочь, а потом она – на меня. Так мы и живем.
– Когда заедешь? Я соскучилась, – кидаю я спасательный круг.
– Позвоню, – бросает Наташка. Все. Отбой.
– Позвонишь ты, как же. Опять дней через пять, – ворчу я и ставлю варить овощи на винегрет. Господи, идиотская привычка – два первых, три вторых, как говорит моя мама. Утрирует, конечно. Но в целом… В сказке был раб лампы, а я точно раб кухни. Дети уже живут отдельно, а привычка кашеварить, как на Маланьину свадьбу, увы, осталась. А вдруг кто-нибудь из них заедет поужинать? Не вдруг и не заедет. У них дел по горло. И мои винегреты и борщи их не очень-то волнуют. А если и заедут, то я буду сладострастно мечтать, как все это я рассую по банкам и контейнерам им с собой. Знаю, что они сначала предложат мне «не париться», потом начнут орать и ничего с собой не возьмут. Дураки! Я бы взяла.
Опять звонок. Мама. Она снова не спала и маялась всю ночь: мысли, говорит она. Отключать не получается. Это у нас семейное. Обсуждаем с ней прочитанное за ночь. Почти на все мнения совпадают, только она более доброжелательна и наивна. Рассказываю ей про детей и мужа – естественно, в облегченном варианте, поливать собственных детей и родного мужа неохота даже с мамой. Это моя личная прерогатива, только я могу это делать в любом объеме. Остальные – ни-ни, ни бабушки, ни отцы. Подруги этого и так не делают, они у меня умные. Мама подробно выспрашивает, как у нас дела. Как будто не знает – все одно и то же. Тьфу-тьфу, слава богу! Но ей интересны подробности.
– Ты работаешь? – спрашивает она.
– Когда? – возмущаюсь я и слегка обижаюсь.
Это вообще моя любимая тема – о том, что работать мне некогда. Хотя, если признаться, эту жизнь я делаю себе сама. Наверное, для меня все же первично другое – в смысле, быть женой и матерью. Хотя все считают, что писать – это мое главное и основное занятие. Все считают, но никто не считается. Сама виновата. Пора перестать хлопать крыльями над всеми ними.
– Кончай греметь кастрюлями и садись работать, – решительно напутствует мама.
И я опять злюсь. Вообще-то повторяется схема «мать – дочь». Где-то я недавно это уже слышала!
Я вытираю пыль. Полироль пахнет лежалым бельем, а нарисован на ней ландыш. Собака ходит за мной по пятам. «Ох, надо бы ее расчесать», – мелькает у меня в голове, но опять мешает звонок. На сей раз свекровь. Так, это на полчаса. Я приземляюсь в кресло, закуриваю и, горестно вздыхая, пересчитываю окурки в пепельнице. Пятая сигарета за утро. Понимаю, что такое угрызения совести. Свекровь начинает рассказывать сон. Тщательно и с подробностями. Моя умнейшая бабушка говорила, что пересказывать сны и фильмы – удел малокультурных людей. Свекровь так не думает, но при этом считает себя почти аристократкой – откопала на старости лет невнятные, на мой взгляд, дворянские корни. Какой-то сомнительный дворянин трахнул ее бабушку-кухарку. Короче, есть чем гордиться. Теперь она завтракает сыром рокфор и пьет горячий шоколад (напиток «Нестле» из желтой баночки с зайцем). И говорит, что так завтракал ее дворянский предок. Черт его знает, может, и правда. Потом она вспоминает всех неизвестных мне лично родственников поименно. Потом жалуется на соседей – машины ставят прямо под ее окна (живет она, между прочим, на десятом этаже).
– Господи, а куда же их ставить, эти машины? – оправдываю я соседей. – Ваш сын тоже ставит машину под чьи-то окна.
Но это не работает. Окна-то не ее, а сын как раз ее. И делает он всегда и все правильно – в этом она уверена. У меня по отношению к моим детям такой уверенности нет. Внуками, кстати, она не интересуется, мною тем более. Бодро рапортую, что у нас все чудесно. Это и так, и не так. Но мне так легче, да и ей тоже. В конце разговора она хвалит какую-то мне неведомую Риточку – невестку опять же неизвестной мне Ольги Петровны, – подробно рассказывает про ее пироги, чистоту и кружевные наволочки. Риточка сама эти кружева, видимо, и плетет, что очень трогает мою свекровь. Представляю славную Риточку, склонившую милую гладкую головку над коклюшками с кружевами. Про мои заслуги и безупречную многолетнюю службу ни слова, ни-ни. Да и вообще про все остальное тоже. Ни одного доброго слова или комплимента. Ни-когда. Я стараюсь не обижаться. Иногда получается. Я об этом помню всегда (это я про комплименты и добрые слова) и с радостью говорю невестке Анечке, какая она умница, как хорошо она выглядит, и хвалю ее стряпню. Бутерброды, например. А что, действительно красиво – сыр, сардинка, ветчина, веточка петрушки. Вполне себе натюрморт. И мне это доставляет радость. Честное слово. Хотя, признаться, в душе я все же надеюсь на взаимность и хорошую Анечкину память. Видимо, для меня это важно, а для моей свекрови – нет.
Время вспомнить о себе, и я вытаскиваю из холодильника крупную и слегка подвядшую клубничину. В зеркале в ванной я долго, внимательно и критично рассматриваю себя. Н-да… Восторга никакого. Знаю только точно, что раньше было лучше. В сорок пять обманули: обещали «ягодку опять», но что-то я не заметила. Хотя… Я смотрю на подмятую с боков, потускневшую клубничину и думаю о том, что в принципе и ягоды бывают разные и что имелось в виду наверняка что-нибудь подобное. Вздыхаю и мажу клубникой лицо. Маска. Говорят, полезно. О том, сколько в этой несезонной ягоде нитратов, я стараюсь не думать. Снова звонок. Смотрю на часы. Знаю точно – это Катюша. Это ее время.
– Ну как? – лапидарно спрашивает она. Здороваться у нее нет времени, она человек конкретный.
– Никак, – отвечаю я.
– Наташка звонила? – интересуется Катюша.
– Нет, я сама ее набрала. – Знаю, что сейчас меня осудят, но врать неохота.
– Ну и дура, – беззлобно отвечает Катюша.
– Я мать, – возражаю я.
– Ты дура мать, – уточняет Катюша.
– Может быть, – соглашаюсь я. – Но второе дороже. А потом, ее не переделаешь.
Вот с этим Катюша категорически не согласна. Она пытается переделать близких: мужа, свекровь, брата. И надо сказать, у нее это блестяще получается. Странно, что она не из династии Дуровых.
– А в остальном? – интересуется Катюша.
– У Анечки ягодичное предлежание. Андрей на валидоле, мама опять не спала, а свекровь порадовала рассказом о чужой невестке, очень положительной, естественно, – конспективно отчитываюсь я.
– Ну а ты, ты работала? – нетерпеливо спрашивает Катюша.
– Угу, поработаешь тут с ними, – буркаю я.
– Сама виновата – посадила на шею, – обличает меня Катюша.
Это я и сама знаю, и что, мне от этого легче?
– Все, я бегу, – бросает Катюша.
– А у тебя-то что? – успеваю выкрикнуть я.
– Все о’кей, целую. – Отбой.
Ну хоть у кого-то о’кей, радуюсь я.
Теперь о Катюше. Она – из новых приобретений, такой вот подарок судьбы. Хотя что значит из «новых»? Лет семь прошло или даже восемь. С Катюшей мы познакомились в Турции, куда на неделю меня в одиночестве отправил муж – прийти в себя. У нас вообще-то это не принято, но, видимо, смотреть на замученную меня ему было уже невмоготу. Наташка тогда уже начала вовсю выпендриваться, Кирилла в очередной раз выгоняли из института, что-то там было еще, уже не помню. Путевка была горящей, и отель оказался полное дерьмо. Соотечественники, понятное дело, возмущались по любому поводу и громче всех. Им не нравилось даже море – они орали, что оно грязное. Я что-то этого не заметила. Мне вообще все это было по фигу. Главное, что меня никто не доставал. Я могла часами лежать в шезлонге и смотреть на море. Так я приходила в себя. Кроме меня, равнодушной к сервису и боям с администрацией оставалась еще девушка – худенькая блондинка в черном бикини, огромных черных очках и бейсболке. Когда она шла к морю, я, завидуя ее стройности, тяжело вздыхала: еще бы, молодая, не рожала, наверное. А потом, два изгоя, мы разговорились, она сняла очки, и я увидела, что она вовсе не так молода, а, скорее всего, только слегка моложе меня. А еще я узнала, что у Катюши трое детей. И богатый муж. Да и сама она – продюсер известной программы на ведущем канале. Ничего себе! Я уважаю успешных женщин, а уж теми, кто по ходу устройства карьеры не пренебрег детьми, я просто восхищаюсь. Искренне и от души.
Сначала мы посмеялись над скандальными соотечественниками, потом осудили безрассудных немок, подставляющих вислые и дряблые груди беспощадному турецкому солнцу. Потом Катюша остроумно рассказывала телевизионные сплетни и байки – спелись, короче. Ужинали мы уже вместе, с каждым часом радостно открывая друг друга, приходя к заключению, что мы абсолютно родственные души. А уж когда Катюша начала читать наизусть километрами Бродского и Цветаеву, я в нее влюбилась окончательно. Так из Турции я привезла не дубленку, а верного друга и единомышленника. Хотя, впрочем, во многом мы с Катюшей не совпали. Карьера для нее все же на первом месте. Но у нее, слава богу, сложилось все удачно – успешный и понимающий муж, бабушки, няни, роскошный дом, желтая «БМВ», за рулем которой она смотрится как хрестоматийная новорусская жена – блондинка в «Армани» и «Прадо», типичный персонаж анекдотов. И не все знают, что за плечами – трое детей, западная филология МГУ, три языка в совершенстве и кресло босса в «Останкино».
Лицо здорово стянуло – подсохла клубника. Я иду в ванную и подставляю лицо под сильную струю воды. Мне кажется, что я стала свежее и розовее. Наверное, все же только кажется. Теперь, как я понимаю, у меня есть полное человеческое право сесть за стол и разложить свои бумажки. Но мне опять мешает звонок – опять муж, на сей раз бывший. На сегодняшний день его статус – друг семьи. Так нечасто, но бывает. Он делится со мной подробностями своей личной жизни и упоительно общается с моим вторым мужем, к которому, собственно, я от него когда-то и ушла. Это странно, ведь раньше они почти ненавидели друг друга. У первого были весомые причины ненавидеть второго: еще бы, ведь я смертельно влюбилась и ушла от него. А второй банально ревновал меня к прошлой жизни. Это нормально. Они даже не могли спокойно слышать имена друг друга. Но постепенно все как-то сгладилось, и они стали передавать друг другу приветы. Дальше – больше. Милое общение по телефону. На следующем этапе в чем-то помогли друг другу – один юрист, другой бизнесмен. Первый как-то сказал, что, в общем-то, понимает меня, и еще что-то про то, какой его последователь классный мужик. И второй не задержался: «Я тебя не очень-то понимаю. Почему ты от него ушла? Он в принципе отличный парень». Что ж, им, наверное, виднее. Иногда, когда я слышу, как они воркуют по телефону – ну просто две горлицы, – мне кажется, не будь меня, они бы вообще слились в экстазе (в хорошем смысле, естественно). Я им явно мешаю. Контролирую ситуацию. Итак, бывший муж.
– У меня не клеится с Яной (Ириной, Татьяной, Жанной).
– Неудивительно, – вредничаю я. – У тебя же нет диплома о начальном педагогическом образовании.
Это я так остроумно намекаю на юный возраст его подруг.
– Всем нужно одно и то же, – нудит он, – лавэ, шуба, Сейшелы. А человеческое тепло, понимание, чашка горячего бульона, наконец?
Так, ясно, старые песни о главном.
– А приличную женщину найти не пробовал? – осведомляюсь я.
– Опыт оказался неудачным – она от меня сбежала, – бестактно напоминает он мне обо мне. – А потом, что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду нормальную зрелую женщину, лет тридцати пяти – сорока, пожившую, способную что-то оценить, – терпеливо объясняю я.
– С ума сошла? Это же уже старухи, – возмущается он.
Сволочь. Все-таки очень правильно, что я тогда от него ушла.
– Ну и мудохайся дальше. Каждый выбирает по себе, – многозначительно добавляю я.
Имея в виду, конечно, себя, прекрасную. Он ловит этот мячик и, притворно горестно вздыхая, говорит:
– Таких, как ты, больше нет. Что же мне теперь делать?
После этих слов я, естественно, смягчаюсь и начинаю давать умные советы. По крайней мере, мне кажется, что умные. Ему вроде бы тоже – он ведь вполне доволен. Бывший муж интересуется здоровьем своего преемника.
– Тебе интересно – сам позвони. Это же твой друг, – продолжаю острить я.
Потом он спрашивает, как дела у сына. Я его не гружу, знаю, что ему в принципе все равно. Главное, что сын здоров. Про Наташку он никогда ничего не спрашивает. Принципиально. То, что я ушла от него к другому мужику, с годами он смог пережить, а вот то, что я от этого мужика родила ребенка… Этого он пережить не может до сих пор. Смешно, ей-богу. Вид меня, беременной Наташкой, потряс его до основания. Помню его глаза тогда. Это странно, но факт.
Терпеливо объясняю бывшему мужу, как надо жить дальше. Кладу трубку и чувствую себя практически матерью Терезой. Потом вспоминаю, что надо заполнить квартирные счета. Наверное, все-таки со мной что-то не так. Что-то мне все время мешает. И больше всего то, что я не могу все это отодвинуть и наконец заняться своим главным делом. Или мне кажется, что это мое главное дело. Плохо то, что я в этом сомневаюсь.
Я беру чистый лист и долго смотрю в окно. Пейзаж захватывает дух. Во-первых, семнадцатый этаж, во-вторых, под окном березовая роща. Сейчас она графичная, черно-белая – зима. Но бывает разной – и изумрудно-свежей, и радостно-золотой, и ржавой, и печальной. В зависимости от времени года. За границей, наверное, за этот вид брали бы отдельные деньги. А тут – почти бесплатно. Все включено в квартплату. Пытаюсь сосредоточиться. Но очередной телефонный звонок сообщает мне: эй, спустись на землю! В покое мы тебя вряд ли оставим!
Я спускаюсь, не очень-то успев подняться. Мама. Соскучилась.
– Работаешь? – осторожно интересуется она.
– Поработаешь с вами! – рычу я.
Мама слегка обижается, но виду не подает. Ну ладно, пока я еще на земле, вспоминаю о том, что надо позвонить Анечке и успокоить ее. Анечка мне рада – ну, так, во всяком случае, мне кажется. Я что-то плету про генетику, про то, как все было у меня и как мой благоразумный сынок пожалел меня и повернулся перед родами головкой. Анечка внимательно слушает и, по-моему, веселеет. Что и требовалось доказать. Потом я спрашиваю, чего бы ей хотелось съесть, и она жалобно говорит, что хочет куриных котлет и клюквенного киселя. Желание беременной женщины – закон. Я чмокаю ее в трубку и достаю из морозилки куриное филе и клюкву. Какая же я все-таки запасливая, радуюсь я. Ну вот, пока это все подтает, я могу и… Как же! Разбежалась! Муж. На сей раз – действующий. Голос – патока. Ясно. Хочет жрать. И уже на подъезде к дому.
– Ну? – грозно спрашиваю я.
– Как дела, малыш?
Так, «малыш». Видно, жрать хочет очень.
– Плохо! – рявкаю я.
– Соскучилась? – Голос-интим. Как после третьего свидания, а не двадцати пяти лет совместной жизни. Черт возьми, а меня это по-прежнему волнует. Я уже почти не злюсь. Понимаю, что после такого стажа семейной жизни дела у нас не так уж плохи.
– Готов к принятию пищи? – со вздохом интересуюсь я.
– Уже у подъезда, – доверительно сообщает он. И дальше уже повелительным тоном: – Грей обед.
Властелин, блин! А кто тогда я? Я собираю свои сиротские листки и освобождаю стол. Естественно, обеденный. Другого у меня еще нет. Не по ранжиру, наверное. Я ставлю на стол винегрет, селедку и квашеную капусту с клюквой и антоновскими яблоками. Остаюсь вполне довольна натюрмортом. Все-таки обычные житейские вещи радуют меня не меньше творческих успехов. Наверное, жаль, что я не тщеславна. Грею борщ и наливаю холодный компот из мороженой вишни. Пока муж моет руки, мне звонит Аля. Аля – тоже из новых и приятных приобретений. Подружились мы с ней, гуляя с собаками. Наши вечерние прогулки – ритуал, приятный для нас обеих. С Алей мы обсуждаем политические новости, ругаем дурацкие сериалы (а сами их же и смотрим), возмущаемся по поводу бешеных цен, критикуем детей и мужей – так, слегка. Аля умная – не говорит ничего лишнего, только то, что я хочу услышать. Идеальный собеседник. И еще она – красавица: тонкая, изящная блондинка с зелеными глазами. Она так же грациозна и хрупка, как и ее собака – красавица афганская борзая. Говорят, что собаки похожи на своих хозяев – это точно про Алю. У меня, кстати, чау-чау. Почувствуйте разницу. А заодно и сделайте выводы. Еще мы с Алей слегка тоскуем по прошлой жизни, но это уже похоже на старческое брюзжание. Хотя… Я – за перемены. Но такие перемены мне тоже не по душе. Слишком много «но». С Алей мы быстро сворачиваемся – начинается священнодействие: кормление мужа. Мои ритуальные танцы вокруг плиты и стола. Муж ест и помалкивает. Вообще кормить его неинтересно – никакой душевной отдачи.
– Как суп? – подобострастно спрашиваю я.
– Горячий, – отвечает муж.
– А компот?
– Холодный.
Что ж, коротко и более чем ясно. Ей-богу, краткость – сестра хамства. Сколько лет я это слышу, а все равно обидно. Это у него, наверное, от его матери и дочери Наташки – воспринимать все как должное. Хотя, по большому счету, он мной очень гордится. Катюша говорит, что я сама виновата – тотально избаловала всех, вот и получи. Вот и получаю. Мне обидно – столько потрачено времени и труда. Я человек благодарный и хочу благодарности от других. Наверное, это неправильно. В итоге же все равно, если задуматься, все делаешь для себя. Ну, в смысле, что тебе так спокойнее и комфортнее. И все же простое человеческое спасибо еще никто не отменял. Я не обедаю вместе с мужем, знаю, что потом захочется спать – ночью я явно недобрала. Удивляюсь и завидую некоторым. Проснулись в шесть утра – и сразу писать. А я заснула в четыре. Если проснусь в шесть, то как минимум всех пошлю, а как максимум – поубиваю. Поэтому я и не обедаю, а варю себе крепкий кофе с корицей и кардамоном и опять замираю у окна. Ловлю мысль. Только поймала – пришлось отпустить, потому что позвонила Юлька, а это важнее работы. Юлька – это подруга, почти сестра. Мы вплетены друг в друга, как стебли вьюна. Если бы в быту уже существовала видеосвязь, то мы могли бы не общаться вербально, а просто смотреть друг другу в глаза. Как марсиане в старых советских фильмах. Но видеосвязи пока у нас нет, и мы с упоением говорим на родном языке. Можем час, а можем и два. Три, правда, не пробовали. Хотя, нет, наверное, бывало и три – в пору моего сумасшедшего романа с будущим вторым мужем. Тогда я мучила не только себя, но и Юльку вполне основательно. Мало не покажется. Но Юлька выдержала и это испытание. Как все и всегда – с честью. Ни разу меня не послав. Тогда она забросила и сына, и мужа, не говоря уже про кастрюли. Часами слушала мои рыдания, абсолютно наплевав на свою семейную жизнь. Слава богу, они не развелись и даже, утверждает Юлька, как тогда, у них с мужем не было давно – я простимулировала их скучную семейную интимную жизнь.
С Юлькой нам никогда не бывает скучно. Она жутко воспитанная и все время спрашивает, не мешает ли творческому процессу. Конечно же, нет, тем более что этот процесс еще и не начинался. Юлька знает обо мне все, и даже больше, чем все. Мы жалуемся друг другу на плохую погоду и, как следствие, на самочувствие (при этом смолим, не переставая), перечисляем претензии к мужьям и детям, смеемся над перлами свекровей (хотя и сами уже свекрови, и, наверное, неидеальные), вспоминаем себя молодых и здоровых и высказываем свое неудовольствие по поводу себя нынешних. В итоге мы приходим к выводу, что мы еще вполне молодухи и красавицы, обещаем друг другу не жрать по ночам и меньше курить, хотя вряд ли это выполним. Но на душе становится легче.
С Юлькой мы дружим с шестого класса – с тех пор, как я перешла в новую школу. Сначала она мне показалась очень надменной и высокомерной, и еще меня возмутили ее черные, как смоль, густо накрашенные ресницы. Впоследствии оказалось, что ресницы натуральные, просто сказочно густые и черные от природы, а Юлька не воображала, а сдержанная и одинокая. Дружить мы начали сразу и взапой – гуляли вечерами вокруг школы, поедая из картонной коробки мороженые болгарские персики. Влюблялись, прогуливали школу, обе одинаково ни черта не соображали в точных науках и вместе обожали литературу и английский. Далее росли, взрослели, закалялись в жизненной борьбе, выходили замуж, рожали детей, разводились и влюблялись опять. Хоронили близких. И всегда оставались родными людьми, даже когда стали совсем редко видеться.
Юлька уехала жить на природу. Там завела трех собак, развела сказочный цветник и стала писать дивные прозрачные акварели. Наша дружба с годами стала только прочнее, и знаю точно – ей уже ничто не грозит. Да, еще у Юльки есть удивительная и редкая способность абсолютно искренне радоваться чужим удаче и успеху. Не все так умеют. Сочувствовать проще: во-первых, когда сочувствуешь, ощущаешь себя благородным человеком, а во-вторых, собственные печали и заботы как-то меркнут и отступают. Становится легче.
Все, свернулись и с Юлькой. Совесть уже не мучит, а просто грызет. И еще ужасно хочется спать. Зеваю. Собрать мысли как-то сложновато. Нет, все-таки по первому своему призванию я точно домохозяйка. С этими утешительными мыслями брякаюсь на диван. Стыдно, но очень сладко. Закрываю глаза.
Полчаса, успокаиваю я свою совесть. Всего полчаса. Все равно после двенадцати, когда наконец все угомонятся и оставят меня в покое, начну колобродить. А сколько я успею сделать! Часов до трех-четырех утра. Это – мое время. Время, когда на другом конце Москвы уснет мой встревоженный и ответственный сын, обняв любимую беременную жену, заснет и моя неблагодарная красавица дочь на широкой груди любимого (дай бог!) мужчины, а завтра, может быть, все-таки вспомнит обо мне. Часам к двум успокоится мама, обязательно приняв снотворное, повздыхав о каждом из нас. За стеной будет мирно похрапывать самый любимый и единственный муж на свете. И я сяду и, наверное, что-нибудь напишу. И кто-то прочтет это когда-нибудь. И если не с удовольствием и интересом, то хотя бы – надеюсь – без отвращения. И ночью мне опять захочется съесть горбушку черного хлеба с куском колбасы. И дай бог, чтобы захотелось! И я опять засну, когда будет светать. И сон мой будет беспокойный и тревожный – ну, это уж как водится, потому, что я буду думать о своих близких, которых я так люблю. И дай бог, чтобы они, все вышеперечисленные, мне опять позвонили завтра, даже если расстроят меня. И пусть жалуются на жизнь и здоровье. И просят что-нибудь сварить или спечь. Это будет означать только одно: я им нужна и они меня любят. И еще то, что я жива и жизнь продолжается. Такая сложная, извилистая, жесткая, но все же восхитительная жизнь. И я в который раз пойму, что в моей жизни первично. И это не расстроит меня, а, скорее всего, обрадует. В общем, все как обычно.
Мои университеты
Моя первая свекровь, Регина Борисовна, была из актрис. Точнее – из бывших актрис. Еще точнее – из бывших актрис Театра оперетты. Тяжелый, густой и страшный замес кровей: польской, литовской и грузинской – давал о себе знать, играя затейливыми гранями. Безусловная красавица – тогда ей было лет пятьдесят, и мне она казалась красавицей бывшей, – к быту она относилась пренебрежительно. Женщины, варящие борщ, вызывали у нее презрение, брезгливость и жалость. В ней замечательно уживался грузинский темперамент, литовское спокойствие и польская расчетливость – в зависимости от ситуации.
Была Регина Борисовна высока, стройна, кареглаза и темноволоса. Естественно, мужчин в ее жизни имелось множество, и все они отличались внушительностью и значительностью – и внешне, и по положению. В общем, под стать ей самой. Все были небедны и оставляли после себя неплохую память. Свекровь с удовольствием демонстрировала знаки любви и внимания, преподнесенные ими в период их отношений.
Ее единственный сын Герман стал моим первым мужем. К сыну Регина Борисовна относилась с легким пренебрежением – уж точно не материнство она считала главным увлечением своей жизни.
Сын Герман тоже был красавец. И бездельник. И непризнанный гений – так считал он, но еще сильнее уверена в этом была я. И верила, свято верила в его счастливую звезду. Был он художником. Работать не любил, хотя, наверное, талант у него имелся. Зато любил пить, гулять и веселиться – словом, тусоваться.
Поженились мы странно и скоропалительно. Оба сильно удивились полному взаимопониманию и совпадению в интимной сфере – в молодости казалось, что это важнее всего. И верили, что на этом можно построить брак. Но что мы понимали тогда? Два двадцатилетних избалованных ребенка, которым никто не объяснил, что такое семейная жизнь. Да и стали бы мы кого-нибудь слушать тогда? Вряд ли. Влюбленные до обморока и измученные бессонными ночами, мы неумело начали строить свою семью. Вернее, это начала делать я одна. Гера в этом участия не принимал. Собственно, его жизнь фактически не изменилась. Он остался в собственной квартире, так же вставал в двенадцать дня, долго пил кофе, курил, вяло перебрехивался с мамашей и уходил в свою жизнь. Или снова ложился спать. Собственно, вариантов было два.
Я пыталась как-то прибраться, что-то приготовить и бежала в институт. Через некоторое время обнаружила, что беременна. Регина Борисовна уговаривала меня сделать аборт. Она не была злодейкой, нет, она в этом была абсолютно искренна.
– Господи! – заводила она очи к небу. – Какие дети! Вам самим еще надо жопы вытирать! С ума сошли! Один – бездельник, другая – студентка. Чистой воды безумие! – Она выпускала тонкую струю дыма, а я бежала в туалет. Блевать.
Когда родилась дочка, Герман удивился. Потом он продолжал удивляться дальше. С удвоенной силой. Дочка просила есть, с ней надо было гулять, мыть ей попу и купать ее в ванночке с чередой, в воде определенной температуры, а еще – кипятить бутылочки, бегать на молочную кухню и стирать пеленки. Он стоял над ее кроваткой, и на его лице читалось выражение священного ужаса. Конечно, мы начали ругаться. Это теперь я понимаю, что было смешно требовать от такого человека ответственности. В двадцать лет. Правда, сейчас ему пятьдесят, и он остался таким же, как в юности. Трудности его пугают, проблемы выводят из себя, заботы настораживают.
Но тогда я, замученная, тощая и бледная, пыталась приобщить его к процессу. Свекровь пожалела меня (или нас?) – отнесла в антикварный браслет и наняла няню. Мне стало чуть легче, но на отношения с мужем это благотворно не повлияло. Бурная интимная жизнь, так привлекавшая нас, отпала сама собой, как болячка, – была и нет. Без следа. А больше ничего, как оказалось, нас не связывало. Не считая дочки. Герман пропадал где-то с утра до поздней ночи. Няня помогала с ребенком, а свекровь учила меня жить.
– Посмотри на себя. – Регина Борисовна брала меня за плечо и подводила к старинному мутноватому зеркалу в тяжелой золоченой раме. – Даже такой дурак, как Герман, от тебя сбежал.
Видимо, она была права. Я была похожа на призрак замка Морисвиль. Бледная, зачуханная, с хвостом на затылке, в старом, выцветшем халате. Зрелище не для слабонервных. Рядом со мной в зеркале отражалась прекрасная стройная дама с прической, макияжем и маникюром. В фиолетовом пеньюаре и с кольцами на пальцах. Несмотря на мой юный возраст, счет был явно не в мою пользу.
– Что вы хотите? – возмущалась я. – У меня грудной ребенок, сессия, уборка, обед, магазины!
– Наплевать, – отрезала свекровь, – пока ты не полюбишь себя, тебя не полюбит никто. Бог с ним, с Геркой. Он тебе не нужен. Но ты должна сделать себя и свою жизнь.
Свекровь вызвала на дом свою маникюршу, отвела меня на Калининский в «Чародейку», у своей подружки – спекулянтки Марго – купила мне французское платье-чехол, лодочки на шпильке, белый плащ и красные лаковые сапоги. Дома она вытащила из шкафа шелковый халат лимонного цвета. Мои старые клетчатые тапки, ковбойки и джинсы полетели в помойку. Свекровь предложила мне быть красавицей, только получалось у меня плоховато. Дочка срыгивала на шелковый халат, белый плащ в автобусе автоматически превращался в серый за два дня, лаковые сапоги не выдерживали глубину луж у метро и мгновенно промокали, а маникюр испарился на второй день – я стирала ползунки и пеленки. Но все-таки я старалась. И даже если у меня все пока получалось неважно, выводы сделать ума хватало.
Дочку Марину свекровь полюбила – ну, так, как умела. Называла она ее Маритой. Так к ней и приклеилось – она и до сегодняшнего дня для всех близких и друзей Марита. Нянчить внучку Регина Борисовна не помогала, да я и не обижалась. Свекровь объясняла, что младенцы ей непонятны и неинтересны. А вот подрастет – она ее всему научит!
«Всему, пожалуй, не стоит», – возражала я про себя.
Поучала, кстати, она ее со страстью. Моя дочь оказалась способнее меня – бабкины гены.
От Германа я ушла, когда дочке было три года. Думаю, он это даже не очень-то и заметил. Хотя, нет, наверное, в квартире все же стало тише. Он продолжал жить своей веселой жизнью. Мы с ним остались друзьями. Женился он, по-моему, еще раз пять. Последний раз вполне удачно – на француженке, старше его лет на пятнадцать. Она и вывезла его во Францию и даже продала какие-то его работы. Моя дочь съездила к отцу в Париж, он подарил ей свою картину, мы посмеялись и повесили картину на даче. Его жена Сесиль отдала Марите свою старую сумку от «Гермес» – в ней мы хранили документы и бумаги. Также Марите перепала старая норковая шуба, доставшаяся Сесиль от богемной матушки. Шуба эта повидала на свете многое, местами она была вытерта до кожи, да и та кожа была отполирована временем до блеска. Словом, раритет и антиквариат – единственный в нашем с Маритой доме. Из спинки многострадального манто мы вырезали наиболее сохранный кусок, и из него получился чудный коврик для нашего кота Бенвенутто.
Свекровь дожила до глубокой старости.
Марите ничего не досталось из сокровищ Регины Борисовны – та все с блеском проела: до конца жизни держала домработницу, принимала косметичку, парикмахера и маникюршу. К утреннему кофе любила рокфор, к обеду – парную телятину, а к ужину – парочку эклеров из кулинарии ресторана «Прага». Перед смертью она надела на Мариту свой крестильный серебряный крестик – сказала, что это будет ее оберег. Марита крестиком очень дорожит и считает его фамильной реликвией.
Квартиру на Малой Бронной – три комнаты, окно-фонарь, ванная с окном – Регина завещала своему непутевому сыну, чем очень поправила его материальное положение и украсила жизнь.
Марита выросла отъявленной сибариткой, но ей это не мешает. От ее папаши и его придурочной французской жены тоже оказался толк: у них в гостях Марита познакомилась с французским графом, правда, изрядно обедневшим. Они поженились и поселились в предместье Парижа в собственном замке. Замок, правда, одно название – крыша течет, трубы лопаются, котлы взрываются, но это не мешает им ощущать себя небожителями и получать удовольствие от жизни. Я у них пару раз гостила – в комнатах пахнет затхлостью, белье ветхое и влажное, семейное серебро тусклое и разрозненное, прислуга неопрятная, парк заброшенный (садовника содержать слишком дорого). Но у Мариты вечерние платья, остатки семейных украшений и выезды в общество (средней руки богема – захудалые актеры и неудавшиеся художники). В общем, жизнью она вполне довольна. «Вот бы Регина Борисовна за нее порадовалась», – часто думаю я, глядя на Мариту. На свою бабку она здорово похожа.
Но и для меня уроки Регины Борисовны не прошли бесследно. Немного придя в себя и встав на ноги, я все-таки постаралась научиться хотя бы немного себя любить. Получалось это неважно, но парикмахер, маникюрша и массажистка стали в моем доме своими людьми. Утром я не забывала накрасить губы и надеть шелковый халат. Словом, этот опыт тоже не совсем прошел мимо. Я убедилась, что на ухоженную женщину приятнее смотреть и мужу, и ребенку, не говоря уже о коллегах. Словом, низкий Регине Борисовне поклон и добрая память.
Моя вторая свекровь была женщиной с карьерой. В партию она вступила в двадцать пять лет, будучи обычным участковым врачом в районной поликлинике. Строгая, ответственная и исполнительная, она стала быстро подниматься по служебной лестнице. Зав отделением, зав главного врача и, наконец, чиновник в министерстве. Муж, пьющий, никчемный и мелкий неудачник, от нее сбежал, и сына она растила одна. Каждый вечер проверяла дневник, просматривала портфель. С десяти лет он убирал квартиру, стирал свои носки и трусы и чистил картошку к ужину. Школу окончил с золотой медалью и поступил в университет. Мать он уважал, по-моему, побаивался и уж точно с ней считался. Женщина она была сухая, даже холодная, немногословная, но дочку мою приняла хорошо. Правда, попросила называть ее не бабушкой, а по имени-отчеству – Надеждой Васильевной.
На субботу и воскресенье она вручала нам список дел – прачечная, магазин, рынок, музей с дочкой, зоопарк. Вечером требовала отчета о проделанной работе. Мы хихикали и врали ей понемножку. Она в чем-то была наивна и наших хитростей не замечала. В наши отношения с мужем, правда, не лезла никогда.
Была Надежда Васильевна совсем некрасива, не пользовалась косметикой, регулярно делала химическую завивку и носила очки в тяжелой оправе. Нарядов у нее было немного: три деловых костюма – черный и синий на зиму, песочный на лето – и несколько блузок под эти самые костюмы. Обувь предпочитала удобную, темную, на низком, устойчивом каблуке. В сорок пять сшила себе в закрытом ателье каракулевую черную шубу. Говорила, шуба эта такая тяжелая, что ей кажется, будто она несет на спине раненого бойца. Ходила она в этой шубе лет двадцать, хотя зарабатывала вполне прилично и могла себе позволить что-то полегче и поэлегантнее. В еде была неприхотлива – картошка, селедка. Любимые писатели – Салтыков-Щедрин и Островский. Однажды я увидела, что она плачет над индийским фильмом. Это меня потрясло.