Сталин. Большая книга о нем Сборник
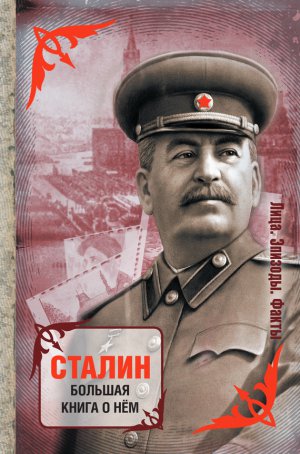
В конце концов протоколы ничем существенным не отличаются от статей в «Правде», а только дополняют их. Не осталось вообще от тех дней ни одного заявления, предложения, протеста, в которых Сталин сколько-нибудь членораздельно противопоставил бы большевистскую точку зрения политике мелкобуржуазной демократии. Один из бытописателей того периода, левый меньшевик Суханов, автор упомянутого выше манифеста «К трудящимся всего мира», говорит в своих незаменимых «Записках о революции»: «У большевиков в это время, кроме Каменева, появился в Исполнительном комитете Сталин… За время своей скромной деятельности… он производил – не на одного меня – впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать». За этот отзыв, который нельзя не признать односторонним, Суханов поплатился впоследствии жизнью».
Наступает апрель, события начинают развиваться стремительней: «3 апреля, пересекши неприятельскую Германию, прибыли в Петроград через финляндскую границу Ленин, Крупская, Зиновьев и другие… Группа большевиков во главе с Каменевым выехала встречать Ленина в Финляндию. Сталина в их числе не было, и этот маленький факт лучше всего другого показывает, что между ним и Лениным не было ничего, похожего на личную близость. «Едва войдя и усевшись на диван, – рассказывает Раскольников, офицер флота, впоследствии советский дипломат, – Владимир Ильич тотчас же накидывается на Каменева: что у вас пишется в «Правде»? Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали…» За годы совместной работы за границей Каменев достаточно привык к таким холодным душам, и они не мешали ему не просто любить Ленина, а обожать его всего целиком, его страстность, его глубину, его простоту, его прибаутки, которым Каменев смеялся заранее, и его почерк, которому он невольно подражал. Много лет спустя кто-то вспомнил, что Ленин в пути справился о Сталине. Этот естественный вопрос (Ленин, несомненно, справлялся о всех членах старого большевистского штаба) послужил впоследствии завязкой советского фильма.
По поводу первого выступления Ленина перед собранием большевиков внимательный и добросовестный летописец революции писал: «Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного». Дело шло не об ораторских громах, на которые Ленин был скуп, а обо всем направлении мысли. «Не надо нам парламентарной республики, не надо нам буржуазной демократии, не надо нам никакого правительства, кроме Советов рабочих, солдатских и батрацких депутатов!» В коалиции социалистов с либеральной буржуазией, т. е. в тогдашнем «народном фронте», Ленин не видел ничего, кроме измены народу. Он свирепо издевался над ходким словечком «революционная демократия», включавшим одновременно рабочих и мелкую буржуазию: народников, меньшевиков и большевиков. В соглашательских партиях, господствовавших в Советах, он видел не союзников, а непримиримых противников. «Одного этого, – замечает Суханов, – в те времена было достаточно, чтобы у слушателя закружилась голова!»
Партия оказалась застигнута Лениным врасплох не менее, чем Февральским переворотом. Критерии, лозунги, обороты речи, успевшие сложиться за пять недель революции, летели прахом. «Он решительным образом напал на тактику, которую проводили руководящие партийные группы и отдельные товарищи до его приезда», – пишет Раскольников; речь идет в первую голову о Сталине и Каменеве. Здесь были представлены наиболее ответственные работники партии. Но и для них речь Ильича явилась настоящим открытием. Она проложила рубикон между тактикой вчерашнего и сегодняшнего дня». Прений не было. Все были слишком ошеломлены. Никому не хотелось подставлять себя под удары этого неистового вождя. Промеж себя, в углах, шушукались, что Ильич засиделся за границей, оторвался от России, не знает обстановки, хуже того, что он перешел на позиции троцкизма. Сталин, вчерашний докладчик на партийной конференции, молчал. Он понял, что страшно промахнулся, гораздо серьезнее, чем некогда на Стокгольмском съезде, когда защищал раздел земли, или годом позже, когда не вовремя оказался бойкотистом. Нет, лучше всего отойти сейчас в тень. Никто не спрашивал себя, что думает по этому поводу Сталин. Никто в мемуарах не вспоминает о его поведении в ближайшие недели.
Тем временем Ленин не сидел без дела: он зорко всматривался в обстановку, допрашивал с пристрастием друзей, прощупывал пульс рабочих. Уже на другой день он представил партии краткое резюме своих взглядов, которое стало важнейшим документом революции под именем «Тезисов 4 апреля». Ленин не боялся «отпугнуть» не только либералов, но и членов ЦК большевиков. Он не играл в прятки с претенциозными вождями советских партий, а вскрывал логику движения классов. Отшвырнув трусливо-бессильную формулу «постольку-поскольку», он поставил перед партией задачу: завоевать власть.
Прежде всего надо, однако, определить действительного врага. Черносотенные монархисты, попрятавшиеся по щелям, не имеют никакого значения. Штабом буржуазной контрреволюции является ЦК кадетской партии и вдохновляемое им Временное правительство. Но оно существует по доверенности эсеров и меньшевиков, которые, в свою очередь, держатся доверчивостью народных масс. При этих условиях не может быть и речи о применении революционного насилия. Нужно завоевать предварительно массы. Не объединяться и не брататься с народниками и меньшевиками, а разоблачать их перед рабочими, солдатами и крестьянами как агентов буржуазии. «Настоящее правительство – Совет Рабочих Депутатов… В Совете наша партия – в меньшинстве… Ничего не поделаешь! Нам остается лишь разъяснять терпеливо, настойчиво, систематически ошибочность их тактики. Пока мы в меньшинстве – мы ведем работу критики, дабы избавить массы от обмана». Все было просто и надежно в этой программе, и каждый гвоздь вколочен крепко. Под тезисами стояла одна-единственная подпись: Ленин. Ни ЦК, ни редакция «Правды» не присоединились к этому взрывчатому документу.
В тот же день, 4-го апреля, Ленин появился на том самом партийном совещании, на котором Сталин излагал теорию мирного разделения труда между Временным правительством и Советами. Контраст был слишком жесток. Чтоб смягчить его, Ленин, вопреки своему обыкновению, не подверг анализу уже принятые резолюции, а просто повернулся к ним спиною. Он приподнял конференцию на более высокий уровень и заставил ее увидеть новые перспективы, о которых временные вожди вовсе не догадывались. «Почему не взяли власть?» – спрашивал новый докладчик и перечислял ходячие объяснения: революция-де буржуазная, она проходит только через первый этап, война создает особые трудности и пр. «Это вздор. Дело в том, что пролетариат недостаточно сознателен и недостаточно организован. Это надо признать. Материальная сила в руках пролетариата, а буржуазия оказалась сознательной и подготовленной». Из сферы мнимого объективизма, куда пытались укрыться от задач революции Сталин, Каменев и другие, Ленин перенес вопрос в сферу сознания и действия. Пролетариат не взял власти в феврале не потому, что это запрещено социологией, а потому, что он дал соглашателям обмануть себя в интересах буржуазии. Только и всего! «Даже наши большевики, – продолжал он, не называя пока никого по имени, – обнаруживают доверчивость к правительству. Объяснить это можно только угаром революции. Это гибель социализма… Если так, нам не по пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве». Сталин и Каменев без труда узнали себя. Все совещание понимало, о ком идет речь. Делегаты не сомневались, что, угрожая разрывом, Ленин не шутит. Как все это было далеко от «постольку-поскольку» и вообще от доморощенной политики предшествующих дней!
Не менее решительно оказалась передвинута ось вопроса о войне. Николай Романов низвергнут. Временное правительство наполовину обещало республику. Но разве это изменило природу войны? Во Франции республика существует давно, притом не в первый раз, тем не менее война с ее стороны остается империалистической. Природа войны определяется природой господствующего класса. «Когда массы заявляют, что не хотят завоеваний, я им верю. Когда Гучков и Львов говорят, что не хотят завоеваний, – они обманщики». Этот простой критерий глубоко научен и в то же время доступен каждому солдату в окопах. Тут Ленин наносит открытый удар, называя по имени «Правду». «Требовать от правительства капиталистов, чтоб оно отказалось от аннексий, – чепуха, вопиющая издевка». Эти слова прямиком бьют по Сталину. «Кончить войну не насильническим миром нельзя без свержения капитала». Между тем соглашатели поддерживают капитал, «Правда» поддерживает соглашателей. «Воззвание Совета – там нет ни слова, проникнутого классовым сознанием. Там – сплошная фраза». Речь идет о том самом манифесте, который приветствовался Сталиным как голос интернационализма. Пацифистские фразы при сохранении старых союзов, старых договоров, старых целей – только средство обмана масс. «Что своеобразно в России, это – гигантский быстрый переход от дикого насилия к самому тонкому обману».
Три дня тому назад Сталин заявлял о своей готовности объединиться с партией Церетели. «Я слышу, – говорил Ленин, – что в России идет объединительная тенденция; объединение с оборонцами – это предательство социализма. Я думаю, что лучше остаться одному, как Либкнехт. Один против 110! Недопустимо даже носить дольше общее с меньшевиками имя социал-демократии. Лично от себя предлагаю переменить название партии, назваться Коммунистической партией». Ни один из участников совещания, даже приехавший с Лениным Зиновьев, не поддержал этого предложения, которое казалось святотатственным разрывом с собственным прошлым.
«Правда», которую продолжали редактировать Каменев и Сталин, заявила, что тезисы Ленина – его личное мнение, что бюро ЦК их не разделяет и что сама «Правда» остается на старых позициях. Заявление писал Каменев. Сталин поддержал его молча. Отныне ему придется молчать долго. Идеи Ленина кажутся ему эмигрантской фантастикой. Но он выжидает, как будет реагировать партийный аппарат. «Надо открыто признать, – писал впоследствии большевик Ангарский, проделавший ту же эволюцию, что и другие, – что огромное число старых большевиков… по вопросу о характере революции 1917 года придерживалось старых большевистских взглядов 1905 г. и что отказ от этих взглядов, их изживание совершалось не так легко». Дело шло, на самом деле, не об «огромном числе старых большевиков», а обо всех без исключения.
На мартовском совещании, где собрались кадры партии со всей страны, не раздалось ни одного голоса в пользу борьбы за власть Советов. Всем пришлось перевооружаться. Из шестнадцати членов Петроградского Комитета лишь двое присоединились к тезисам и то не сразу. «Многие из товарищей указывали, – вспоминает Цихон, – что Ленин оторвался от России, не учитывает данного момента и т. д.» Провинциальный большевик Лебедев рассказывает, как осуждалась первоначально большевиками агитация Ленина, «казавшаяся утопической, объяснявшаяся его долгой оторванностью от русской жизни». Одним из вдохновителей таких суждений был, несомненно, Сталин, всегда третировавший «заграницу» свысока. Через несколько лет Раскольников вспоминал: «Приезд Владимира Ильича положил резкий Рубикон в тактике нашей партии. Нужно признать, что до его приезда в партии была довольна большая сумятица… Задача овладения государственной властью рисовалась в форме отдаленного идеала… Считалась достаточной поддержка Временного правительства… с теми или иными оговорками. Партия не имела авторитетного лидера, который мог бы спаять ее воедино и повести за собой». В 1922 году Раскольникову не могло прийти в голову видеть «авторитетного лидера» в Сталине.
«Наши руководители, – пишет уральский рабочий Марков, которого революция застала за токарным станком, – до приезда Владимира Ильича шли ощупью… позиция нашей партии стала проясняться с появлением его знаменитых тезисов». «Вспомните, какая встреча была оказана апрельским тезисам Владимира Ильича, – говорил вскоре после смерти Ленина Бухарин, – когда часть нашей собственной партии увидела в этом чуть ли ни измену обычной марксистской идеологии». «Часть нашей собственной партии» – это был весь ее руководящий слой без единого исключения. «С приездом Ленина в Россию 1917 года, – писал в 1924 году Молотов, – наша партия почувствовала под ногами твердую почву. До этого момента партия только слабо и неуверенно нащупывала свой путь. У партии не было достаточно ясности и решительности, которой требовал революционный момент».
Раньше других, точнее и ярче определила происшедшую перемену Людмила Сталь: «Все товарищи до приезда Ленина бродили в темноте, – говорила она 14 апреля 1917 года, в самый острый момент партийного кризиса. – Видя самостоятельное творчество народа, мы не могли его учесть… Наши товарищи смогли только ограничиться подготовкой к Учредительному собранию парламентским способом и совершенно не учли возможности идти дальше. Приняв лозунги Ленина, мы сделаем то, что нам подсказывает сама жизнь».
Троцкий продолжает: «Лично для Сталина апрельское перевооружение партии имело крайне унизительный характер. Из Сибири он приехал с авторитетом старого большевика, со званием члена ЦК, с поддержкой Каменева и Муранова. Он тоже начал со своего рода «перевооружения», отвергнув политику местных руководителей как слишком радикальную и связав себя рядом статей в «Правде», докладом на совещании, резолюцией Красноярского Совета. В самый разгар этой работы, которая по характеру своему была работой вождя, появился Ленин. Он вошел на совещание, точно инспектор в классную комнату, и, схватив на лету несколько фраз, повернулся спиной к учителю и мокрой губкой стер с доски все его беспомощные каракули. У делегатов чувства изумления и протеста растворялись в чувстве восхищения.
У Сталина восхищения не было. Были острая обида, сознание бессилия и желтая зависть. Он был посрамлен перед лицом всей партии неизмеримо более тяжко, чем на тесном Краковском совещании после его злополучного руководства «Правдой». Бороться было бы бесцельно: ведь он тоже увидел новые горизонты, о которых не догадывался вчера. Оставалось стиснуть зубы и замолчать. Воспоминание о перевороте, произведенном Лениным в апреле 1917 г., навсегда вошло в сознание Сталина острой занозой. Он овладел протоколами мартовского совещания и попытался скрыть их от партии и от истории. Но это еще не решало дела. В библиотеках оставались комплекты «Правды» за 1917 г. Она была вскоре даже переиздана сборником: статьи Сталина говорили сами за себя. Многочисленные воспоминания об апрельском кризисе заполняли в первые годы исторические журналы и юбилейные номера газет. Все это нужно было изымать постепенно из обращения, заменять, подменять. Самое слово «перевооружение» партии, употребленное мною мимоходом в 1922 г., стало впоследствии предметом все более ожесточенных атак со стороны Сталина и его историков.
Правда, в 1924 г. сам Сталин считал еще благоразумным признать, со всей необходимой мягкостью по отношению к самому себе, ошибочность своей позиции в начале революции. «Партия, – писал он, – приняла политику давления Советов на Временное правительство в вопросе о мире и не решилась сразу сделать шаг вперед… к новому лозунгу о власти Советов… Это была глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное воспитание масс. Эту ошибочную позицию я разделял тогда еще с другими товарищами по партии и отказался от нее полностью лишь в середине апреля, присоединившись к тезисам Ленина».
Это публичное признание, необходимое для прикрытия собственного тыла в начинавшейся тогда борьбе против троцкизма, уже через два года стало стеснительным. Сталин категорически отрицал в 1926 г. оппортунистический характер своей политики в марте 1917 г.: «Это неверно, товарищи, это сплетня», – и допускал лишь, что у него были «некоторые колебания… Но у кого из нас не бывали мимолетные колебания?»
Еще через четыре года Ярославский, упомянувший в качестве историка о том, что Сталин в начале революции занимал «ошибочную позицию», подвергся свирепой травле со всех сторон. Теперь нельзя уже было заикаться и о «мимолетных колебаниях». Идол престижа – прожорливое чудовище! Наконец, в изданной им самим «Истории партии» Сталин приписывает себе позицию Ленина, а свои собственные взгляды делает уделом своих врагов. «Каменев и некоторые работники Московской организации, например, Рыков, Бубнов, Ногин, – гласит эта необыкновенная «История», – стояли на полуменьшевистской позиции условной поддержки Временного правительства и политики оборонцев. Сталин, который только что вернулся из ссылки, Молотов и другие вместе с большинством партии отстаивали политику недоверия Временному правительству, выступали против оборончества» и пр. Так, путем последовательных сдвигов от факта к вымыслу черное было превращено в белое. Этот метод, который Каменев называл «дозированьем лжи», проходит через всю биографию Сталина, чтоб найти свое высшее выражение, и вместе с тем свое крушение, в Московских процессах.
Анализируя концепции обеих фракций социал-демократии в 1909 г., автор этой книги писал: «Антиреволюционные стороны меньшевизма сказываются во всей силе уже теперь; антиреволюционные черты большевизма грозят огромной опасностью только в случае революционной победы». В марте 1917 г., после низвержения царизма, старые кадры партии довели эти антиреволюционные черты большевизма до их крайнего выражения: самый водораздел между большевизмом и меньшевизмом казался утерян. Понадобилось радикальное перевооружение партии, которое Ленин – только ему была по плечу эта задача – произвел в течение апреля.
Сталин, видимо, ни разу не выступил публично против Ленина, но и ни разу за него. Он бесшумно отодвинулся от Каменева, как десять лет тому назад он отошел от бойкотистов, как на Краковском совещании молчаливо предоставил примиренцев их собственной участи. Не в его нравах было защищать идею, если она не сулила непосредственно успеха. С 14 по 22 апреля заседала конференция Петроградской организации. Влияние Ленина на ней было уже преобладающим, но прения имели еще моментами острый характер. Среди участников встречаем имена Зиновьева, Каменева, Томского, Молотова и других известных большевиков. Сталин не появлялся вовсе. Он, видимо, хотел, чтоб о нем на время забыли.
24 апреля собралась в Петрограде Всероссийская конференция, которая должна была окончательно ликвидировать наследство мартовского совещания. Около полутораста делегатов представляли 79 тысяч членов партии; из них 15 000 приходилось на столицу. Для антипатриотической партии, вчера лишь вышедшей из подполья, это было совсем неплохо. Победа Ленина стала ясна уже при выборе пятичленного президиума, в состав которого не были включены ни Каменев, ни Сталин, ответственные за оппортунистическую политику в марте. Каменев нашел в себе достаточно мужества, чтобы потребовать для себя на конференции содоклада. «Признавая, что формально и фактически классический остаток феодализма, помещичье землевладение, еще не ликвидирован… рано говорить, что буржуазная демократия исчерпала все свои возможности». Такова была основная мысль Каменева и его единомышленников: Рыкова, Ногина, Дзержинского, Ангарского и других. «Толчок к социальной революции, – говорил Рыков, – должен быть дан с Запада». Демократическая революция не закончилась, настаивали вслед за Каменевым ораторы оппозиции. Это было верно. Но ведь миссия Временного правительства состояла не в том, чтобы закончить ее, а в том, чтобы отбросить ее назад. Именно отсюда и вытекало, что довершить демократическую революцию возможно лишь при господстве рабочего класса. Прения носили оживленный, но мирный характер, так как вопрос был по существу предрешен, и Ленин делал все возможное, чтоб облегчить противникам отступление.
Сталин выступил в этих прениях с короткой репликой против своего вчерашнего союзника. «Если мы не призываем к немедленному низвержению Временного правительства, – говорил в своем содокладе Каменев, – то мы должны требовать контроля над ним, иначе массы нас не поймут». Ленин возражал, что «контроль» пролетариата над буржуазным правительством, особенно в условиях революции, либо имеет фиктивный характер, либо сводится к сотрудничеству с ним. Сталин счел своевременным показать свое несогласие с Каменевым. Чтоб дать подобие объяснения перемены собственной позиции, он воспользовался изданной 19 апреля министром иностранных дел Милюковым нотой, которая своей излишней империалистской откровенностью толкнула солдат на улицу и породила правительственный кризис. Ленинская концепция революции исходила не из отдельной дипломатической ноты, мало отличавшейся от других правительственных актов, а из соотношения классов. Но Сталина интересовала не общая концепция; ему нужен был внешний повод для поворота с наименьшим ущербом для самолюбия. Он «дозировал» свое отступление. В первый период, по его словам, «Совет намечал программу, а теперь намечает ее Временное правительство». После ноты Милюкова «правительство наступает на Совет, Совет отступает. Говорить после этого о контроле – значит говорить впустую». Все это звучало искусственно и ложно. Но непосредственная цель была достигнута: Сталин успел вовремя отмежеваться от оппозиции, которая при голосованиях собирала не более семи голосов.
В докладе по национальному вопросу Сталин сделал, что мог, чтоб проложить мост от своего мартовского доклада, который источник национального гнета усматривал исключительно в земельной аристократии, к новой позиции, которую усваивала ныне партия. «Национальный гнет, – говорил он, полемизируя по неизбежности с самим собой, – поддерживается не только земельной аристократией. Наряду с ней существует другая сила – империалистические группы, которые методы порабощения народностей, усвоенные в колониях, переносят и во внутрь своей страны. К тому же крупная буржуазия ведет за собой «мелкую буржуазию, часть интеллигенции, часть рабочей верхушки, которые также пользуются плодами грабежа». Это та тема, которую Ленин настойчиво развивал в годы войны. «Таким образом, – продолжает докладчик, – получается целый хор социальных сил, поддерживающий национальный гнет». Чтоб покончить с гнетом, надо «убрать этот хор с политической сцены». Поставив у власти империалистскую буржуазию, Февральская революция вовсе еще не создала условий национальной свободы. Так, Временное правительство изо всех сил противилось простому расширению автономии Финляндии. «На чью сторону должны мы стать? Очевидно, на сторону финляндского народа».
Украинец Пятаков и поляк Дзержинский выступали против программы национального самоопределения как утопической и реакционной. «Нам не следует выдвигать национального вопроса, – наивно говорил Дзержинский, – ибо это отодвигает момент социальной революции. Я предложил бы поэтому вопрос о независимости Польши из резолюции выкинуть». «Социал-демократия, – возражал им докладчик, – поскольку она держит курс на социалистическую революцию, должна поддерживать революционное движение народов, направленное против империализма». Сталин впервые в своей жизни упомянул здесь о «курсе на социалистическую революцию». На листке юлианского календаря значилось: 29 апреля 1917 года.
Присвоив себе права съезда, конференция выбрала новый Центральный Комитет, в который вошли: Ленин, Зиновьев, Каменев, Милютин, Ногин, Свердлов, Смилга, Сталин, Федоров; в качестве кандидатов: Теодорович, Бубнов, Глебов-Авилов и Правдин. Из 133 делегатов с решающим голосом участвовали в тайном голосовании почему-то лишь 109; возможно, что часть успела разъехаться. За Ленина подано 104 голоса (был ли Сталин в числе пяти делегатов, отказавшихся поддержать Ленина?), за Зиновьева – 101, за Сталина – 97, за Каменева – 95. Сталин впервые был выбран в ЦК в нормальном партийном порядке. Ему шел 38-й год. Рыкову, Зиновьеву и Каменеву было по 23–24 года, когда съезды впервые избирали их в состав большевистского штаба.
На конференции сделана была попытка оставить за порогом Центрального Комитета Свердлова. Об этом после смерти первого Председателя советской республики рассказывал Ленин, как о своей вопиющей ошибке. «К счастью, – прибавлял он, – снизу нас поправили». У самого Ленина вряд ли могли быть основания восстать против кандидатуры Свердлова, которого он знал по переписке как неутомимого профессионального революционера. Вероятнее всего, сопротивление исходило от Сталина, который не забыл, как Свердлов наводил после него порядок в Петербурге, реформируя «Правду»; совместная жизнь в Курейке только усилила в нем чувство неприязни. Сталин ничего не прощал.
На конференции он, видимо, пытался взять реванш и сумел какими-то путями, о которых мы можем лишь строить догадки, завоевать поддержку Ленина. Однако покушение не удалось. Если в 1912 г. Ленин натолкнулся на сопротивление делегатов, когда пытался ввести Сталина в Центральный Комитет, то теперь он встретил не меньший отпор при попытке оставить Свердлова за бортом. Из состава ЦК, избранного на апрельской конференции, успели своевременно умереть Свердлов и Ленин. Все остальные – за вычетом, конечно, самого Сталина, – как и все четыре кандидата, подверглись в последние годы опале и либо официально расстреляны, либо таинственно исчезли с горизонта.
Никто без Ленина не оказался способен разобраться в новой действительности, все оказались пленниками старой формулы. Между тем ограничиваться лозунгом демократической диктатуры значило теперь, как писал Ленин, «перейти на деле к мелкой буржуазии». Преимущество Сталина над другими состояло, пожалуй, в том, что он не испугался этого перехода и взял курс на сближение с соглашателями и слияние с меньшевиками. Им руководило отнюдь не преклонение перед старыми формулами. Идейный фетишизм был чужд ему: так, он без труда отказался от привычной мысли о контрреволюционной роли русской буржуазии. Как всегда, Сталин действовал эмпирически, под влиянием своего органического оппортунизма, который всегда толкал его искать линии наименьшего сопротивления. Но он стоял не одиноко; в течение трех недель он давал выражение скрытым тенденциям целого слоя «старых большевиков».
Нельзя забывать, что в аппарате большевистской партии преобладала интеллигенция, мелкобуржуазная по происхождению и условиям жизни, марксистская по идеям и связям с пролетариатом. Рабочие, которые становились профессиональными революционерами, с головой уходили в эту среду и растворялись в ней. Особый социальный состав аппарата и его командное положение по отношению к пролетариату – и то и другое – не случайность, а железная историческая необходимость – были не раз причиной шатаний в партии и стали в конце концов источником ее вырождения. Марксистская доктрина, на которую опиралась партия, выражала исторические интересы пролетариата в целом; но люди аппарата усваивали ее по частям, соответственно со своим, сравнительно ограниченным, опытом. Нередко они, как жаловался Ленин, просто заучивали готовые формулы и закрывали глаза на перемену условий. Им не хватало в большинстве случаев как синтетического понимания исторического процесса, так и непосредственной повседневной связи с рабочими массами. Оттого они оставались открыты влиянию других классов. Во время войны верхний слой партии был в значительной мере захвачен примиренческими настроениями, шедшими из буржуазных кругов, в отличие от рядовых рабочих-большевиков, которые оказались гораздо более устойчивы по отношению к патриотическому поветрию.
Открыв широкую арену демократии, революция дала «профессиональным революционерам» всех партий неизмеримо большее удовлетворение, чем солдатам в окопах, крестьянам в деревнях и рабочим на военных заводах. Вчерашние подпольщики сразу стали играть крупную роль. Советы заменяли им парламенты, где можно было свободно обсуждать и решать. В их сознании основные классовые противоречия, породившие революцию, начали как бы таять в лучах демократического солнца. В результате большевики и меньшевики объединяются почти во всей стране, а там, где они остаются разъединенными, как в Петербурге, стремление к единству сильно сказывается в обеих организациях. Тем временем в окопах, в деревнях и на заводах застарелые антагонизмы принимают все более открытый и ожесточенный характер, предвещая не единство, а гражданскую войну. Движение классов и интересы партийных аппаратов пришли, как нередко, в острое противоречие. Даже партийные кадры большевизма, успевшие приобресть исключительный революционный закал, обнаружили на второй день после низвержения монархии явственную тенденцию обособиться от массы и принимать свои собственные интересы за интересы рабочего класса. Что же будет, когда эти кадры превратятся во всемогущую бюрократию государства? Сталин об этом вряд ли задумывался. Он был плотью от плоти аппарата и самой твердой из его костей.
Каким, однако, чудом Ленину удалось в течение немногих недель повернуть партию на новую дорогу? Разгадку надо искать одновременно в двух направлениях: в личных качествах Ленина и в объективной обстановке. Ленин был силен тем, что не только понимал законы классовой борьбы, но и умел подслушать живые массы. Он представлял не аппарат, а авангард пролетариата. Он был заранее убежден, что из того рабочего слоя, который вынес на себе подпольную партию, найдутся многие тысячи, которые поддержат его. Массы сейчас революционнее партии; партия – революционнее аппарата. Уже в течение марта действительные чувства и взгляды рабочих и солдат успели во многих случаях бурно прорваться наружу, в вопиющем несоответствии с указками партий, в том числе и большевистской. Авторитет Ленина не был абсолютен, но он был велик, ибо подтвержден всем опытом прошлого. С другой стороны, авторитет аппарата, как и его консерватизм, только еще складывались. Натиск Ленина не был индивидуальным актом его темперамента; он выражал давление класса на партию, партии – на аппарат. Кто пытался в этих условиях сопротивляться, тот скоро терял почву под ногами. Колеблющиеся равнялись по передовым, осторожные – по большинству. Так Ленину удалось ценою сравнительно небольших потерь своевременно изменить ориентировку партии и подготовить ее к новой революции.
Но тут возникает новое затруднение. Оставаясь без Ленина, большевистское руководство делает каждый раз ошибки, преимущественно вправо. Ленин появляется, как бог, из машины, чтобы указать правильный путь. Значит, в большевистской партии Ленин – все, остальные – ничто? Этот взгляд, довольно широко распространенный в демократических кругах, крайне односторонен и потому ложен. Ведь то же самое можно сказать о науке: без Ньютона – механика, без Дарвина – биология на многие годы – ничто. Это верно, и это ложно. Нужна была работа тысяч рядовых ученых, чтобы собрать факты, сгруппировать их, поставить вопросы и подготовить почву для синтетического ответа Ньютона или Дарвина. Этот ответ наложил, в свою очередь, неизгладимую печать на новые тысячи рядовых исследователей. Гении не творят науку из себя, а лишь ускоряют движение коллективной мысли. Большевистская партия имела гениального вождя. Это не было случайно. Революционер такого склада и размаха, как Ленин, мог быть вождем только наиболее бесстрашной партии, которая свои мысли и действия доводит до конца. Однако гениальность сама по себе есть редчайшее исключение. Гениальный вождь ориентируется скорее, оценивает обстановку глубже, видит дальше. Между гениальным вождем и ближайшими соратниками открывалась неизбежно большая дистанция. Можно даже признать, что могущество мысли Ленина до известной степени тормозило самостоятельность развития его сотрудников. Но это все же не значит, что Ленин был «все» и что партия без Ленина была ничто. Без партии Ленин был бы бессилен, как Ньютон и Дарвин – без коллективной научной работы. Дело идет, следовательно, не об особых пороках большевизма, обусловленных будто бы централизацией, дисциплиной и пр., а о проблеме гениальности в историческом процессе. Писатели, которые пытаются принизить большевизм на том основании, что большевистской партии посчастливилось иметь гениального вождя, только обнаруживают свою умственную вульгарность.
Без Ленина большевистское руководство лишь постепенно, ценою трений и внутренней борьбы, искало бы правильную линию действия. Классовые конфликты продолжали бы свою работу, компенсируя и отметая бесформенные лозунги «старых большевиков». Сталину, Каменеву и другим фигурам второй категории пришлось бы либо дать членораздельное выражение тенденциям пролетарского авангарда, либо же попросту перейти на другую сторону баррикады… Не забудем, что Шляпников, Залуцкий, Молотов пытались с самого начала взять более левый курс.
Это не значит, однако, что правильный путь был бы во всяком случае найден. Фактор времени играет в политике, особенно в революции, решающую роль. Ход классовой борьбы отнюдь не предоставляет политическому руководству неограниченный срок для правильной ориентировки. Значение гениального вождя в том и состоит, что, сокращая этапы наглядного обучения, он дает партии возможность вмешаться в события в нужный момент. Если бы Ленину не удалось приехать в начале апреля, партия несомненно толкалась бы на тот путь, который Ленин возвестил в своих «тезисах». Сумели бы, однако, другие вожди заменить Ленина настолько, чтобы своевременно подготовить партию к Октябрьской развязке? На этот вопрос невозможно дать категорический ответ. Одно можно сказать с уверенностью: в этой работе, которая требовала решимости противопоставить живые массы и идеи косному аппарату, Сталин не мог бы проявить творческой инициативы и являлся бы скорее тормозом, чем двигателем. Его сила начинается с того момента, когда можно обуздать массы при помощи аппарата».
Затем в книге повествование развивается следующим образом: «В течение следующих двух месяцев трудно проследить деятельность Сталина. Он оказался сразу отодвинут куда-то на третий план. Редакцией «Правды» руководил Ленин, притом не издалека, как до войны, а непосредственно изо дня в день. По камертону «Правды» настраивается партия. В области агитации господствует Зиновьев. Сталин по-прежнему не выступает на митингах. Каменев, наполовину примирившийся с новой политикой, представляет партию в Центральном Исполнительном Комитете и в Совете. Сталин почти исчезает с советской арены и мало появляется в Смольном. Руководящая организационная работа сосредоточена в руках Свердлова: он распределяет работников, принимает провинциалов, улаживает конфликты. Помимо дежурства в «Правде» и участия в заседаниях ЦК, на Сталина ложатся эпизодические поручения то административного, то технического, то дипломатического порядка. Они немногочисленны. По натуре Сталин ленив. Работать напряженно он способен лишь в тех случаях, когда непосредственно затронуты его личные интересы. Иначе он предпочитает сосать трубку и ждать поворота обстановки. Он переживает период острого недомогания. Более крупные или более талантливые люди оттеснили его отовсюду. Память о марте и апреле жжет его самолюбие. Насилуя себя, он медленно перестраивает свою мысль, но добивается в конце концов лишь половинчатых результатов.
Во время бурных «апрельских дней», когда солдаты вышли на улицу с протестом против империалистской ноты Милюкова, соглашатели заняты были, как всегда, заклинаниями по адресу правительства, увещаниями по адресу масс. 21-го ЦИК отправил, за подписью Чхеидзе, одну из своих пастырских телеграмм в Кронштадт и другие гарнизоны: да, воинственная нота Милюкова не заслуживает одобрения, но «между Исполнительным Комитетом и Временным правительством начались переговоры, пока еще не законченные» (эти переговоры, по самой своей натуре, никогда не заканчивались); «признавая вред всяких разрозненных и неорганизованных выступлений, Исполнительный Комитет просит вас воздержаться» и пр.
Из официальных протоколов мы не без удивления усматриваем, что текст телеграммы составлен комиссией из двух соглашателей и одного большевика и что этот большевик – Сталин. Эпизод мелкий (крупных эпизодов за этот период вообще не найдем), но характерный. Увещательная телеграмма представляла классический образчик того «контроля», который входил необходимым элементом в механику двоевластия. Малейшую причастность большевиков к этой политике бессилия Ленин клеймил особенно беспощадно. Если выступление кронштадтцев было нецелесообразно, нужно им было это сказать от имени партии, своими словами, а не брать на себя ответственность за «переговоры» между Чхеидзе и князем Львовым. Соглашатели включили Сталина в комиссию потому, что авторитетом в Кронштадте пользовались только большевики. Тем больше оснований было отказаться. Но Сталин не отказался. Через три дня после увещательной телеграммы он выступил на партийной конференции против Каменева, причем как раз конфликт вокруг ноты Милюкова избрал как особо яркое доказательство бессмысленности «контроля». Логические противоречия никогда не тревожили этого эмпирика.
На конференции большевистской военной организации в июне, после основных политических речей Ленина и Зиновьева, Сталин докладывал о «национальном движении и национальных полках». Под влиянием пробуждения угнетенных национальностей в действующей армии началось самочинное переформирование частей по национальному признаку: возникали украинские, мусульманские, польские полки и пр. Временное правительство открыло борьбу против «дезорганизации армии»; большевики в этой области встали на защиту угнетенных национальностей. Записи доклада Сталина не сохранилось. Вряд ли, впрочем, он вносил что-либо новое.
Первый Всероссийский съезд Советов, открывшийся 3-го июня, тянулся почти три недели. Несколько десятков провинциальных делегатов-большевиков, тонувших в массе соглашателей, представляли довольно разношерстную группу, далеко еще не освободившуюся от мартовских настроений. Руководить ими было нелегко. Именно к этому моменту относится интересное замечание уже знакомого нам народника, наблюдавшего некогда Кобу в бакинской тюрьме. «Я всячески хотел понять роль Сталина и Свердлова в большевистской партии, – писал Верещак в 1928 г. – В то время, как за столом президиума съезда сидели Каменев, Зиновьев, Ногин и Крыленко и, в качестве ораторов, выступали Ленин, Зиновьев и Каменев, Свердлов и Сталин молча дирижировали большевистской фракцией. Это была тактическая сила. Вот здесь я впервые почувствовал все значение этих людей». Верещак не ошибся. В закулисной работе по подготовке фракции к голосованиям Сталин был очень ценен. Он не всегда прибегал к принципиальным доводам, но он умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов. Однако и в этой работе первое место принадлежало Свердлову, неизменному председателю большевистской фракции съезда.
В армии велась тем временем «моральная» подготовка наступления, которая нервировала массы не только на фронте, но и в тылу. Большевистская фракция решительно протестовала против военной авантюры, заранее предрекая катастрофу. Большинство съезда поддержало Керенского. Большевики сделали попытку ответить уличной демонстрацией. При обсуждении вопроса обнаружились разногласия. Володарский, главная сила Петроградского комитета, не был уверен, выйдут ли на улицу рабочие. Представители военной организации утверждали, что солдаты не выступят без оружия. Сталин считал, что «брожение среди солдат – факт; среди рабочих такого определенного настроения нет», но полагал все же, что необходимо дать правительству отпор. В конце концов демонстрация была назначена на воскресенье, 10 июня. Соглашатели всполошились. Но испугавшись впечатления, произведенного запретом на массы, съезд сам назначил общую демонстрацию на 18 июня. Результат получился неожиданный: все заводы и все полки вышли с большевистскими плакатами. Авторитету съезда был нанесен непоправимый удар. Рабочие и солдаты столицы почувствовали свою силу. Через две недели они попытались реализовать ее. Так выросли «июльские дни», важнейший рубеж между двумя революциями.
4-го мая Сталин писал в «Правде»: «Революция растет вширь и вглубь… Во главе движения идет провинция. Если в первые дни революции Петроград шел впереди, то теперь он начинает отставать». Ровно через два месяца «июльские дни» обнаружили, что провинция чрезвычайно отстала от Петрограда. В своей оценке Сталин имел в виду не массы, а организации. «Столичные Советы, – отмечал Ленин еще на Апрельской конференции, – политически находятся в большей зависимости от буржуазной центральной власти, чем провинциальные». В то время как ЦИК изо всех сил стремился сосредоточить власть в руках правительства, в провинции Советы, меньшевистские и эсеровские по составу, против собственной воли завладевали нередко властью и даже пытались регулировать экономическую жизнь. Но «отсталость» советских учреждений в столице вытекала как раз из того, что петроградский пролетариат далеко ушел вперед и пугал мелкобуржуазную демократию радикализмом своих требований. При обсуждении вопроса об июльской демонстрации Сталин считал, что рабочие не стремились к борьбе. Июльские дни опровергли и это утверждение: против запрета соглашателей и даже против предостережения большевистской партии, пролетариат вырвался на улицу, рука об руку с гарнизоном. Обе ошибки Сталина крайне знаменательны для него: он не дышал атмосферой рабочих собраний, не был связан с массой и не доверял ей. Сведения, которыми он располагал, шли через аппарат. Между тем массы были несравненно революционнее партии, которая, в свою очередь, была революционнее своих комитетчиков. Как и в других случаях, Сталин выражал консервативную тенденцию аппарата, а не динамическую силу масс.
В начале июля Петроград был полностью на стороне большевиков. Знакомя нового французского посла с положением в столице, журналист Клод Анэ показывал ему по ту сторону Невы Выборгский район, где сосредоточены самые большие заводы: «Ленин и Троцкий царят там, как господа». Полки гарнизона – либо большевистские, либо колеблющиеся в сторону большевиков. «Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, кто им помешает в этом?» Характеристика положения была верна. Но власти брать нельзя было, ибо вопреки тому, что Сталин писал в мае, провинция значительно отставала от столицы.
2 июля на общегородской конференции большевиков, где Сталин представлял ЦК, появляются два возбужденных пулеметчика с заявлением, что их полк решил немедленно выйти на улицу с оружием в руках. Конференция рекомендует отказаться от выступления. От имени Центрального Комитета Сталин подтверждает решение конференции. Пестковский, один из сотрудников Сталина и раскаявшийся оппозиционер, вспоминал через тринадцать лет об этой конференции: «Там я впервые увидел Сталина. Комната, в которой происходила конференция, не могла вместить всех присутствующих: часть публики следила за ходом прений из коридора через открытую дверь. В этой части публики был и я и поэтому плохо слышал доклады… От имени ЦК выступал Сталин. Так как он говорил тихо, то я из коридора разобрал немногое. Обратил внимание лишь на одно: каждая фраза Сталина была отточена и закончена, положения отличались ясностью формулировки…» Члены конференции расходятся по полкам и заводам, чтоб удержать массы от выступления. «Часов в 5, – докладывал Сталин после событий, – на заседании ЦИКа официально от имени ЦК и конференции заявили, что мы решили не выступать». Часам к 6 выступление все же развернулось. «Имела ли партия право умыть руки… и уйти в сторону?.. Как партия пролетариата мы должны были вмешаться в выступление и придать ему мирный и организованный характер, не задаваясь целью вооруженного захвата власти».
Несколько позже Сталин рассказывал об июльских днях на партийном съезде: «Партия не хотела выступления, партия хотела переждать, когда политика наступления на фронте будет дискредитирована. Тем не менее выступление стихийное, вызванное разрухой в стране, приказами Керенского, отправлением частей на фронт, состоялось». ЦК решил придать манифестации мирный характер. «На вопрос, поставленный солдатами, нельзя ли выйти вооруженными, ЦК постановил: с оружием не выходить. Солдаты, однако, говорили, что выступать невооруженными невозможно, что они возьмут оружие только для самообороны».
Здесь, однако, мы наталкиваемся на загадочное свидетельство Демьяна Бедного. В очень восторженном тоне придворный поэт рассказал в 1929 г., как в помещении «Правды» Сталин был вызван из Кронштадта по телефону и как в ответ на заданный вопрос о том, выходить ли с оружием или без оружия, Сталин ответил: «Винтовки?.. Вам, товарищи, виднее!.. Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем за собой… А как там вы со своим оружием, вам виднее!» Рассказ, вероятно, стилизован. Но в нем чувствуется зерно истины. Сталин был, вообще говоря, склонен преуменьшать готовность рабочих и солдат к борьбе: по отношению к массам он всегда был недоверчив. Но где борьба завязывалась, на площади ли Тифлиса, в бакинской ли тюрьме или на улицах Петрограда, он всегда стремился придать ей как можно более острый характер. Решение ЦК? Его можно было осторожно опрокинуть параболой о карандашах. Не нужно, однако, преувеличивать значение этого эпизода: запрос исходил, вероятно, от Кронштадтского комитета партии; что касается матросов, то они все равно вышли бы с оружием.
Не поднявшись до восстания, июльское движение переросло рамки демонстрации. Были провокационные выстрелы из окон и с крыш, были вооруженные столкновения, без плана и ясной цели, но со многими убитыми и ранеными, был эпизодический полузахват Петропавловской крепости кронштадтскими моряками, была осада Таврического дворца. Большевики оказались полными господами в столице, но сознательно отклонили переворот как авантюру. «Взять власть 3 и 4 июля мы могли, – говорил Сталин на Петроградской конференции. – Но на нас поднялись бы фронт, провинция, Советы. Власть, не опирающаяся на провинцию, оказалась бы без рук и без ног». Лишенное непосредственной цели, движение стало откатываться. Рабочие возвращались на свои заводы, солдаты – в казармы.
Оставался вопрос о Петропавловке, где все еще сидели кронштадтцы. «ЦК делегировал меня в Петропавловскую крепость, – рассказывал Сталин, – где удалось уговорить присутствующих матросов не принимать боя… В качестве представителя ЦИК я еду с (меньшевиком) Богдановым к (командующему войсками) Козьмину. У него все готово к бою… Мы уговариваем его не применять вооруженной силы… Для меня очевидно, что правое крыло хотело крови, чтобы дать «урок» рабочим, солдатам и матросам. Мы помешали им выполнить свое желание». Успешное выполнение Сталиным столь деликатной миссии оказалось возможным только благодаря тому, что он не был одиозной фигурой в глазах соглашателей: их ненависть направлялась против других лиц. К тому же он умел, несомненно как никто, взять в этих переговорах тон трезвого и умеренного большевика, избегающего эксцессов и склонного к соглашениям. О своих советах матросам насчет «карандашей» он, во всяком случае, не упоминал».
Троцкий констатирует: «Вопреки очевидности соглашатели объявили июльскую манифестацию вооруженным восстанием и обвинили большевиков в заговоре. Когда движение уже закончилось, с фронта прибыли реакционные войска. В печати появилось сообщение, ссылавшееся на «документы» министра юстиции Переверзева, что Ленин и его соратники являются попросту агентами германского штаба. Настали дни клеветы, травли и смуты. «Правда» подверглась разгрому. Власти издали распоряжение об аресте Ленина, Зиновьева и других виновников «восстания». Буржуазная и соглашательская пресса грозно требовала, чтобы виновные отдали себя в руки правосудия.
В ЦК большевиков шли совещания: явиться ли Ленину к властям, чтоб дать гласный бой клевете, или скрыться? Не было недостатка в колебаниях, неизбежных при столь резком переломе обстановки. Спорный вопрос состоял в том, дойдет ли дело до открытого судебного разбирательства? В советской литературе немалое место занимает вопрос о том, кто «спас» тогда Ленина и кто хотел «погубить» его. Демьян Бедный рассказывал некогда, как он примчался к Ленину в автомобиле и уговаривал его не подражать Христу, который «сам себе в руки врагов предаде». Бонч-Бруевич, бывший управляющий делами Совнаркома, начисто опроверг своего друга, рассказав в печати, что Д. Бедный провел критические часы у него на даче в Финляндии. Многозначительный намек на то, что честь переубеждения Ленина «выпала на долю других товарищей», ясно показывал, что Бончу пришлось огорчить близкого друга, чтобы доставить удовольствие кому-то более влиятельному. В своих «Воспоминаниях» Крупская рассказывает: «7-го мы были у Ильича на квартире Аллилуевых вместе с Марией Ильиничной (сестрой Ленина). Это был как раз у Ильича момент колебаний. Он приводил доводы за необходимость явиться на суд. Мария Ильинична горячо возражала ему. «Мы с Григорием (Зиновьевым) решили явиться, пойди, скажи об этом Каменеву», – сказал мне Ильич. Я заторопилась. «Давай попрощаемся, – остановил меня Владимир Ильич, – может, не увидимся уже». Мы обнялись. Я пошла к Каменеву и передала ему поручение Владимира Ильича. Вечером Сталин и другие убедили Ильича на суд не являться и тем спасли его жизнь».
Подробнее о тех горячечных часах рассказал до Крупской Орджоникидзе. «Началась бешеная травля наших вождей… Некоторые наши товарищи ставят вопрос о том, что Ленину нельзя скрываться, он должен явиться… Так рассуждали многие видные большевики. Встречаемся со Сталиным в Таврическом дворце. Идем вместе к Ленину…» Прежде всего бросается в глаза, что в те часы, когда шла «бешеная травля нашей партии и наших вождей», Орджоникидзе и Сталин спокойно встречаются в Таврическом дворце, штабе врага, и безнаказанно покидают его. На квартире Аллилуева возобновляется все тот же спор: сдаться или скрыться? Ленин полагал, что никакого гласного суда не будет. Категоричнее всех против сдачи высказался Сталин: «Юнкера до тюрьмы не довезут, убьют по дороге».
В это время появляется Стасова и сообщает о вновь пущенном слухе, будто Ленин по документам департамента полиции провокатор. «Эти слова произвели на Ильича невероятно сильное впечатление. Нервная дрожь перекосила его лицо, и он со всей решительностью заявил, что надо ему сесть в тюрьму».
Орджоникидзе и Ногина посылают в Таврический дворец добиться от правящих партий гарантий, «что Ильич не будет растерзан юнкерами». Но перепуганные меньшевики искали гарантий для самих себя. В свою очередь, Сталин докладывал на Петроградской конференции: «Я лично ставил вопрос о явке перед Либером и Анисимовым (меньшевики, члены ЦИК), и они мне ответили, что никаких гарантий они дать не могут». После этой разведки в неприятельском лагере решено было, что Ленин уедет из Петрограда и скроется в глубоком подполье. «Сталин взялся организовать отъезд Ленина».
Насколько правы были противники сдачи Ленина властям, обнаружилось впоследствии из рассказа командующего войсками, генерала Половцева. «Офицер, отправляющийся в Терриоки (Финляндия) с надеждой поймать Ленина, меня спрашивает, желаю я получить этого господина в целом виде или в разобранном… Отвечаю с улыбкой, что арестованные делают очень часто попытку к побегу». Для организаторов судебного подлога дело шло не о «правосудии», а о захвате и убийстве Ленина, как это было сделано два года спустя в Германии с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург.
Мысль о неизбежности кровавой расправы сидела в голове Сталина прочнее, чем у других: такая развязка вполне отвечала складу его собственной натуры. К тому же он мало склонен был беспокоиться о том, что скажет «общественное мнение». Другие, в том числе Ленин и Зиновьев, колебались. Ногин и Луначарский в течение дня из сторонников сдачи стали ее противниками. Сталин держался наиболее твердо и оказался прав.
Посмотрим теперь, что сделала из этого драматического эпизода новейшая советская историография. «Меньшевики, эсеры и Троцкий, ставший впоследствии фашистским бандитом, – пишет официальное издание 1938 г., – требовали добровольной явки Ленина на суд. За явку Ленина в суд стояли ныне разоблаченные как враги народа фашистские наймиты Каменев и Рыков. Им дал резкий отпор Сталин», и т. д.
На самом деле я лично в совещаниях вообще не участвовал, так как вынужден был сам в те часы скрываться. 10 июля я обратился к правительству меньшевиков и эсеров с письменным заявлением о полной солидарности с Лениным, Зиновьевым и Каменевым и был 22 июля арестован. В письме к Петроградской конференции Ленин счел нужным особо отметить, что Троцкий в «тяжелые июльские дни оказался на высоте задачи». Сталина не арестовали и даже формально не привлекли к делу по той причине, что политически он ни для властей, ни для общественного мнения не существовал. В бешеной травле против Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого и других Сталин едва ли вообще назывался в печати, хотя он был редактором «Правды» и подписывал статьи своим именем. Никто не замечал этих статей и не интересовался их автором.
Ленин скрывался сперва на квартире Аллилуева, затем переехал в Сестрорецк к рабочему Емельянову, которому безусловно доверял и о котором, не называя его, упоминает с уважением в одной из своих статей. «Во время отъезда Владимира Ильича в Сестрорецк – это было вечером 11 июля – мы с товарищем Сталиным, – рассказывает Аллилуев, – провожали Ильича на Сестрорецкий вокзал. За время пребывания в шалаше на Разливе, а затем в Финляндии, Владимир Ильич время от времени через меня посылал записки Сталину; записки приносились мне на квартиру, и так как на записки нужно было своевременно отвечать, то Сталин в августе месяце перебрался ко мне… и поселился в той же комнате, где скрывался Владимир Ильич в июльские дни». Здесь он, видимо, познакомился со своей будущей женой, дочерью Аллилуева Надеждой, тогда еще подростком.
Другой из кадровых рабочих, Рахиа, обрусевший финн, рассказывал в печати, как Ленин поручил ему однажды «привести Сталина на следующий день вечером. Сталина я должен был найти в редакции «Правды». Они разговаривали очень долго, В.И. подробно обо всем расспрашивал». Сталин был в этот период, наряду с Крупской, важным связующим звеном между ЦК и Лениным, который питал к нему, несомненно, полное доверие, как к осторожному конспиратору. К тому же все обстоятельства естественно выдвигали Сталина на эту роль: Зиновьев скрывался, Каменев и Троцкий сидели в тюрьме, Свердлов стоял в центре организационной работы, Сталин был более свободен и менее на виду у полиции».
В период реакции после июльского движения роль Сталина вообще значительно возрастает. Уже знакомый нам Пестковский пишет в своих апологетических воспоминаниях о работе Сталина летом 1917 г.: «Широкие рабочие массы Петрограда мало знали тогда Сталина. Да он и не гонялся за популярностью. Не обладая ораторским талантом, он избегал выступлений на массовых митингах. Но никакая партийная конференция, никакое серьезное организационное совещание не обходились без политического выступления Сталина. Благодаря этому партийный актив знал его хорошо. Когда ставился вопрос о большевистских кандидатах от Петрограда в Учредительное Собрание, кандидатура Сталина была выдвинута на одно из первых мест по инициативе партийного актива». Имя Сталина стояло в петроградском списке на шестом месте… В 1930 г. считалось еще необходимым в объяснение того, почему Сталин не пользовался популярностью, указывать на отсутствие у него «ораторского таланта». Сейчас такая фраза была бы совершенно невозможна: Сталин объявлен идолом петроградских рабочих и классиком ораторского искусства. Но верно, что не выступая перед массами, Сталин рядом со Свердловым выполнял в июле и августе крайне ответственную работу в аппарате: на совещаниях, конференциях, в сношениях с Петербургским комитетом и пр.
О руководстве партии в тот период Луначарский писал в 1923 г.: «…До июльских дней Свердлов состоял, так сказать, в главном штабе большевиков, руководя всеми событиями вместе с Лениным, Зиновьевым и Сталиным. В июльские дни он выдвинулся на передний план». Это было верно. Среди жестокого разгрома, обрушившегося на партию, этот маленький смуглый человек в пенсне держал себя так, как если б ничего особенного не случилось: распределял по-прежнему людей, ободрял тех, кто нуждался в ободрении, давал советы, а если нужно – приказания. Он был подлинный «генеральный секретарь» революционного года, хотя и не нес этого звания. Но это был секретарь партии, бесспорным политическим руководителем которой Ленин оставался и в своем подполье. Из Финляндии он посылал статьи, письма, проекты резолюций по всем основным вопросам политики. Ошибаясь нередко на расстоянии тактически, Ленин тем более уверенно определял стратегию партии. Повседневное руководство лежало на Свердлове и Сталине, как на наиболее влиятельных членах ЦК из числа оставшихся на свободе. Массовое движение тем временем чрезвычайно ослабело. Партия наполовину ушла в подполье. Удельный вес аппарата соответственно возрос. Внутри аппарата автоматически выросла роль Сталина. Этот закон проходит неизменно через всю его политическую биографию, как бы составляя ее основную пружину.
Непосредственно поражение в июле потерпели рабочие и солдаты Петрограда, порыв которых разбился, в последнем счете, об относительную отсталость провинции. В столице упадок в массах оказался поэтому глубже, чем где-либо, но держался лишь несколько недель. Открытая агитация возобновляется уже в двадцатых числах июля, когда на небольших митингах выступают в разных частях города три мужественных революционера: Слуцкий, убитый позже белыми в Крыму, Володарский, убитый эсерами в Петрограде, и Евдокимов, убитый Сталиным в 1936 г. Потеряв кое-каких случайных попутчиков, партия в конце месяца снова начинает расти.
21–22 июля в Петрограде происходит исключительной важности совещание, оставшееся незамеченным властями и прессой. После трагически закончившейся авантюры наступления в столицу стали все чаще прибывать делегаты с фронта с протестами против удушения свобод в армии и против затягивания войны. В Исполнительный Комитет их не допускали, так как соглашателям нечего было им сказать. Фронтовики знакомились друг с другом в коридорах и приемных и крепкими солдатскими словами отзывались о вельможах из ЦИКа. Большевики, умевшие проникать всюду, посоветовали растерянным и озлобленным делегатам обменяться мыслями со столичными рабочими, солдатами и матросами. На возникшем таким образом совещании участвовали представители от 29 полков с фронта, 90 петроградских заводов, от кронштадтских моряков и окрестных гарнизонов. Фронтовики рассказывали о бессмысленном наступлении, о разгроме и о сотрудничестве соглашателей-комиссаров с реакционным офицерством, которое снова подняло голову. Несмотря на то что большинство фронтовиков продолжало, по-видимому, считать себя эсерами, резкая большевистская резолюция была принята единодушно. Из Петрограда делегаты вернулись в окопы незаменимыми агитаторами рабочей и крестьянской революции. В организации этого замечательного совещания Свердлов и Сталин принимали, видимо, руководящее участие.
Петроградская конференция, безуспешно пытавшаяся удержать массы от демонстрации, тянулась после продолжительного перерыва до ночи 20 июля. Ход ее работ очень поучителен для выяснения роли Сталина и его места в партии. Организационное руководство нес от имени ЦК Свердлов; но в области теории и больших вопросов политики он, без излишних претензий, как и без напускной скромности, уступил место другим. Главной темой конференции была оценка политического положения, как оно сложилось после июльского разгрома. Володарский, руководящий член петроградского Комитета, заявил в самом начале: «По текущему моменту докладчиком может быть только Зиновьев… Желательно выслушать Ленина». Имени Сталина никто не называл. Но, прерванная массовым движением на полуслове, конференция возобновилась лишь 16 июля. Зиновьев и Ленин скрывались, и основной политический доклад лег на Сталина, который выступал как заместитель докладчика. «Для меня ясно, – говорил он, – что в данный момент контрреволюция победила нас, изолированных, преданных меньшевиками и эсерами, оболганных…» Победа буржуазной контрреволюции составляла исходную позицию докладчика… Однако эта победа неустойчива; пока война идет, пока не преодолена хозяйственная разруха, пока крестьяне не получили земли, «неизбежно будут происходить кризисы, массы не раз будут выходить на улицу, будут происходить более решительные бои. Мирный период революции кончился…» Тем самым лозунг «власть Советам» утерял сейчас реальное содержание. Соглашательские Советы помогли военно-буржуазной контрреволюции раздавить большевиков, разоружить рабочих и солдат и тем сами лишились реальной власти. Вчера еще они могли устранить Временное правительство простым постановлением; внутри Советов большевики могли прийти к господству путем простых перевыборов. Сегодня это уже невозможно. При помощи соглашателей контрреволюция вооружилась. Да и сами Советы стали сейчас простым прикрытием контрреволюции. Смешно требовать власти для этих Советов! «Дело не в учреждениях, а в том, политику какого класса проводит это учреждение». О мирном завоевании власти не может быть более и речи. Не остается ничего другого, как готовиться к вооруженному восстанию, которое станет возможным, когда низы деревни, а с ними фронт, повернут в сторону рабочих. Этой смелой стратегической перспективе соответствовала очень осторожная тактическая директива на ближайший период. «Наша задача – собрать силы, укрепить существующие организации и держать массы от преждевременного выступления… Это общая тактическая линия ЦК».
При всей примитивности своей формы доклад давал глубокую оценку обстановки, изменившейся в несколько дней. Прения сравнительно мало прибавили к сказанному докладчиком. Редакция протоколов отмечала в 1927 г.: «Основные положения этого доклада были согласованы с Лениным и построены согласно статье Ленина «Три кризиса», которая еще не успела появиться в печати». Делегаты знали сверх того, вероятнее всего через Крупскую, что Ленин написал для докладчика особые тезисы. «Группа конферентов, – гласит протокол, – просит огласить тезисы Ленина. Сталин сообщает, что у него нет с собой этих тезисов…»
Требование делегатов слишком понятно: перемена ориентации так радикальна, что они хотят услышать подлинный голос вождя. Но зато непонятен ответ Сталина: если он просто забыл тезисы дома, то их можно доставить к следующему заседанию. Однако тезисы не были доставлены. Получается впечатление, что они были скрыты от конференции. Еще поразительнее тот факт, что «июльские тезисы» в отличие от всех других документов, написанных Лениным в подполье, вообще не дошли до нас. Так как единственный экземпляр был у Сталина, то остается предположить, что он утерял его. Однако сам он об утере ничего не говорил. Редакция протоколов высказывает предположение, что тезисы были составлены Лениным в духе его статей «Три кризиса» и «К лозунгам», написанных до конференции, но опубликованных после нее в Кронштадте, где сохранилась свобода печати. Действительно, сравнение текстов статей показывает, что доклад Сталина был лишь простым изложением этих двух статей, без единого оригинального слова от себя. Самих статей Сталин не читал и существования их, очевидно, не подозревал, но он опирался на тезисы, тождественные по ходу мыслей со статьями. И это обстоятельство достаточно объясняет, почему докладчик «забыл» принести на конференцию тезисы Ленина и почему этот документ вообще не сохранился. Характер Сталина делает эту гипотезу не только допустимой, но прямо-таки навязывает ее.
В комиссии конференции, где шла, видимо, ожесточенная борьба, Володарский, отказавшийся признать, что в июле контрреволюция одержала полную победу, собрал большинство. Вышедшую из комиссии резолюцию защищал перед конференцией уже не Сталин, а Володарский. Сталин не потребовал содоклада и не участвовал в прениях. Среди делегатов царило замешательство. Резолюцию Володарского поддержали в конце концов 28 делегатов против 3 при 28 воздержавшихся. Группа выборгских делегатов мотивировала свое воздержание тем, что «не были оглашены тезисы Ленина и резолюцию защищал не докладчик». Намек на неблаговидное сокрытие тезисов был слишком явен. Сталин отмалчивался. Он потерпел двойное поражение, так как вызвал недовольство сокрытием тезисов и не сумел собрать в их пользу большинства.
Что касается Володарского, то он продолжал, в сущности, отстаивать большевистскую схему революции 1905 г.: сперва демократическая диктатура; затем неизбежный разрыв с крестьянством и, в случае победы пролетариата на Западе, борьба за социалистическую диктатуру. Сталин при поддержке Молотова и некоторых других защищал новую концепцию Ленина: только диктатура пролетариата, опирающегося на беднейших крестьян, обеспечит разрешение задач демократической революции и откроет вместе с тем эру социалистических преобразований. Сталин был прав против Володарского, но не сумел обнаружить своей правоты. С другой стороны, отказываясь признать, что буржуазная контрреволюция одержала полную победу, Володарский оказался прав против Сталина и против Ленина. Мы снова встретимся с этим спором на партийном съезде через несколько дней. Конференция закончилась принятием написанного Сталиным воззвания «Ко всем трудящимся», где, между прочим, говорилось: «…продажные наемники и трусливые клеветники осмеливаются открыто обвинять вождей нашей партии в «измене»… Никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью!» Травле и преследованиям, кроме Ленина, подвергались главным образом Зиновьев, Каменев и Троцкий. Имена их были особенно дороги Сталину, когда «буржуазная сволочь» обливала их грязью.
Петроградская конференция явилась как бы репетицией партийного съезда, который собрался 26 июля. К этому моменту почти все районные Советы Петрограда были уже в руках большевиков. В фабрично-заводских комитетах, как и в правлениях профессиональных союзов, влияние большевиков успело стать преобладающим. Организационная подготовка съезда сосредоточивалась в руках Свердлова. Политическую подготовку вел Ленин из подполья. В письмах в ЦК и в возобновившейся большевистской печати он с разных сторон освещал политическую обстановку. Им же были написаны проекты всех основных резолюций для съезда, причем доводы были тщательно взвешены на тайных свиданиях с будущими докладчиками.
Съезд созывался под именем «Объединительного», так как на нем предстояло включение в партию петроградской межрайонной организации, к которой принадлежали: Троцкий, Иоффе, Урицкий, Рязанов, Луначарский, Покровский, Мануильский, Юренев, Карахан и другие революционеры, так или иначе вошедшие в историю советской революции. «В годы войны, – говорит примечание к «Сочинениям» Ленина, – межрайонцы были близки большевистскому Петербургскому Комитету». Организация насчитывала к моменту съезда около 4000 рабочих.
Сведения о съезде, заседавшем полулегально в двух рабочих районах, проникли в печать; в правительственных сферах поговаривали о роспуске съезда, но в конце концов Керенский счел более благоразумным не соваться в Выборгский район. Для широкого общественного мнения съезд руководился анонимами. Из большевиков, получивших известность впоследствии, на съезде участвовали: Свердлов, Бухарин, Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Юренев, Мануильский… В президиум вошли Свердлов, Ольминский, Ломов, Юренев и Сталин. Даже здесь, где отсутствуют наиболее видные фигуры большевизма, имя Сталина оказывается на последнем месте. Съезд постановляет послать приветствие «Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Луначарскому, Каменеву, Коллонтай и всем остальным арестованным и преследуемым товарищам». Их выбирают в почетный президиум. Издание 1938 г. только упоминает об избрании Ленина.
Об организационной работе ЦК отчет делал Свердлов. Со времени Апрельской конференции партия выросла с 80 до 240 тысяч членов, т. е. втрое. Рост под июльскими ударами был здоровым ростом. Тираж всей большевистской печати поражает своей незначительностью: 320 тысяч экземпляров на гигантскую страну! Но революционная среда электропроводна: идеи большевизма прокладывали себе дорогу в сознание миллионов.
Сталин повторил два своих доклада: о политической деятельности ЦК и о положении в стране. В связи с муниципальными выборами, на которых большевики завоевали в столице около 20 % голосов, Сталин докладывал: «ЦК… приложил все силы, чтобы дать бой как кадетам, основной силе контрреволюции, так и меньшевикам и эсерам, вольно или невольно пошедшим за кадетами». Много воды утекло со времени мартовского совещания, когда Сталин зачислял меньшевиков и эсеров в «революционную демократию» и возлагал на кадетов миссию «закреплять» завоевания революции.
Вопрос о войне, социал-патриотизме, крушении Второго Интернационала и группировках в мировом социализме был вопреки традиции выделен из политического доклада и поручен Бухарину, так как на международной арене Сталин совершенно не разбирался. Бухарин доказывал, что кампания за мир путем «давления» на Временное правительство и другие правительства Антанты потерпела полное крушение и что только низвержение Временного правительства способно приблизить демократическую ликвидацию войны. Вслед за Бухариным Сталин сделал доклад о задачах партии. Прения велись совместно по обоим докладам, хотя, как оказалось, между докладчиками не было полного согласия.
«Некоторые товарищи говорили, – докладывал Сталин, – что так как у нас капитализм слабо развит, то утопично ставить вопрос о социалистической революции. Они были бы правы, если бы не было войны, если бы не было разрухи, не были расшатаны основы народного хозяйства. Но эти вопросы о вмешательстве в хозяйственную сферу ставятся во всех государствах как необходимые вопросы…» К тому же «нигде у пролетариата не было таких широких организаций, как Советы… Все это исключало возможность невмешательства рабочих масс в хозяйственную жизнь. В этом реальная основа постановки вопроса о социалистической революции у нас в России». Основной довод поражает явной несообразностью: если слабое развитие капитализма делает программу социалистической революции утопичной, то военное разрушение производительных сил должно не приблизить, а, наоборот, еще более отдалить эру социализма. На самом деле тенденция к превращению демократической революции в социалистическую заложена была не в военном разрушении производительных сил, а в социальной структуре русского капитализма. Эта тенденция могла быть вскрыта – и она была вскрыта – до войны и независимо от нее. Война придала, правда, революционному процессу в массах неизмеримо более быстрые темпы, но вовсе не изменила социального содержания революции. Надо, впрочем, сказать, что Сталин заимствовал свой довод из отдельных неразвитых замечаний Ленина, которые как бы имели своей целью примирить старые кадры с необходимостью перевооружения.
В прениях Бухарин пытался отстоять частично старую схему большевизма: в первой революции русский пролетариат идет рука об руку с крестьянством во имя демократии; во второй революции – рука об руку с европейским пролетариатом во имя социализма. «В чем перспектива Бухарина? – возражал Сталин. – По его мнению, в первом этапе мы идем к крестьянской революции. Но ведь она не может… не совпасть с рабочей революцией. Не может быть, чтобы рабочий класс, составляющий авангард революции, не боролся вместе с тем за свои собственные требования. Поэтому я считаю схему Бухарина непродуманной». Это было совершенно правильно. Крестьянская революция не могла победить иначе, как поставив у власти пролетариат. Пролетариат не мог встать у власти, не начав социалистической революции. Сталин повторял против Бухарина те соображения, которые впервые были изложены в начале 1905 г. и до апреля 1917 г. объявлялись «утопизмом». Через несколько лет Сталин забудет, однако, повторенные им на 6-м съезде аргументы и возродит вместе с Бухариным формулу «демократической диктатуры», которая займет большое место в программе Коминтерна и сыграет роковую роль в революционном движении Китая и других стран.
Основная задача съезда состояла в том, чтобы заменить лозунг мирного перехода власти к Советам лозунгом подготовки вооруженного восстания. Для этого необходимо было прежде всего понять происшедший сдвиг в соотношении сил. Общее направление сдвига было очевидно: от народа – к буржуазии. Но определить размеры перемены было гораздо труднее: только новое открытое столкновение между классами могло измерить новое соотношение сил. Такой проверкой явилось в конце августа восстание генерала Корнилова, сразу обнаружившее, что за буржуазией по-прежнему нет опоры в народе или партии. Июльский сдвиг имел, следовательно, поверхностный и эпизодический характер, но он оставался тем не менее вполне реален: отныне уже немыслимо было говорить о мирном переходе власти к Советам. Формулируя новый курс, Ленин прежде всего был озабочен тем, чтоб как можно решительнее повернуть партию лицом к изменившемуся соотношению сил. В известном смысле он прибегал к преднамеренному преувеличению: недооценить силу врага опаснее, чем переоценить ее. Но преувеличенная оценка вызвала отпор на съезде, как раньше на Петроградской конференции, – тем более что Сталин придавал мыслям Ленина упрощенное выражение.
«Положение ясно, – говорил Сталин, – теперь о двоевластии никто не говорит. Если ранее Советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти». Некоторые делегаты совершенно правильно возражали, что в июле временно восторжествовала реакция, но не победила контрреволюция и что двоевластие еще не ликвидировано в пользу буржуазии. На эти доводы Сталин отвечал, как и на конференции, аксиоматической фразой: «Во время революции реакции не бывает». На самом деле орбита каждой революции состоит из частых кривых подъема и спуска. Реакцию вызывают такие толчки со стороны врага или со стороны отсталости самой массы, которые приближают режим к потребностям контрреволюционного класса, но не меняют еще носителя власти. Другое дело победа контрреволюции: она немыслима без перехода власти в руки другого класса. В июле такого решающего перехода не произошло. Советские историки и комментаторы продолжают и сегодня переписывать из книги в книгу формулы Сталина, совершенно не задаваясь вопросом: если в июле власть перешла в руки буржуазии, то почему ей в августе пришлось прибегать к восстанию? До июльских событий именовали двоевластием тот режим, при котором Временное правительство оставалось лишь призраком, тогда как реальная сила сосредоточивалась у Совета. После июльских событий часть реальной власти перешла от Совета к буржуазии, но только часть: двоевластие не исчезло. Этим и определился в дальнейшем характер Октябрьского восстания.
«Если контрреволюционерам удастся продержаться месяц-другой, – говорил Сталин далее, – то только потому, что принцип коалиции не изжит. Но поскольку развиваются силы революции, взрывы будут, и настанет момент, когда рабочие поднимут и сплотят вокруг себя бедные слои крестьянства, поднимут знамя рабочей революции и откроют эру социалистической революции на Западе». Заметим: миссия русского пролетариата – открыть «эру социалистической революции на Западе». Это – формула партии в течение ближайших лет. Во всем основном доклад Сталина дает правильную оценку обстановки и правильный прогноз: оценку и прогноз Ленина. Нельзя, однако, не отметить, что в его докладе, как всегда, отсутствует развитие мысли. Оратор утверждает, провозглашает, но не доказывает. Его оценки сделаны на глаз или заимствованы в готовом виде; они не прошли через лабораторию аналитической мысли, и между ними не установилось той органической связи, которая сама из себя порождает нужные доводы, аналогии и иллюстрации. Полемика Сталина состоит в повторении уже высказанной мысли, иногда в виде афоризма, предполагающего доказанным то, что как раз требует доказательства. Нередко доводы сдабриваются грубостью, особенно в заключительном слове, когда нет основания опасаться возражений противника.
В издании 1928 г., посвященном 6-му съезду, читаем: «В члены ЦК избраны Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и др.» Рядом со Сталиным названы только трое умерших. Между тем протоколы съезда сообщают, что Центральный Комитет был избран в составе 21 члена и 10 кандидатов. В виду полулегального положения партии имена выбранных путем закрытого голосования лиц не оглашены на съезде, за исключением четырех, получивших наибольшее число голосов: Ленин – 133 из 134, Зиновьев – 132, Каменев – 131, Троцкий – 131. Кроме них были выбраны: Ногин, Коллонтай, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин, Артем, Урицкий, Милютин, Берзин, Бубнов, Дзержинский, Крестинский, Муранов, Смилга, Сокольников, Шаумян. Имена расположены в порядке полученного числа голосов. Из кандидатов удалось установить имена восьми: Ломов, Иоффе, Стасова, Яковлева, Джапаридзе, Киселев, Преображенский, Скрыпник. Из 29 членов и кандидатов только 4: Ленин, Свердлов, Дзержинский и Ногин умерли естественной смертью, причем Ногин был после смерти приравнен к врагам народа; 13 были приговорены официально к расстрелу и бесследно исчезли; двое, Иоффе и Скрыпник, были доведены преследованиями до самоубийства; трое: Урицкий, Шаумян и Джапаридзе не были расстреляны Сталиным только потому, что были ранее убиты врагами; один, Артем, пал жертвой несчастного случая; судьба четырех нам неизвестна. В итоге Центральный Комитет, которому суждено было руководить Октябрьским переворотом, почти на две трети состоял из «предателей», если даже оставить открытым вопрос о том, как закончили бы Ленин, Свердлов и Дзержинский».
Точность и далее остается важным достоинством книги: «3 августа закончился съезд. На другой день был освобожден из тюрьмы Каменев. Он не только выступает отныне систематически в советских учреждениях, но и оказывает несомненное влияние на общую политику партии и лично на Сталина. Они оба, хотя и в разной степени, приспособились к новому курсу. Но им обоим не так просто освободиться от навыков собственной мысли. Где может, Каменев притупляет острые углы ленинской политики. Сталин против этого ничего не имеет; он не хочет лишь подставляться сам. Открытый конфликт вспыхивает по вопросу о социалистической конференции в Стокгольме, инициатива которой исходила от германских социал-демократов. Русские патриоты-соглашатели, склонные хвататься за соломинку, усмотрели в этой конференции важное средство «борьбы за мир». Наоборот, обвиненный в связи с германским штабом Ленин решительно восстал против участия в предприятии, за которым заведомо стояло германское правительство. В заседании ЦИК 6-го августа Каменев открыто выступил за участие в конференции. Сталин даже и не подумал встать на защиту позиции партии в «Пролетарии» (так именовалась ныне «Правда»). Наоборот, резкая статья Ленина против Каменева натолкнулась на сопротивление со стороны Сталина и появилась в печати лишь через десять дней, в результате настойчивых требований автора и его обращения к другим членам ЦК. Открыто на защиту Каменева Сталин все же не выступил.
Немедленно же после освобождения Каменева из демократического министерства юстиции был пущен в печать слух о его причастности к царской охранке. Каменев потребовал расследования. ЦК поручает Сталину «переговорить с Гоцем (один из лидеров эсеров) о комиссии по делу Каменева». Мы уже встречали поручения такого типа: «поговорить» с меньшевиком Анисимовым о гарантиях для Ленина. Оставаясь за кулисами, Сталин лучше других подходил для всякого рода щекотливых поручений. К тому же у ЦК всегда была уверенность, что в переговорах с противником Сталин не даст себя обмануть.
«Змеиное шипение контрреволюции, – пишет Сталин 13 августа по поводу клеветы на Каменева, – вновь становится громче. Из-за угла высовывает гнусная гидра реакции свое ядовитое жало. Укусит и опять спрячется в свою темную нору» – и т. д. в том же стиле тифлисских «хамелеонов». Но статья интересна не только стилистически. «Гнусная травля, вакханалия лжи и клеветы, дерзкий обман, низкий подлог и фальсификация, – продолжает автор, – приобретают размеры, доселе невиданные в истории… Сперва намеревались испытанных борцов революции объявить германскими шпионами, когда это сорвалось – их хотят сделать шпионами царскими. Так людей, которые всю сознательную жизнь посвятили делу революционной борьбы против царского режима, теперь пытаются объявить… царскими слугами… Политический смысл всего этого очевиден: контрреволюционных дел мастерам во что бы то ни стало необходимо изъять и обезвредить Каменева, как одного из признанных вождей революционного пролетариата». К сожалению, эта статья не фигурировала в материалах прокурора Вышинского во время процесса Каменева в 1936 г.
30 августа Сталин печатает без оговорок неподписанную статью Зиновьева «Чего не делать», явно направленную против подготовки восстания. «Надо смотреть правде в лицо: в Петрограде сейчас налицо много условий, благоприятствующих возникновению восстания типа Парижской Коммуны 1871 года». Не называя Зиновьева, Ленин пишет 3 сентября: «Ссылка на Коммуну очень поверхностна и даже глупа… Коммуна не могла предложить народу сразу того, что смогут предложить большевики, если станут властью, именно: землю крестьянам, немедленное предложение мира». Удар по Зиновьеву бил рикошетом по редактору газеты. Но Сталин промолчал. Он готов анонимно поддержать выступление против Ленина справа. Но он остерегается ввязываться сам. При первой опасности он отходит в сторону.
О газетной работе самого Сталина за этот период сказать почти нечего. Он был редактором центрального органа не потому, что был писателем по природе, а потому, что не был оратором и вообще не был приспособлен для открытой арены. Он не написал ни одной статьи, которая привлекла бы к себе внимание; не поставил на обсуждение ни одного нового вопроса; не ввел в оборот ни одного лозунга. Он комментировал события безличным языком в рамках взглядов, установившихся в партии. Это был скорее ответственный чиновник партии при газете, чем революционный публицист.
Прилив массового движения и возвращение к работе временно оторванных от нее членов ЦК, естественно, отбрасывают его от той выдающейся позиции, которую он занял в период июльского съезда. Его работа развертывается в закрытом сосуде, неведомая для масс, незаметная для врагов. В 1924 г. Комиссия по истории партии выпустила в нескольких томах обильную хронику революции. На 422-х страницах IV тома, посвященных августу и сентябрю, зарегистрированы все сколько-нибудь заслуживающие внимания события, эпизоды, столкновения, резолюции, речи, статьи. Свердлов, тогда еще малоизвестный, называется в этом томе три раза, Каменев – 46 раз, Троцкий, просидевший август и начало сентября в тюрьме, – 31 раз, Ленин, находившийся в подполье, – 16 раз, Зиновьев, разделявший судьбу Ленина, – 6 раз. Сталин не упомянут вовсе. В указателе, заключающем около 500 собственных имен, имени Сталина нет. Это значит, что печать не отметила за эти два месяца ни одного из его действий, ни одной из его речей и что никто из более видных участников событий ни разу не назвал его по имени.
К счастью, по сохранившимся, правда, неполным, протоколам ЦК за семь месяцев (август 1917 г. – февраль 1918 г.) можно довольно близко проследить роль Сталина в жизни партии, вернее сказать, ее штаба. На всякого рода конференции и съезды делегируются, за отсутствием политических вождей, Милютин, Смилга, Глебов, маловлиятельные фигуры, но более приспособленные к открытым выступлениям. Имя Сталина встречается в решениях не часто. Урицкому, Сокольникову и Сталину поручается организовать комиссию по выборам в Учредительное собрание. Той же тройке поручается составить резолюцию о Стокгольмской конференции. Сталину поручаются переговоры с типографией по восстановлению центрального органа. Еще комиссия для составления резолюции и т. д. После июльского съезда принято предложение Сталина организовать работу ЦК на началах «строгого распределения функций». Однако это легче написать, чем выполнить: ход событий еще долго будет смешивать функции и опрокидывать решения. 2 сентября ЦК назначает редакционные коллегии еженедельного и ежемесячного журналов, обе с участием Сталина. 6 сентября – после освобождения из тюрьмы Троцкого – Сталин и Рязанов заменяются в редакции теоретического журнала Троцким и Каменевым. Но это решение остается лишь в протоколах. На самом деле оба журнала вышли только по одному разу, причем фактические редакции совершенно не совпадали с назначенными.






