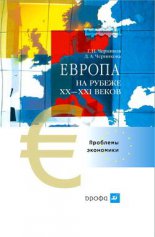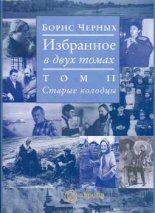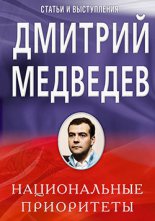Непарадигматическая лингвистика Николаева Татьяна

Предисловие
Эта книга – попытка рассказать о никем ранее не описанном пласте языка, который – в то же время – столетиями отмечали и видели, но старались не замечать или квалифицировать его единицы по-разному.
Почему?
Гораздо более глубоким, чем кажется, причинам этого, коренящимся не столько в языке, сколько, пожалуй, в языкознании, посвящена первая глава этой книги. «Неявный» (или все-таки явный?) смысл этой главы – обратить внимание лингвистов на асимметрические и во всяком случае не изоморфные отношения языка и языкознания как науки о языке, на не достигнутую пока возможность лингвистики отображать адекватно все проявления языка, кстати, вполне доступные для носителей языка в их перцепции и речепорождении. У первой главы есть и другая задача – обратить внимание лингвистов на их странную нелюбовь к этим элементам, то есть ввести в языкознание некий аспект саморефлексии.
Единицами этого языкового пласта являются те мелкие элементы, из которых состоит весь наш «коммуникативный фонд». Их любят называть частицами. В диахронических исследованиях любят говорить о «дейктических» частицах, как бы прячась за квалифицирующее прилагательное. Их также любят приписывать к какому-либо уже известному классу, делая из них почему-то «застывшие» его осколки.
Но все-таки, скажем, ли + бо, состоящее из двух таких элементов, не частица, а союз. Из двух таких же элементов состоит и кь + то, а это уже не союз, а местоимение. Из двух «частиц» может также складываться новая частица, например, да + же.
Что такое дейксис в глубокой диахронии, мы по сути не знаем. Поэтому в настоящей книге о дейксисе будет говориться с осторожностью.
В англоязычной литературе частицы называются particles, и по-другому их назвать нельзя. Русский язык, которому мы за это благодарны, позволяет иметь два термина: и частицы, и партикулы. Но эти партикулы – не таксономическая категория привычной языковой системы. Такой класс лингвистами не описан.
Поэтому был выбран именно этот термин: партикулы.
Какими же они бывают, если обратиться к самой приблизительной их квалификации?
Они бывают примарными, то есть функционирующими изолированно, и присоединяющимися (присоединившимися). Например, партикула а функционирует как самостоятельный союз русского языка, или как частица, или как междометие. Партикула ли функционирует как вопросительная частица в том же языке. Однако они могут присоединяться к чему-либо, например, партикула то может присоединяться к другим элементам, создавая местоимения: как определенные – не + кь + то, о + нь + то, так и вопросительные – кь + то, чь + то, или неопределенные – чь + то + то, кь + то + то и под.
В третьей главе нашей книги я постараюсь показать, как разнообразны способы склеивания и присоединения партикул друг к другу в славянском пространстве и какие классы слов (части речи) при этом возникают. Можно, таким образом, говорить о способах возникновения партикульных кластеров. Кластеры партикул обычно не очень интересны для языковедов, так как они прозрачны, их модели тяготеют к агглютинации. Однако в дальнейшем я постараюсь продемонстрировать тягчайшие таксономические трудности, возникающие при идентификации первичных партикул, от чего, в свою очередь, зависит и трактовка их кластеров. Заранее, однако, можно сказать, что чем «многоэлементнее» кластер, тем легче верифицировать его составляющие, но и тем труднее менять возможные варианты в его составе. Так, при начальном этапе верификации можно считать та и да вариантами одной партикулы. Но, например, в сочетании от + ту + да уже очевидно, что да не заменяется на та.
В истории языков (в книге в основном речь идет о славянском материале) соединения партикул как возникают, так и распадаются, выходят из употребления, переходят из литературного языка в нелитературные субдиалекты, сохраняются только в диалектах и так далее. Например, а + по, чешское ’да’, сохранилось, а русский союз и + но, как будто бы сходный по структуре, из употребления вышел. Соединения партикул напоминают детскую игру – «конструктор», или, точнее, «калейдоскоп», когда при повороте игрушки мы видим все новые сочетания и новые фигуры. Исходное число партикул, как будет видно далее, совсем не так велико, скудость партикульного репертуара очевидно и пугает лингвистов, но – как мы знаем из школьной математики – число их комбинаций, включая перестановки, огромно. Поэтому, конечно, язык использует только крошечную часть таких кластерных структур.
Интересно, хотя и с трудом доступно для понимания то, что примерно к ХУІ веку славянский «конструктор» понемногу перестает работать, и происходит следующее: а) сходные функции начинают выполнять слова не из партикульного фонда; б) новые комбинации партикул не возникают.
Однако любовь партикул к «приклеиванию» создает не только кластеры различной таксономической ориентации, она создает и гораздо более интересную для языковеда вещь – парадигмы.
Возникновение парадигм и их эволюция суть факты, связанные с общими загадками антропоцентрической ориентации языка, точнее, его существования.
За формированием парадигм стоит формирование мысли, ее движение, поскольку выбор флексии (а флексии и есть те же партикулы; как правило, те же в буквальном смысле) закрепляет правильное «определение» словоформы в пространстве языка и пространстве действительности. Кроме того, в компаративистике уже давно известен тот факт, что парадигмы разных таксономических классов часто формируются одними и теми же партикулами-флексиями, но воплощающими при этом разные категориальные установки. Это также говорит о том, что число партикул (флексий) изначально ограничено. А новые почему-то не возникают. И это при гигантском расширяющемся словаре знаменательных лексем.
Почему же все-таки, если мы говорим о парадигмах, эта книга называется «Непарадигматическая лингвистика»? Потому, что при формировании парадигм, то есть создании основы, а за ней и присоединении флексий, имеет место неслучайность выбора этих партикул-флексий. То есть осуществляется то, что я называю в своей книге «минисинтаксисом». Мысль эта не совсем новая. Отдельные намеки на сходную идею высказывались, например, по поводу окончания -*s в латинском domu-s, где флексия номинатива могла быть показателем определенности; та же мысль высказывалась и по поводу флексии 3-го лица единственного числа русского глагола: длае-тъ, то есть – это он делает, кто-то определенный. Значительное место в книге занимает и синтаксическая проблема появления / непоявления в речи русского я (при возможном его отсутствии), которое в течение столетий, как оказывается, «свернулось» из индоевропейской интродуктивной структуры со значением ’вот + он + я’. Разумеется, полностью реконструировать подобный «минисинтаксис» пока невозможно, но мне хотелось обратить внимание на его существование, доселе никем не описанное.
Лингвистика ХХ века, вплоть до последних его десятилетий, старалась отмахнуться и от существования партикул как отдельного класса, и от семантики «минисинтаксиса» при формировании парадигм. Почему? Этим причинам, как уже было сказано, посвящена в основном первая глава этой книги, где говорится и о тех причинах, которые обусловили именно такую эволюцию языкознания, и о некотором страхе перед двумя явлениями, которые, будучи признанными, могли бы многое изменить. Это неприятие диффузности первичных единиц языка, за которой неизбежно встает интерес к языковым первоэлементам, и, наконец, сложное отношение к вопросам о происхождении языка в целом.
Нелюбовь к этим проблемам в нашей отечественной науке вполне объяснима: они связываются почему-то обязательно с марризмом, навсегда ставшим (во многом справедливо) одиозным учением.
Таким образом, оказывается, что изучение языка в гораздо большей степени зависит от состояния и утановок языкознания, и эволюция языка постепенно превращается в историю языкознания. Связь между историей языка и историей языкознания, в той или иной степени отражающей собственно языковую историю, как правило, не изучается.
Гораздо больше внимания уделяется тем проблемам, о которых я говорила выше, в языкознании зарубежном. В книге поэтому активно цитируются работы Фр. Адрадоса и особенно К. Шилдза младшего, с которым я во многом согласна и труды которого старалась достать где только возможно.
Очень радостной была для меня полная поддержка практически во всех намеченных пунктах исследования Владимира Николаевича Топорова, даже поместившего, к моему изумлению, сообщенный ему план этой моей книги в специальной статье обо мне в 2003 году. Особенно приятно и важно мне было его согласие по поводу того, что у партикул «нет и не может быть этимологии». И очень жаль, что этого текста он уже не увидит.
Однако отправным толчком для всей этой многолетней работы была статья Вяч. Вс. Иванова 1979 года о крито-микенской акцентуации, и его последующие описания начального комплекса частиц в анатолийских языках, приведенные в его книге 2004 года, были в этом отношении позднейшей поддержкой.
Поэтому декларируется существование «никем ранее не описанного в полном виде языкового пласта» и делается попытка объяснить те причины, которые, на наш взгляд, отвращали лингвистов ХХ века от этих языковых элементов, именно в первой, начальной, главе.
Там же делается попытка сравнения данных индоевропейских языков и партикульного фонда языков неиндоевропейских (в основном, финно-угорских, где партикулы – «служебные слова» и местоимения – были достаточно подробно описаны в книге К. Е. Майтинской).
Совсем иное отношение к партикулам, тогда еще так не именуемым, было в ХІХ веке и в начале ХХ века у классиков младограмматики и идеологически примыкающих к ним знаменитых лингвистов до-структуралистской поры. Так как пройти мимо их описаний было по этой причине невозможно, то глава вторая монографии, целиком посвященная таксономической функции партикул, иначе говоря, формированию парадигм с их помощью, неизбежно во многом носит обзорный характер. Анализируются подходы Фр. Боппа, К. Бругманна, Б. Дельбрюка, Я. Ваккернагеля, Фр. Шпехта, Х. Хирта и, конечно, взгляды более современных языковедов. Во всех возможных случаях читателю предлагаются сводные таблицы, демонстрирующие различие языковедческих подходов к одним и тем же явлениям. В этом своем обращении к «старым мастерам» я не одинока. См., например, у того же К. Шилдза: ««The new i» of Indo-European morphology – the theoretical viewpoint that the inflectional complexity associated with the traditional Brugmannian reconstruction of Indo-European should be ascribed only to developments within the period of accelerated dialectal differentiation)) [Shields 2001: 166]. Жаль только, что это большое и новое направление грамматической теории не нашло пока отклика в нашей отечественной лингвистике.
Неизбежно всякий, обращающийся к партикулам, должен, в свою очередь, обратиться к клитикам и постараться в меру сил разобраться в глубинной сущности этого промежуточного класса. Примечательно, что интерес к ним снова вспыхнул в последние десятилетия как в зарубежной лингвистике, так и у нас, породив увлекательные и доказуемые гипотезы А. А. Зализняка о важности этого языкового пласта для описания языка русского Средневековья и верификации через этот класс древних текстов, включая доказательства хронологической аутентичности многострадального «Слова о полку Игореве».
Таким образом, раздел «Клитики. Что это такое?» является центром второй главы – в той же мере, как и центральны по сути сами клитики. Я была также вынуждена обратиться к «закону Ваккернагеля», стремительно завоевывающему внимание языковедов последних десятилетий. Однако в связи с поставленной в данной книге задачей обращение к закону Ваккернагеля требовало экспериментального подхода. Поэтому в конце раздела «Клитики» представлено сравнение примыкания местоимений к глаголу и имени в русском и немецком языках (так как в современном немецком принято различать «слабые и сильные» формы полных местоимений, и важно было сопоставить эту бифуркацию с русскими данными) с примыканием клитик в болгарском, наиболее «клитичном» языке из описываемых лингвистами.
Вторым центром второй главы можно считать описание и трактовку взглядов на два партикульных элемента: *-s и *-t, представляющих, если взглянуть обобщенно, парадигматический центр генерирования индоевропейской грамматики. Этим двум элементам также посвящен специальный раздел. Как мне кажется, разгадка выбора этой консонантной пары в глубокой древности и ее позднейшей парадигматической дистрибуции ведет к каким-то глубоким открытиям в области языковых истоков и языковой коммуникации. И здесь я благодарна Вячеславу Всеволодовичу Иванову, прочитавшему этот раздел и сделавшему мне ряд очень важных замечаний и дополнений.
Эти две консонантные опоры также исследуются экспериментально-фонетически.
Таким образом, текст второй главы монографии включает в себя одновременно и обзорный компонент, и экспериментально-фонетические исследования.
Собственно грамматика партикул славянского пространства описывается в третьей главе нашей монографии.
Естественно, что эта грамматика охватывает только слова коммуникативного фонда – междометия, частицы, союзы, местоимения, местоименные наречия. Описывать же всю славянскую парадигматику означало бы дать заявку на демонстрацию грамматик всех славянских языков. А на это книга не претендует.
В третьей главе наиболее важным является выделение примарных общеславянских партикул. Согласно введенным мною правилам, такие партикулы должны удовлетворять трем требованиям: а) быть представленными во всех славянских языках; б) входить в качестве опоры в деривативные цепочки того же партикульного фонда; в) употребляться в качестве изолированной языковой единицы. В течение столетий раздельного языкового существования славянские языки во многих случаях утратили (стерли) следы былого парадигматического центра (уже упомянутой выше пары *-s/*-t), которые восстанавливаются – совместно или по отдельности – языковедами-историками. Поэтому славянские данные приходится описывать на уровне эмпирии сегодняшнего дня. Это во-первых.
Во-вторых, в пределах славянского грамматического пространства разбросано множество примарных партикул, которые удовлетворяют требованиям б) и в), но не удовлетворяют требованию а), то есть не являются общеславянскими. Такие примарные партикулы также описаны в третьей главе, но особо.
В третьей же главе анализируются партикульные кластеры, воплощающие в славянских языках таксономически разные категориальные классы. Показывается, как из партикул, комбинирующихся попарно, возникают местоимения: вопросительные, неопределенные, указательные, местоименные наречия, частицы и союзы. Очень явным при этом становится процесс грамматикализации: видно, как партикулы, изначально обладающие диффузной семантикой, или, скажем, семантикой неопределимой, будучи соединенными в пары, приобретают более отчетливое значение или даже значение категориального класса. Например, таково значение *-гпъ (о) в кластерах тамь/тамо, овамь/овамо, сямь/сямо и т. д. Это уже ясно очерченный в языке показатель направления, пространственный квантификатор. То же можно сказать о партикуле *-de, которая, правда, колеблется в славянском пространстве между пространством и временем, что само по себе достаточно интересно. Ср. русское гь + де ’где’ и чешское кь + de ’когда’. Естественно, что при увеличении числа партикул в кластере, грамматикализация их (обычно начиная от конца слова) постепенно увеличивается.
Однако при обращении к реальному словнику партикульного фонда славянских языков (а не на уровне общетеоретической программы) возникают столь же реальные трудности идентификации партикул, когда нужно решить вопрос о том, что необходимо считать в ряде случаев алловариантами, а что – принципиально разными партикулами. Вопрос этот относится как к обобщению / различению глухих и звонких консонантных исходов, так и к различению / неразличению партикул с разными вокальными исходами при одной и той же консонантной опоре. Этим, не всегда преодолимым для современной лингвистической теории, проблемам посвящен особый раздел третьей главы.
Заключают текст монографии краткие Выводы. В монографии имеется также пакет Приложений:
Приложение № 1 – перечень общеславянских примарных партикул;
Приложение № 2 – перечень не общеславянских (то есть распределяющихся по отдельным славянским языкам) примарных партикул;
Приложение № 3 – перечень славянских местоимений, состоящих из набора партикул;
Приложение № 4 – общий словник партикульного фонда славянских языков;
Приложение № 5 – набор партикульных кластеров из 10 русских партикул: возможное и реализовавшееся (компьютерная версия).
Глава первая
Теоретические предпосылки
§ 1. Существует ли никем не описанный пласт языка?[1]
Всякий, кто имеет дело, например, со славянскими языками или даже просто с русским языком (родным языком исследователя), не может не заметить, что подавляющее большинство слов так называемого «коммуникативного фонда» состоит из мелких частичек, видимо, комбинирующихся в соответствии с некоей грамматикой порядка, представленных почти на всем пространстве Terra Slavica, имеющих одно (часто смутно) определимое значение в изолированном виде и совсем иное значение – в зависимости от типа их комбинаций. Это, например, ли, входящее в ряд: и + ли, ли + бо, а + ли, то + ли, у + же + ли и т. д. Это также и къ, входящее в ряд: къ + то, къ + jь, н + къ + то и т. д. Примеры эти можно умножать, почти играя в какую-то игру. Так, и входит в ряд: и + же, и + ли, и + то, и + но (устар.), а а входит в ряд: а + же, а + по, а + ж + но и т. д. Создается впечатление чего-то близкого к детским играм вроде кубиков, конструктора или даже калейдоскопа, о чем уже мы писали в Предисловии.
Если обратиться к пространству славянского континуума, то легко увидеть, что большинство таких частичек и/или их комплексов совпадает в славянских языках либо полностью, либо легко пересчитывается по правилам фонетики. Но при этом – от языка к языку – они могут различаться функционально. Они могут различаться по степени принадлежности к языку литературному, к диалекту, к языку жаргонному, то есть быть фактом литературного языка, фактом того или иного диалекта, фактом просторечия. Они могут быть графически контактными в одном языке и дистантными – в другом. Однако несомненно то, что внутри славянского языкового континуума (как я постараюсь показать далее, с возможным выходом в более глубокие индоевропейские общности) существует практически единый набор таких простейших частичек и довольно единообразно работающий «порождающий конструктор», создающий комплексы из них. Несомненно и то, что отрицать существование этого фонда уже невозможно.
Нельзя отрицать также, что лингвистика по неким глубинным причинам, о которых я буду говорить подробнее в следующем параграфе, не описывает перечень этих частичек (их «словник»), правила их комбинации, их ареальные преференции. Однажды мне довелось делать доклад о таких частичках, и самый важный вопрос из заданных мне был таким: «А к какой части речи они относятся, в какой уровень языка они входят?» Честным был только один ответ: «Ни к какой и ни в какой». И на это я услышала ответ лингвиста: «Так не бывает». За этим моим ответом стоит многое. Прежде всего – сам по себе достаточно пугающий намек на то, что лингвистика не умеет описывать все; что в языке есть недоступные для современной лингвистической теории пласты, однако вполне доступные и понятные для носителя языка. Тем самым ставится вопрос о неадекватности (а не только о недостаточности) соотношения метаотображения и восприятия.
Особенностью описываемых элементов (частичек) является то, что многие из них вполне известны языковедам как в единичном виде, так и в комбинации и входят в каноны Академических грамматик. Это, например, союзы: а, и, но, да, или, либо и др.; это частицы: то, же, даже, уже, ти, это, вонъ, вотъ; это местоимения: къто, кътото, иже, нкъто; это наречия: тамъ, тутъ, здесь < сь + де + сь и т. д. Однако приписать их к какому-то одному классу или к одной части речи не оказывается возможным. Возможным оказывается только более или менее обширное их пересечение с уже известным классом слов.
Например, таксономически их обычно связывают с так называемыми «дискурсивными словами»; однако отнюдь не все дискурсивные слова соотносятся с этим набором. Так, в частности, авторы статей в сборнике «Дискурсивные слова русского языка» [Дискурсивные 1998] включают в их число такие слова, как по меньшей мере, наоборот, еще раз, впрочем и др., которые не состоят из подобных частиц; но все-таки в этом же списке находим и упомянутые частицы вроде: только < то +ли + ко, дай < да + и, не + у + же + ли, не + бо + сь и под.
Их предлагают также отнести к общей категории «незнаменательных слов», но и тут область незнаменательных слов пересекается с областью этого фонда лишь частично, поскольку в класс незнаменательных слов входят, например, предлоги, на подобные частички не разлагающиеся и имеющие иную языковую историю.
Значительное число этих единиц вводят в классы местоимений и частиц. И здесь, однако, мы можем найти исключения. В частности, не из таких частиц состоят [кто]-нибудь, пусть, пускай, нехай.
Например, в составе «Словника частиц», представленного в «Словаре русских частиц» Э. Шимчук и М. Щур [Шимчук, Щур 1999: 24], мы находим частицы, не восходящие к этому фонду: буквально, вправду, впрямь, вообще, исключительно, попросту и т. д.
Наконец, некоторые первичные частички часто выступают в роли союзов. Но исключений достаточно и тут. Возьмем хотя бы союз хотя. И класс междометий тоже включает в себя значительное число таких частиц. И тоже не совпадает с ними полностью, например: Ах!, Ох!, Увы! и т. д.
Предельно простая фонетическая структура многих таких элементов – а они состоят либо из одного гласного (V), либо из комплекса: консонант + вокал (CV)[2] – может привести к мысли о их таксономическом соответствии слогам языка. Но и это неверно, так как существуют слоги, не имеющие аналога среди фонда таких частичек, однако знаменательные слова распадаются на них легко, например: хо-ро-шо.
Традиционно подобные «частички» относили к частицам. Однако, как мы уже показывали, в разряд частиц языка входят слова совсем другого происхождения. Англоязычная традиция, например, называет частицами (particles) и глагольные «расширения» типа off, up, over и т. д. Например:
a. John picked up the book
b. John picked the book up [Gries 1999].
Эпиграфом к специальной статье, посвященной частицам и их «грамматике», Г. Дункель [Дункель 1992] поставил удачные слова К. Бругмана: «Праиндоевропейские частицы с точки зрения их этимологии, формальных признаков и исходного значения в массе своей остаются в большей или меньшей степени неясными». Далее Г. Дункель пишет о назревшей необходимости реинтерпретировать многие частицы – «не только морфологически, но и семантически». Однако и он включает класс частиц в уже существующий набор индоевропейских классов морфем: корни (К), суффиксы (С) и окончания (О). К частицам он относит также превербы и предлоги. На ряде важных положений Г. Дункеля, в частности о позиционном распределении частиц и о правилах их комбинирования, я остановлюсь в дальнейшем. Важно сейчас отметить, что он находит «совершенно не поддающиеся анализу формы (*r, *gho, *no/ne)» [Дункель 1992: 17] и что «именно здесь мы доходим до наиболее раннего пласта» [Там же]. Понимая, что частицы представляют собой некий, по сути, неясный для таксономии класс (см. об этом ниже), Г. Дункель все же придерживается наиболее удобной теории –частицы есть нечто «застывшее», и осторожно называет «преувеличением» более крайние точки зрения на них – например, Г. Швицера: «Для развития древнейших частиц более поздние частицы, которые явно представляют собой окаменевшие падежные и глагольные формы, не могут служить аналогией», – а также считает преувеличением гипотезу об изначальной односложной структуре частиц (гипотеза излагается у Г. Дункеля без ссылки. – Т. Н.), которая привела бы «к необходимости признать, что все двусложные частицы являются фактически производными (т. е. представляют собой цепочку частиц)» [Дункель 1992: 23].
Наиболее откровенное неприятие частиц как самостоятельного слоя языка находим у Т. Ван Баара [Van Baar 1992]. Признавая, что частицы всегда были и остаются проблематичной и пренебрегаемой лингвистами сферой изучения, он все же предлагает для них некоторую дефиницию: «Particles are only negatively defined: grammatical elements are only particles if they do not belong to any of the other parts of speech» [Van Baar 1992: 260]. [«Частицы можно классифицировать только негативно, а именно – грамматические элементы только тогда являются частицами, если они не принадлежат ни к какой другой части речи».]
И все же Ван Баар предлагает для частиц в плане выражения два релевантных признака: 1) они всегда моносиллабичны; 2) они никогда не приобретают «нормального» ударения.
Определение статуса частиц А. Звики [Zwicky 1985], который наиболее подробно, по сравнению с многими другими лингвистами, занимался и частицами, и клитиками, немного напоминает известную ироническую формулу «Этого не может быть, так как этого не может быть никогда!». Частицы, по его мнению, не входят в «по-уровневую» грамматику, но и не составляют отдельного грамматического класса: «There is no grammatically significant category of particles <…> here is no particle level in the hierarchy of grammatical units» [Zwicky 1985: 292]. [«Не существует грамматически значимой категории частиц <…> в иерархии грамматических единиц такого уровня, как уровень частиц, нет».] Таким образом, напрашивается признание того факта, что частицы не принадлежат ни к какой синтаксической категории («that they are acategorical»). Но такого ведь, по его мнению, быть не может («there are no acategorical words»), поэтому А. Звики придумывает для них особое название «дискурсивные маркеры» и тем самым не оставляет их лингвистически беспризорными.
Общее же впечатление от работ, посвященных «частицам», состоит в том, что в языкознании существует некое внутреннее (глубинное?) неприятие тех явлений языка, которые стоят за ними как за обобщенным классом, нисколько не противоречащее, однако, лексикографическому удовольствию от анализа отдельных «частиц». В конечном итоге интерес иногда вызывают и вопросы их происхождения: частицы ли произошли из местоимений, местоимениями из частиц? что такое флексии – застывшие местоимения? активные частицы-энклитики? что значат «темы», «расширители» и т. д.?
Частицы, восходящие к древности, принято называть «дейктическими». Сама теория указания как особого коммуникативного поля достаточно давно представлена еще К. Бюлером [Бюлер 1993]. Он считает, что «в языке есть лишь одно-единственное указательное поле, семантическое наполнение указательных слов привязано к воспринимаемым указательным средствам и не обходится без них или их эквивалентов». Всего К. Бюлер видит три способа употребления указательных слов: применение непосредственно, ad oculos, анафорически и как «дейксис к воображаемому» [Бюлер 1993: 75]. К. Бюлер четко различает слова указательные и слова назывные. В помощь первым может привлекаться как зрительный момент (например, длительный взгляд, устремленный на собеседника), так и звуковой (например, один слепой знакомый К. Бюлера никогда не ошибался, если в беседе обращались именно к нему, даже не называя его по имени). Самое существенное, что К. Бюлер не описывает указательные слова, так сказать, лексикографически, а связывает их в некие пучки, например: ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС – Я; Я – Ты и т. д. Замечательно и то, что К. Бюлер все время, по сути, взывает к тому, что не только назывные слова передают необходимую для человека коммуникативную информацию, а значительная часть сведений передается тем, что назывется ad oculos и ad aures.
Однако тенденция к секуляризации чисто указательных слов видна в современной лингвистике и в функциональном плане. Так, большая обобщающая статья К. Киселевой и Д. Пайяра [Киселева, Пайяр 2003] посвящена глубокому анализу сути функционирования дискурсивных слов, но только внутри этого пласта как такового, то есть без обращения к другим языковым уровням и без сравнения с ними.
Как будет видно из анализа славянского материала, представленного в третьей главе настоящей книги, в наибольшей степени функционально нагруженными являются частицы-партикулы с консонантной опорой[3](-*s) и (-*t). Они могут выражать неопределенность: русское къ + то + то, чь + то + то; с другой стороны, могут выражать определенность: определенный постпозитивный артикль в болгарском языке или постпозитивный член в севернорусских говорах. Ср. также русское се, сей (сего-дня) и польское kto (’какой-то’). Эта разошедшаяся по родственным языкам семантическая амбивалентность говорит о первичной энантиосемии частиц с указанной консонантной опорой и тем самым об их древности. Безусловно, они восходят к древнейшим элементам *so, *tod, по поводу которых существует большая специальная литература и о которых мы будем говорить в последнем параграфе главы второй.
То, что эти две основы являются ведущими для индоевропейской системы в целом, подтверждает и Фр. Адрадос [Adrados 2000], об идеях которого также будет говориться ниже. Он считает, что элементы -*so, – *to впоследствии эволюционировали во множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства.
Происхождение и дистрибутивное функционирование этих двух индоевропейских «местоимений» трактуется по-разному, и целесообразно именно здесь также представить эти разные трактовки – не потому, что автор хоть в какой-либо степени претендует на окончательный вывод, а потому, что эти различия связаны с общим отношением к происхождению и деятельности «частиц». (Во второй главе будет представлен ряд экспериментально-фонетических доказательств.)
У «классиков» индоевропеистики, Б. Дельбрюка и К. Бругманна, *s и *t считались двумя воплощениями одного и того же элемента, с различием в парадигматической дистрибуции, а именно: в именительном падеже многие индоевропейские языки выбирают s-основу, а в косвенных падежах – основу на t-. Однако в литовском и славянском «nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrngt worden ist» [«только в этих языках S-основа была вытеснена T-основой»] [Delbrck 1893: 510][4].
Э. Стертевант в 1939 году[5] предположил, что оба эти «местоимения» восходят к «индо-хеттским» конгломератам союзов. При этом союз *so употреблялся в предложениях без замены субъекта, а *to – в предложениях с заменой субъекта. Союз *so был в дальнейшем реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. «Индо-хеттские» конгломераты в индоевропейских языках приобретали значение местоимений, тогда как в хеттском они сохраняли свое древнейшее значение. Эта гипотеза была отвергнута Х. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, тогда как сочинительные союзы типа хеттского nu , ta, su возникают значительно позднее[6]. Т. В. Гамкрелидзе также опровергает гипотезу Э. Стертеванта в целом [Гамкрелидзе 1957], оперируя фактами хеттского синтаксиса, где фактор замены или незамены субъекта не связывается с типом союза. Г. Дункель [Дункель 1992] в свою очередь обращается к анализу форм *s/su в среднеиндоевропейском языке, которые представлены в синтаксисе параллельно формам *to/te. При этом, по его мнению, существовало лчное местоимение 3 лица единственного числа, начинавшееся на *s (форма *si при этом передавала женский род в отличие от неженского *so). Ортотонические формы (т. е. ударные) были связаны с консонантной опорой на *t, а энклитические – с консонантной опорой на *s.
Есть и другая трактовка этих форм, которую можно назвать фонетической [Schrijver 1997], а именно: дейктическое so синонимично формам sa (после непалатальных звуков) и se (после палатальных). П. Схрайвер считает оба местоимения членами единой парадигмы, сохраненной в большинстве индоевропейских языков, в которых все флективные формы, кроме номинатива, начинаются (начинались) с консонанта *t.
Эти элементы, по мнению некоторых исследователей, связывают местоимения и существительные. См. у О. Семереньи: «В последнее время вновь оживленно дискутируется другой вопрос, а именно: каким образом женский род выделился из класса одушевленных. При этом в большинстве случаев наблюдается возврат к старой точке зрения, которая состояла в том, что общее развитие -– и -і– как признаков женского рода восходит к местоимению (например, *s и *si). В то же время сами местоимения были образованы по образцу некоторых существительных, которые имели подобные окончания случайно (например, *gwen ’ женщина’» [Семереньи 1980: 168].
Есть и более откровенные и честные признания: «элемент -s стоит совершенно вне системы и его происхождение неясно» (Коугилл, цит. по: [Шмальштиг 1988: 283]).
К. Шилдз [Шилдз 1988] считает, что местоименная форма на *so использовалась по отношению к существительным, когда необходимо было передать функцию эргативности, а форма *tod привлекалась, когда необходимо было указание на абсолютный падеж. Он демонстрирует наглядно то, сколько ученых лингвистов бились, приписывая это *s то одному, то другому грамматическому классу. Говоря более точно, можно сказать, что это никуда не укладывающееся и мучительное для языковедов *s как бы скользило по нарождающейся грамматической системе, «приклеиваясь» то к одной, то к другой грамматической форме. Так, оно приобретает статус флексии имен одушевленного класса, заменив собой ноль. Полагая эту форму рефлексом более древнего
деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, К. Уоткинс считает, что *s вскоре стал использоваться в функции показателя 3-го лица глагола. По его мнению, происхождение *s следует искать в сочетании глагольного корня с конечным расширителем, это было просто «фонетическое добавление». К этому «расширителю» Уоткинс возводит суффикс аориста, но сначала «расширитель не имел значения». Это же *s используется как показатель 2-го лица во многих индоевропейских языках, а в тохарском – как показатель третьего лица. К. Шилдз описывает дальнейшую историю этого элемента так: *s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3-го лица единственного числа стал формант *t и, таким образом, функции *s были ограничены 2-м лицом [Шилдз 1988: 241—245]. Все эти гипотетические построения показывают только одно: они демонстрируют зыбкость появления первых грамматических форм, неустойчивость ранних парадигм, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы.
Именно поэтому моя монография и имеет вторую часть названия, точнее, подзаголовок: «История блуждающих частиц».
За всеми этими описанными выше построениями просматривается еще одна тенденция: сохранить для раннего этапа развития языка выведенные позднее частеречные таксономии. Для лингвистов современной традиции аморфные и диффузные по семантике элементы не могут априори присоединяться в виде флексии, поэтому флексии в лучшем случае могут быть хотя бы местоимениями. Частицы также обязаны быть классом слов, вписывающимся в общую частеречную таксономию. Однако стройность порождающего этот не описанный класс языковых единиц «конструктора», простота выделения его компонентов и их структурная связанность друг с другом очевидны.
Именно поэтому я не хочу в дальнейшем говорить о таком многолетнем и все же неприкаянном термине, как «частицы», и тем самым использовать этот термин в качестве базисного, по-скольку речь не пойдет о словах типа исключительно, просто и под., а о компонентах этого прозрачного и ни разу никем не собранного «конструктора». Эти компоненты-частички я буду в дальнейшем, как я уже говорила, называть партикулами, поскольку русский язык как будто специально для подобного описания позволяет различать партикулы и частицы (см. в Предисловии).
Итак, специально партикулами как отдельным и как будто бы легко – на поверхностном уровне – выделяющимся классом до сих пор никто не занимался: их или включали в класс частиц вообще, или рассматривали как факт глубокой индоевропейской древности, потом превратившийся в нечто другое. И тут таксономическая ориентация буксовала: то ли они сами являлись окаменелыми реликтами местоимений, то ли, напротив, именно они превращались в местоимения. В презумпцию обязательности входила также разновременность и разнофункциональность существования «частиц» и союзов.
Как представляется, метатеоретический выход был найден не сразу, но он оказался достаточно простым. Его можно найти в работах таких индоевропеистов, как Ф. Адрадос, У. Леман, У. Марки и, в особенности, К. Шилдз младший, чьи взгляды полностью совпадают с взглядами автора настоящей монографии[7].
Прежде всего нужно назвать широко цитируемую статью Ф. Адрадоса «The new Image of Indoeuropean. The History of a Revolution» [Adrados 1992]. В ней прямо говорится о том, что «типично» реконструируемый индоевропейский есть индоевропейский позднейшей праязыковой стадии, построенный с опорой на древние флективные языки. См. удачное определение «типичных» реконструкций праиндоевропейского, сделанное В. Пизани [Пизани 1956: 164]: «Большинство рассмотренных до сих пор исследований страдает одним пороком: они все исходят из такого восстановленного «индоевропейского языка», который по характеру представлений о нем напоминает латинский язык учебника для средней школы».
Ф. Адрадосом же выстраивается трехступенчатая модель эволюции «индоевропейского»:
1) до-флективный индоевропейский (pre-inflexional). Стадия I;
2) хеттско-анатолийская стадия (язык при этом monothematic). Стадия II[8];
3) политематический язык «типичной» реконструкции. Стадия III.
Работа Ф. Адрадоса была очень «своевременной», хотя мысли о до-флективной стадии индоевропейского высказывались ранее и Вяч. Вс. Ивановым [Иванов 1965: 51], и В. Шмальштигом [Schmalstieg 1980].
Хотя в работе Ф. Адрадоса есть много важных для нашей темы наблюдений (например, прямо говорится о том, что вторичные индоевропейские глагольные окончания: *-mi, *-si, *-ti, *-nti отличаются от первичных: *-m, *-s, *-t, *-nt именно на дейктическую частицу *-i), все же в ней больше говорится об отличиях Стадии II от Стадии III, что для автора, очевидно, более важно. Однако существен сам прокламируемый факт – то, что Стадия I отражает язык до-флективный, до-парадигматический. Естественным выводом из положений Ф. Адрадоса является вывод о возможности до-флективного равенства всех членов индоевропейского высказывания эпохи «Стадия I». Тем самым отпадает необходимость обязательности выведения одной части речи из другой.
К. Шилдз, опираясь на еще более ранние статьи Ф. Адрадоса, повторяет вслед за ним, соглашаясь, идею о том, что до-флективный индоевропейский и протоиндоевропейский «состоял из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения» [Шилдз 1990: 12][9]. «Грамматическими» средствами при этом являлись: порядок слов, расстановка ударения и некоторые расширители. К. Шилдз оддерживает и гипотезу В. Георгиева о моносиллабичности языка этой Стадии[10].
Итак, присматриваясь к этой гипотезе, мы видим язык по преимуществу моносиллабический, где есть только два класса: будущие слова «знаменательные» и будущие слова «дискурсивные». Именно этим последним и посвящена настоящая монография, цель которой – постараться если не доказать, то хотя бы убедить в том, что Стадия I в нас еще жива и проступает в виде «скрытой памяти».
В статье, посвященной типологии и ее роли в реконструкции, К. Шилдз идет дальше своих предшественников [Shields 1997] и снимает обязательность типологического присутствия в настоящем для реконструкции языка древнейшего периода: «Typology should never be the primary basis for a linguistic reconstruction» [Shields 1997: 372] [«Типология не должна быть отправной базой для лингвистической реконструкции»]. В более поздней статье [Shields 1998] К. Шилдз настаивает на медленности – в большей степени, чем обычно предполагается – процесса превращения «энклитических» частиц и их комбинаций в слова с той или иной грамматической функцией [Shields 1998: 48].
Однако нужно признать, что в настоящее время определить точно, что именно означали те или иные партикулы в языке Стадии I или в еще более раннее время, мы не можем. Или, говоря иначе, при любой попытке это сделать такое определение всегда будет некорректным. Во всех изученных мною исследованиях, как уже говорилось, партикулы подобного рода именовались «дейктическими частицами». Потом, как пишет тот же К. Шилдз [Шилдз 1990: 14], эти демонстративы постепенно теряют свою функциональную силу и вынуждены комбинироваться в цепочки (обо всем этом применительно к славянскому материалу будет говориться в книге далее).
И все же. Не следует забывать, что само понятие дейксиса – это понятие метатеоретически позднее. См. определение дейксиса в самом общем виде, данное Ю. Д. Апресяном [Апресян 1997: 285]: «… основное свойство всякого дейксиса. Этим свойством является либо совпадение (для Я-дейксиса), либо несовпадение пространственно-временных координат описываемого факта, как их мыслит говорящий, с теми пространственно-временными координатами, в которых говорящий мыслит себя».
Более глубокий анализ пространства партикул, как представляется, может вывести их исследователя не на дейксис, так сказать, в «чистом виде», а на некоторое общее и семантически диффузное свойство первичных частичек-партикул: на более общее указание о сообщаемом факте, предмете или действии (еще раз нужно сказать, что все они могли тогда и не различаться как таковые), а не только на их качество в виде древних демонстративов – дейктических элементов в современном нашем понимании. В этом смысле словосочетание «дейктические частицы» можно рассматривать как некое металингвистическое клише вроде «логического ударения».
Вяч. Вс. Иванов полагает, что в эволюционном процессе имена собственные опережают личные местоимения, он пишет о речевом поведении «маленьких детей, которые предпочитают не использовать эгоцентрические слова и испытывают большие трудности в связи с употреблением личных местоимений-шифтеров, по Якобсону, соотносящих сообщение с актом речи и кодом. Употребление собственных имен, согласно сказанному выше, соответствует более ранним эволюционным возможностям» [Иванов 2006: 356][11]. Может показаться, что дальше он противоречит сам себе, объявляя первичными жестовые зрительные сигналы: «Представляется возможным, что жесты у далеких предков человека сосуществовали с относительно небольшим числом звуковых сигналов, сходных с теми, которые обнаруживаются у высших млекопитающих. Но эти сигналы еще только находились на пути превращения в фонемы устного языка. Общее происхождение последнего и жестового общения, быть может, отражается в недавно установленных фактах, показывающих связи современного языка жестов с левым (доминантным) полушарием» [Иванов 2006: 361]. На самом деле эти два положения Вяч. Вс. Иванова блестящим образом демонстрируют принципиальную невозможность объявлять партикулы «застывшими местоимениями».
Нужно отметить, что идея о «дофлективном» существовании протоиндоевропейского высказывалась и классиками ХІХ века. Первым в этом отношении был, конечно, Франц Бопп, о котором все знают и учат его имя с юных лет, но мало ссылаются и, вероятно, мало читают. По сути Бопп высказывает те же идеи, которые Ф. Адрадос и К. Шилдз декларируют как «революции» в реконструкции индоевропейского. См. у Франца Боппа эти идеи, воспринимающиеся по принципу «новое – это хорошо забытое старое» [Bopp 1833: 14]: «Es gibt im Sanskrit und mit ihm verwandten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba und Nomina (Substantive und Adjective) welche mit Verben in br?derlichem, nicht in einem Abstammungs-Verh?ltnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ihnen aus demselben Schosse entsprungen sind. Wir nennen sie jedoch, der Unterschejdung wegen, und der herrschenden Gewohnheit nach, Verbal-Wurzeln (…) Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urprpositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese «Pronominalwurzeln», weil sie smtlich einen Pronominalbegriff ausdrcken, der in den Prpositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt». [«В санскрите и в родственных ему языках существует два класса корней; из одного, более распространенного, возникают глаголы и имена; последние находятся с глаголами в родственных, если даже не сказать обменных, отношениях, не возникая из них, но происходя из одной и той же основы. Мы называем их, ради различия и следуя традиции, глагольными корнями. (. ) Из другого класса выходят местоимения, все древние предлоги, союзы и частицы; мы называем этот класс «местоименные корни», поскольку они все в той или иной мере выражают некую местоименную семантику, которая спрятана в предлогах, союзах и частицах».]
Древнейшее состояние индоевропейского описывает также и К. Бругманн, но описывает его, так сказать, с прямо противоположных позиций, т. е. считает всю эволюцию протоэлементов шагом к знаменательным словам: «Wir haben fr unsern Sprachstamm eine Periode vorauszusetzen, in der den Wrtern noch keine suffixalen und prefixalen Elemente fest anhafteten. Die Wortformen dieser Periode bezeichnet man als Wurzeln und spricht demgemss von einer Wurzelperiode der idg. Sprachen. Sie lag weit zurck hinter dem Entwicklungsstadium, dessen Formen wir durch Vergleichung der einzelnen idg. Sprachzweige zunchst zu erschliessem vermgen, und das man die idg. Grundsprache schlechthin zu nennen pflegt» [Brugmann 1897: 33]. [«Для нашего языкового состояния мы восстанавливаем тот период, когда слова не присоединяли к себе «накрепко» суффиксальные или префиксальные элементы. Словоформы этого периода можно описать как корни и потому нужно говорить о периоде корней у индоевропейских языков. Это ведет нас к далекой исходной стадии, формы же сами восстанавливаются при сравнении языков индоевропейских ветвей, и такое именно состояние мы можем назвать индоевропейским языком-основой».]
Таким образом, мы можем видеть, что победа «по-уровневой» лингвистики и воцарение униформитарного принципа типологической верификации предали забвению догадки старых мастеров.
§ 2. Типы научной парадигмы и партикулы
Эти мелкие частички-партикулы, с одной стороны, и обобщенные рассуждения о типе науки, с другой, казалось бы, никак не могут быть связаны. Однако нужно вернуться к тому вопросу, который был мне задан и о котором я писала в начале: «А к какой части речи относятся эти частицы?», и к моему ответу: «Ни к какой!» и к следующей ответной реплике «Так быть не может». За этим вопросом явно следовало глубокое убеждение, что современная лингвистика все описала и все определила по классам и ничего «в индетерминированном остатке» быть не может. Именно такая наука называется «нормальной наукой», по Т. Куну [Кун 1975], и именно на этом хотелось бы сейчас остановиться.
Итак, по Т. Куну, «нормальная наука. основываеся на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир» [Кун 1975: 21]. Тогда исследования – это «упорная и настойчивая попытка навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование» [Там же].
Ранее мною была предложена классификация ученых [Николаева 1990], опирающаяся на следующие два признака: 1) метод и 2) материал. Каждый признак может быть представлен двумя манифестациями-признаками: старый / новый.
Таким образом, получилось четыре возможных типа ученых: 1) старое о старом; 2) старое о новом; 3) новое о старом; 4) новое о новом[12]. (Об этой моей классификации пишет математик В. А. Успенский [Успенский 2005].) Если эти типы совместить с типологией Т. Куна, то к «нормальной науке» должны принадлежать два средних типа: старое о новом и новое о старом.
Итак, по Т. Куну, цель нормальной науки «ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений» [Там же: 43]. Исследование в нормальной науке направлено на «разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» [Кун 1975: 44].
Очень интересные наблюдения над эволюцией лингвистики во второй половине ХХ века, которые можно соотнести с концепцией Т. Куна, содержатся в статье Р. М. Фрумкиной [Фрумкина 1996]. См.: «Со временем «новая» лингвистика постепенно и закономерно тоже превратилась в нормализованную науку» [Фрумкина 1996: 57], и ранее: «Понятно, почему глубокая методологическая рефлексия и споры о «теориях среднего уровня» не типичны для нормализованной науки: в ней метанаучная проблематика перестает быть актуальной» [Там же].
Однако нормальная наука, как и любая наука, должна развиваться. Поэтому ученые начинают исследовать «некоторые фрагменты природы так формально и глубоко, как это было бы немыслимо при других обстоятельствах» [Кун 1975: 44]. Акме нормальной науки ощущается тогда, когда возникает жажда решения «новых задач-головоломок». Тогда нормальная наука становится решением головоломок и по сути своей мало ориентирована на крупные открытия. Нельзя не обратить внимание и на следующее положение Т. Куна: ученым-приверженцам нормальной науки предлагается «не сформулированная система правил, а согласованность исследовательской традиции» [Там же: 70]. Нормальная наука становится все более точной. Развивается эзотерический для непосвященных словарь и профессиональное мастерство. «Поскольку в науке реже, чем в других областях человеческой деятельности, есть несовместимые точки зрения», научное сообщество начинает объединять то, что Т. Кун называет «дисциплинарной матрицей» [Там же: 229]. Дисциплинарная матрица характеризуется: 1) общностью символических обозначений, 2) метафизической парадигмой, т. е. общепризнанными предписаниями, 3) ценностями. Последние должны быть более общего свойства. Например, установка на прикладную полезность науки – это одна из ценностей парадигмы. См. определение такой ценности в «новой лингвистике», становящейся постепенно нормальной наукой, как строгость, которая на определенном этапе противопоставлялась психологизму как «расплывчатым умозрениям» [Фрумкина 1996: 58].
Вскоре после появления публикаций Т. Куна раздались и голоса ученых, утверждавших, что к лингвистике его положения в принципе неприменимы. Так, например, В. К. Персиваль [Percival 1976] опирается на тот факт, что «научная революция», по Т. Куну, есть следствие появления какого-то одного научного гения (single scientific genious). Кроме того, понятие парадигмы в теории Т. Куна есть понятие социальное, а научная революция создается отдельной секуляризованной личностью, и тем самым в теории Т. Куна есть внутренние противоречия. Сама же лингвистика строится на том, что у всех новых теорий есть обязательно свои предшественники.
Однако история лингвистики второй половины ХХ века (и особенно – последней его трети), на наш взгляд, подтверждает прогностические положения Т. Куна.
А именно: нетрудно заметить, что «нормальная наука» лингвистика возникла (в отечественной теории, во всяком случае) в середине 50-х годов прошллого века и развивалась с тех пор, абсолютно следуя прогнозам Т. Куна.
Несомненно также, что мы можем обнаружить и предсказанный Т. Куном этап «головоломок». Это – начало 60-х, когда возникли (разумеется, как бы спонтанно) так называемые «лингвистические задачи». Унификация лингвистических подходов шла, также в полном соответствии с прогнозированием Т. Куна, из недр так называемого ОСИПЛ’а, т. е. Отделения структурной и прикладной лингвистики (позднее ставшего Отделением теоретической и прикладной лингвистики). Характерно, что одной из «ценностей» тех лет была объявлена прикладная полезность лингвистики, ее обязательная парадигматическая близость к точным наукам вроде математики.
Единообразная парадигма распространялась далее и на студентов Лингвистического факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). «Лингвистические задачи» оказались необыкновенно удачным решением назревавшего этапа головоломок.
Естественно, что близкими к задачам головоломками должны быть занятия дешифровочного типа. И замечательно, что именно в этот период лингвисты обратились к дешифровке новгородских берестяных грамот, которые вдруг стали обнаруживаться в большом количестве, как будто по воле Судьбы, и языковеды стали делать множество мелких и крупных по значимости наблюдений, прочитывая новонайденные грамоты и перепрочитывая найденные ранее. Хочу сразу снять какую бы то ни было аксиологическую установку со своих выводов. Просто не могу согласиться с известным положением о том, что историк (в том числе и историк науки) является «пророком, предсказывающим назад». Безусловно, и история «не знает сослагательного наклонения». Но его должны знать ученые, задача которых – обнаруживать развилки эволюционных путей и вычерчивать возможные сценарии несостоявшихся событий.
Можно заметить, что многое из указанного выше появилось и появляется случайно. Однако прогнозы Т. Куна позволяют нам, хотя на небольшом научном пространстве – языкознания как науки, увидеть неизбежность эволюционной перспективы в науке вообще и, видимо, в истории в целом.
Можно заметить также, что все-таки мы имеем, как будто бы вопреки Т. Куну, по крайней мере два крупных открытия на фоне последних десятилетий. Это – ностратическая теория, предложенная В. М. Илличем-Свитычем, и находка так называемого «Новгородского кодекса XI в.» А. А. Зализняком. Но на это можно возразить, что, во-первых, открытие В. М. Илличем-Свитычем было совершено, так сказать, на пороге парадигмы «нормальной науки» и, строго говоря, к ней не относится. Во-вторых, напротив, открытие А. А. Зализняка и его фантастическое по результатам прочтение почти не прочитываемого текста могут – именно по своей поразительности – служить неким «звонком» кризиса господствующей парадигмы, поскольку само открытие относится также к тому, чего «не может быть, ибо этого не может быть ни-когда»[13].
Таким образом, на предпарадигмальной стадии развития науки (эта стадия, естественно, является одновременно и концом предыдущей парадигмы, и шагом к новой) еще возможны, по Т. Куну, сосуществующие прочтения одного и того же материала науки, парадигмы, находящиеся, пользуясь языком физики, в «отношениях дополнительности». Обращаясь к лингвистике ХХ века, можно предположить, что такая возможности была. Это был, по нашему мнению, межвоенный период, когда сосуществовали две лингвистики, однако в прямой форме это никак не формулировалось.
Как это ни покажется странным, как будто бы второстепенные явления языка – интонация и «мелкие» слова (то есть «незнаменательные», это термин Л. В. Щербы) – стали ключевым моментом при разделении этих двух подходов к языку[14].
Говоря о первом направлении, нужно в первую очередь вспомнить труды С. И. Карцевского. Его подход в целом можно назвать синтагматическим, ориентированным на реальную фразу, на высказывание. Фразу создает интонация. Она имеет свою грамматику, и он – практически первый – описал эту грамматику, перечислив интонацию межфразовых связей. Его предшественники обычно ограничивались одной фразой. Интонацию он понимал не только как мелодику, а как многопараметрическое единство ее акустических составляющих (мелодики, тембра, интенсивности и длительности). Соединяя фразы, интонация может выражать четыре категории: симметрию, асимметрию, тождество и градации. Язык, по С. Карцевскому, состоит из: 1) слов, 2) грамматики, 3) интонации. Самое важное в его теории было то, что слово не было для него основой основ, оно было лишь частицей фразы: «слово есть частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44]. Обращаясь же к «мелким» словам, Карцевский видел в начале существования естественного языка синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний. Впоследствии они превращались во «внешние союзы», инициирующие высказывание-фразу, затем они интериоризировались, становясь нашими современными «внутренними» союзами. А привычное таксономическое начало – фонетику и фонологию – Карцевский считал уже последним этапом освоения языковой структуры. Таким образом, синтаксис был для него первичным.
Однако синтаксис был первичным и для сторонников «нового учения о языке», он был краеугольным камнем и отправной точкой для диахронических разработок марристов. Архаический синтаксис был для них некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантичные звуковые комплексы. Предполагалось, что эта диффузность и нерасчлененность высказывания вполне соответствовала мышлению первобытного общества. Как пишет С. Д. Кацнельсон [Кацнельсон 1949: 36], «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием». См. там же: «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 16]. В известной степени схожие идеи можно найти и у Л. В. Щербы. Говоря о грамматиках и словарях языков, создаваемых в разное время, Л. В. Щерба пишет: «Однако при этом прежде всего забывали то, что вообще все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном (выделено Л. В. Щербой. – Т. Н.) опыте (…) нам вовсе не даны» [Щерба 1974: 25].
Необходимо заметить, что сходные теоретические позиции и искания можно найти не только в отечественном языкознании. Приведем в качестве примера одно мало известное движение в Германии, как-то увядшее в течение периода между войнами: так называемых «лингвистов-телеологов»[15]. Это Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорн, печатавшиеся в Вене, Геттингене, Страсбурге и др.
Центром внимания, ядром языкового происхождения и ареной эволюции это направление также считало синтаксис (ср. с этим внимание к морфологии, парадигмам, частям речи у компаративистов и структуралистов). Именно из «синтаксического дыма», по их мнению, рождались звуковые комплексы, затем – слова, затем – фонемы.
Очевидно – по всем ссылкам и по принципиальной значимости самой работы, – что у «телеологов» основополагающими трудами были прежде всего следующие: книга В. Хаверса «Основы объясняющего синтаксиса» 1931 [Havers 1931] и монография Э. Херманна «Звуковой закон и принцип аналогии» того же 1931 года [Hermann 1931]. Более поздние их труды принципиально новой теории уже не содержали. Первичными для телеологов были мелкие словечки не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова. По мнению В. Хаверса [Havers 1931], эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. Неясным остается, однако, их взгляд на происхождение знаменательных слов, вообще – на происхождение морфологии. По мнению телеологов, эти мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, именно поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности и является синтаксис.
Итак, синтаксис par excellence является в этой теории центром лингвистических изменений и ареной их реализации. Таким образом, очевидно, что «парадигматическое мышление», ставшее центральным в лингвистике в последующие десятилетия, еще считалось для них второстепенным. Необходимо заметить, что «телеологи», в свою очередь, стояли на плечах двух знаменитых предшественников: Б. Дельбрюка, завершителя младограмматического синтаксиса, которому его ученик, Э. Херманн, посвятил целую книгу после его смерти [Hermann 1923], и Я. Ваккернагеля, известные положения которого о втором, ослабленном, месте в высказывании тогда усиленно обсуждались: второе слово или второй член предложения? Члены предложения, в рамках немецкой теории, как уже говорилось, стягивались из диффузных частиц, становясь оформленными частями речи.
Близким к российской лингвистике было у них и понимание сути языковой эволюции. См. у Л. В. Щербы: «Мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека» [Щерба 1974: 25]. Именно такая же отчетливая установка на то, что эволюция языка в реальности есть сложное переплетение условий и движущих сил, и это для каждого языка индивидуально благодаря внешним воздействиям, и заставила Э. Херманна написать очень большую книгу [Hermann 1931] против «безысключитель-ности» звуковых законов (тезис Лескина), в которой на каждом шагу не только демонстрируются, но и интерпретируются «исключения» из фонетических законов и нерегулярность действия законов аналогии. По мнению Э. Херманна, компаративисты просто ловко лавируют между запутанными Lautgesetzten («языковыми фонетическими законами»), а на самом деле их методы нуждаются в улучшении [Hermann 1931: 6]. В отличие от классических индоевропеистов, «телеологи» интересуются не методами реконструкции морфологии и фонологии, а требуют тщательного построения идущей в пра-историю линии синтаксических изменений и затем – выведения универсальной эволюционной диахронической структуры. Именно эта установка на поиск универсалий вынудила Э. Херманна [Hermann 1942] обратиться также к детальному обследованию фактов фразовой интонации в самых разных языках, в том числе и даже самых экзотических.
И все же лингвистика концептов, т. е. валоризованных обобщений языковой данности, в это время развивалась и практически победила. И победила неслучайно. Такое описание начинается с фонемы и идет далее «по уровням», складывающимся по принципу: из мелких кирпичиков – в большие здания.
В подобном, бесконечно более удобном для описания и преподавания, построении языка никак не могло найтись места не только «партикулам», но и просто незнаменательным словам и интонации. Неслучайно, что именно в эту межвоенную эпоху появились и стали регулярными созываемые специальные Фонетические конгрессы (первый конгресс состоялся в 1932 г. в Амстердаме под руководством Й. Ван Гиннекена), в то время как для других языковых «уровней» таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует.
Таким образом, в «по-уровневой» системе интонации и партикулам места не нашлось, а в первой, побежденной, системе метаописания, низшие и первичные единицы языка тонули в тумане высказывания-фразы; т. е., иначе говоря, побежденному метаописанию трудно было перейти от интуитивно мерцающей реальности к абстрагированному метаотображению. Любопытно, что только на уровне словаря лексем, т. е. минимальных единиц, все-таки оказалось возможным приписывать слову его интонационные характеристики[16], но в общей системе «по-уровневого» описания интонации и партикулам места не нашлось.
Формулируя более четко, скажем, что описание, начинающееся с фонологии, не сосуществует с интонацией и частицами в той же системе и сосуществовать не может. Важно, что приверженцы-создатели новой теории – Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон – постепенно охладели к просодическим заданиям. Р. Якобсон занимался только ударением и стихом (почему – мы скажем в следующем параграфе), а Н. С. Трубецкой нашел выход в полной секуляризации просодии, выделяя ее в «Основах фонологии» в особый, весьма эклектичный раздел.
Итак, говоря проще, оба представленных описания языка находятся в отношении «дополнительности». Подобные отношения «дополнительности» вполне известны в таких науках, как, например, физика или биология, и почему-то оказываются совершенно нетерпимыми в лингвистике, видимо, еще не подошедшей к самым первым кризисам «нормальной науки», по Т. Куну.
Нетрудно заметить, что некоторым тормозом для смежных наук вообще является обычай? привычка? брать исследователями области А из соседней науки Б нечто, искренне полагающееся незыблемым, тогда как для ученых самой Б эта незыблемость может ставиться под сомнение. Так, выше мы говорили о том, что многие лингвисты считали, что язык (речь) человека начинается с высказываний, т. е. синтаксиса. И только «нормальная наука» сделала синтаксис уровнем высшего класса. И вот мы читаем у биологов [Зорина, Смирнова 2006: 165]: «Эта способность комбинировать символы не случайным образом, а в порядке, который передает вполне определенный смысл, заставляет предполагать, что антропоидам доступно наиболее важное свойство языка человека, то, что в лингвистике считается его вершиной, – синтаксис».
А если «в лингвистике» попытаться перевернуть пирамиду уровней?
§ 3. Возможности метаотображения и реальность эмпирии[17]
К вопросу о том, к какой части речи принадлежат партикулы, и к тому, почему же так долго и так неохотно лингвистика как «нормальная наука» не принимала ни «дискурсивных слов», ни интонации и все время стремилась отбросить их на особые эволюционные рельсы, необходимо еще раз вернуться и рассмотреть это с несколько другой точки зрения. Несмотря на их вполне законный статус в пределах языковых систем, дискурсивные слова есть, скорее, факт устного общения или (как это мы покажем далее) были ранее фактом исключительно устного общения. Как уже говорилось в параграфе 1, эти частички-партикулы уводят нас к чему-то очень древнему, к самым ранним пластам языковой эволюции; значения их (если можно говорить вообще об их «значениях») диффузны, размыты (как будет показано также в главе третьей на славянском материале), но, рассмотренные с общеславянской точки зрения, они воссоздают какую-то общедоступную для носителей славянских языков семантику.
Итак, лингвистика как «нормальная наука» настоящего времени не любит ни устного, ни диффузного, ни – в целом – чего-то, не имеющего таксономического статуса. Но – почему?
Корни этого, как представляется, восходят к глубокой древности и соотносятся с неким парадоксом описания языкового существования. Парадокс этот можно описать следующим образом. Все как будто бы знают, что в начале человеческая речь была устной, а письмо, запись речи, появилось гораздо позднее. Но в человеческом осознавании этого письменный текст был (и остается) примарным.
Нам уже приходилось по этому поводу цитировать Мишеля Фуко [Фуко 1994: 75], который пишет о самой ранней «эпистеме» отношения мира и вещей: «переплетение мира и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности. (…) Отныне первоприрода языка – письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные слова; Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге. (…) Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность».