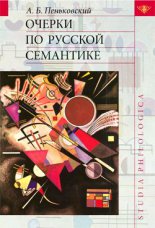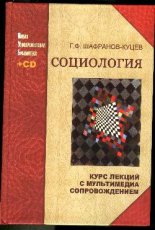Утраченная цивилизация: в поисках потерянного человечества Маслов Алексей
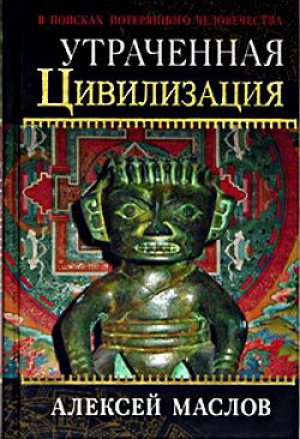
Алексей Александрович Маслов
Утраченная цивилизация: в поисках потерянного человечества
Многие великие цивилизации древности исчезли.
Но они оставили нам знаки своей мудрости.
Надо лишь сделать усилие, чтобы постичь их…
И тогда самое «неправдоподобное» оказывается единственно возможным.
Светлой памяти моего отца — профессора А. В. Маслова
К читателям
«Неправдоподобное» — единственно возможное
Древность богато расцвечена мифами и преданиями. Собственно никакого исторического повествования о самых древнейших культурах человечества не сохранилось, существуют лишь легенды и предания, которые столь же близки к реальным событиям, сколь и отличаются от них. Сознание современного человека, будь то строгий ученый или любопытствующий энтузиаст, автоматически пытается отфильтровать из «шума» этих многочисленных мифов некие зерна исторической правды. Порою приходится отбрасывать самое интересное: оно чаще всего не согласуется с нашей логикой представлений о мире. Вряд ли кто всерьез воспримет рассказ о расах мудрецов, бессмертных и великанов, о затерянных странах, о непостижимо высоком уровне знания древних.
Но, как ни парадоксально, в этом «интересном, но неправдоподобном» и заключена сама суть древнейшей истории — загадка становления первых цивилизаций на земле. И перед читателем — рассказ о «неправдоподобном», о том, что не похоже на правду — на ту историческую правду, к которой привыкло наше сознание.
Древние цивилизации услужливо разбросали нам знаки о своих достижениях, истоках и тайнах мудрости. Нам же лишь стоит научиться их читать, пожертвовав логикой и привычными представлениями об истории.
Порою именно неправдоподобное оказывается единственно возможным в истории.
Какую цель ставил перед собой автор? Доказать новую теорию формирования человеческой цивилизации? Поразить воображение читателя необычными фактами?
Нет, задача была более скромной, но, как мне кажется, и более благородной — показать, что процесс развития мировой истории может быть значительно сложнее и неоднозначнее, нежели мы привыкли думать о нем. Здесь нет однозначных ответов — лишь гипотезы. В книге несколько сюжетных линий, но все они объединены единым стержнем — загадкой необъяснимо высокого уровня знания древних цивилизаций. А еще стремлением многих народов найти некую потерянную прародину — исток мудрости, покоя и место пребывания предков.
Сразу оговоримся: не стоит принимать многое из того, что здесь написано, за фундаментальные научные теории и гипотезы. И вообще, не стоит читать эту книгу с серьезным лицом академического ученого. Это скорее рассказ о том, «как могло бы быть». О том, как связать несвязуемое, как понять странную и порою загадочную взаимосвязь преданий, распространенных у разных народов, которые жили в разных концах света. Как объяснить многочисленные предания о «потерянной прародине» у многих народов? Где лежит исток загадочных знаний китайцев, ацтеков, тибетцев?
Почему многие народы рассказывают о каких-то «рогатых предках» и «поверженных великанах», вспоминая о них как о мудрецах и прародителях?
Возможно, все люди мечтают об одном и том же: о гармоничной, спокойной и благодатной жизни. Но почему же они мечтают об этом одинаково? Одинаково описывают свой «потерянный рай»: Атлантиду, Шамбалу, Беловодье, Эдем?
Прошли тысячелетия, но по-прежнему мы ищем «царство иное» — чертог, где все наполнено абсолютной мудростью, покоем и гармонией. Где светло и все понятно, где одновременно пребываем и мы, и наши предки, по которым мы так порою скучаем в земной жизни.
Мы постоянно ищем «утраченный рай» — либо в себе, либо вне себя. Ради этого создаем религию и философию, поклоняемся высшим существам и создаем новые учения, изучаем историю и строим концепции ее развития. Но как ни странно, по-прежнему остаемся на той же точке, стоя перед загадками далекого прошлого и тайнами собственного сознания. Может, надо не размышлять — надо просто почувствовать?
Часть 1
Китайская головоломка
Реминисценции
Пляска духов
За мной зашли, как и обещали, вечером, лишь только начало смеркаться. Я не очень доверял обещаниям китайцев, зная их почти природную необязательность, но тут все оказалось иначе. Немного смущенный, угловатый, как-то по-провинциальному вежливый паренек, назвав меня «драгоценным господином Ма» (именно так звучит моя фамилия на китайском языке), сообщил, что меня ждут и я, наконец, сумею увидеть то, к чему не допускался еще ни один чужеземец.
Вечер в центральных районах Китая наступает внезапно — кажется, только что было светло, но за какие-то несколько мгновений сумерки охватывают всю деревню.
Загораются огоньки масляных лампадок, кто-то продолжает громко беседовать в скобяной лавчонке, но в общем все готовятся ко сну. Правда, сегодня день особенный — сегодня праздник. Праздник ритуальный, своими корнями уходящий в самые архаические слои человеческой памяти.
На поле, что находится прямо за деревней, разжигают несколько костров. Жители, громко переговариваясь и возбуждая друг друга, подтягиваются к месту событий.
Днем уже состоялось ритуальное театрализованное шествие, было разыграно несколько сценок из похождений народных героев, но все это — лишь прелюдия к настоящему Действу.
Кажется, собрались все. Здесь можно заметить и жителей из соседних деревень: ведь ходят слухи, что лишь в этом месте живут несколько человек, которые воистину могут общаться с духами. А приобщиться к миру духовного, а по сути — оккультного, желает подспудно, пожалуй, каждый китаец. Наконец появляются главные персонажи, их пятеро — «Великий учитель» (да ши) и четверо помощников — «посвящающих учителей». До этого мне уже рассказали, что суть их знания — от древнейших первопредков, стоявших у истоков не только китайской нации, но и всего человечества (по понятным причинам считается, что оно возникло на территории Китая). В облике этих людей нет ничего особенного, что говорило бы о них как о великих мудрецах, тайных посвященных, — одним словом, ничего наигранного и наносного, о чем так любят порасуждать западные мистики. Эти люди кажутся даже немного смущенными, раскланиваются и традиционно улыбаются, как бы извиняясь, что собрали здесь столько народа. Впрочем, самоуничижение, умаление собственной значимости — характерная черта общения на всем Дальнем Востоке. Вся эта излишняя скромность, переходящая порой в юродивость, как бы призвана, наоборот, подчеркнуть на самом деле выдающиеся личные качества этого человека. Но это так — из области национального характера. То, что происходит в дальнейшем, вряд ли можно объяснить национальным характером.
Ключевой момент каждого праздника эзотерической секты — посвящение новых членов. После монотонного чтения молитв, призывов к духам, возжигания благовоний перед алтарем местных божеств, во время чего и так перевозбужденная публика изрядно заводится, начинается собственно обряд инициации. Посвящающий учитель дотрагивается пальцем до центра лба учеников — он открывает им «третий глаз», из которого душа после смерти воспарит в заветный Западный Рай, и таким образом будет обретено духовное бессмертие. В центр круга выводят молодую девушку.
«Посвящающий», издав высокий звук, внезапно одним движением срывает с девушки ее наряд, и она оказывается абсолютно обнаженной. Это поразительно — в Китае, где показ обнаженного тела считается тягчайшим преступлением против конфуцианской нравственности, где женщины традиционно носили наряд, прикрывающий их от шеи до самых кончиков пальцев, такого свободного покроя, что под ним нелегко даже определить очертания фигуры, а тут — дерзкая нагота! Но, кажется, на саму наготу никто не обратил внимание, собравшиеся, за исключением нескольких стариков-инициаторов и двух пожилых женщин, методично раскачивались из стороны в сторону, притопывая ногами в ритм барабанным ударам.
Обнаженная девушка находилась, по-видимому, под воздействием напитка, выпитого ею из тыквы. Какими-то деревянными шагами она подошла к серому полотнищу, расстеленному на земле, под руки ее поддерживали две старухи.
Девушка, закачавшись, вдруг рухнула на землю, и помощницы аккуратно уложили ее на кусок материи. Все затихли, и вдруг в этой тиши забил барабан — все быстрее и быстрее, пронзительно прорезался звук какой-то китайской свирели. Сочетание очень низкого и очень высокого звуков начало давать свой эффект, люди постепенно раскачивались и, кажется, что-то проговаривали, повторяя слова за одним из посвящающих. Другой тем временем подошел к обнаженной и недвижимой девушке, аккуратно и сосредоточенно начал расставлять на ее теле небольшие курительные благовонные пирамидки в виде конуса: поставил одну на лоб, по две на плечи, ладони, у сосков, по одной на центр живота и на лобок. Свечки зажжены, «посвящающий» громко прокричал славословие «нескончаемо великому Будде Майтрее» — Будде будущего. За ним начали вторить какие-то старушки. Постепенно их глаза закатывались, они что-то зачерпывали из глиняной лохани, передавая ее друг другу, и обмазывали себе губы. Это «что-то» — темное в свете костров потом оказалось кровью. Нет, не человеческой — кровью ритуальной черной курицы («курица черной кости»), а сам обряд обмазывания губ кровью, по сути, символизирует собой обет молчания.
Ритм ускоряется, и я вдруг начинаю осознавать, как из стороннего наблюдателя, решившего провести «академическое» наблюдение, начинаю превращаться в участника этого чудовищного и в то же время захватывающего зрелища. Я стою поодаль и одновременно нахожусь в этом круге трепещущих тел. Я стою неподвижно, прислонившись к дереву, но мое тело находится там — даже не среди этого единого организма толпы, но в неких сферах, где пребывает сейчас наше общее сознание.
Кажется, нет сил противиться этому порыву, тремор пробирается куда-то ко мне внутрь, мышцы начинают непроизвольно дрожать и сокращаться, меня охватывают странное возбуждение и в то же время какая-то удивительная отстраненность, будто ты вверяешь свое тело этому ритуалу, даешь как бы взаймы на время, стараясь уберечь свое сознание от его чарующей силы.
Повсюду раздавались крики, люди размахивали руками, будто бы отмахиваясь от каких-то видений. Это был хаос, подчиненный какой-то странной, неописуемой закономерности. Вероятно, видения становились все сильнее, движения людей ускорялись, ритм убыстрялся, у некоторых на губах выступила пена. Спокойные китайцы, которые несколькими часами раньше по-деловому обсуждали со мной какие-то насущные проблемы, казалось, превратились в буйных эпилептиков.
Мужчины падали на землю вместе с женщинами, бесстыдно овладевая друг другом.
Казалось, здесь сконцентрировалось все, что должно противоречить веками устоявшимся традициям нравственной и благопристойной жизни.
Это был один из ключевых праздников местной секты, проводимых два раза в год.
Правда, вряд ли сами жители этой деревушки считают себя членами одной из крупнейших тайных религиозных сект в Восточной Азии, где состоит по самым приблизительным подсчетам более миллиона человек. Они не знают друг друга, не знакомы с иерархией и даже основами веры. По сути, и секты никакой нет — ведь вся деревня и состоит в этой секте, которую они нередко называют емким словом «Путь» (Дао). «Вступить на Путь» — значит, не просто приобщиться к секте, но стать преемником духа древних мудрецов, основавших это сообщество в самом начале человеческой истории. Это — причудливое переплетение деревенских верований в духов — хранителей буддизма, даосизма, строгих конфуцианских догм морали, которые при этом порой превращаются в собственную противоположность.
Но что же все-таки произошло, если смотреть изнутри традиции, с точки зрения участника? Вот мой разговор с одним из посвящающих учителей.
— Почему люди кричали, кого боялись они?
— Они не привыкли общаться с духами, они испугались.
— А эти духи — злые или добрые?
— Они хитрые, они могут дать силу, могут вытянуть из человека его внутреннюю энергию — ци.
— Но нужно ли общаться с этими мириадами духов? Наверное, это небезопасно, я же видел, как двух человек — старушку и молодого парня — до утра не могут привести в сознание. Есть же другие способы соприкосновения с духами, например, спокойное воскуривание благовоний, моления.
— Это традиция нашего Пути (т. е. Общества, секты). Это истинный способ совокупиться (именно так! — А.М.) с духами, со всеми сразу. Это — тайная и истинная традиция, и началась она еще от первомудрецов, первых правителей Китая.
Я не стану указывать точного места происходящего по двум причинам. Прежде всего, за создание таких религиозных сект и отправление еретических культов их инициаторов — в сущности, политически безобидных людей — может ожидать смертная казнь. Во-вторых — и это самое главное — такие культы можно встретить практически по всему Китаю, и они являются отголосками древнейшей, архаической культуры всего Дальнего Востока.
Восток всегда беседует с нами посредством мифов и метафор, перекликается с нашей культурой, но при этом никогда не откликается на наш интеллектуальный призыв. Его действительно надо пережить.
О чем молчит мудрец
Древние культуры — древние загадки. Казалось бы, от древности нам досталось не так уж и мало: огромные пирамиды и священные тексты, раскопанные поселения и ритуальная утварь, барельефы и украшения. Но обратим внимание — мы воспринимаем не столько саму древнюю культуру, сколько ее знаки, следы. Их-то мы и принимаем за истинные культурные творения — картины живописцев, строфы поэтов, величественные архитектурные сооружения. Но ясно, что изящно расставленные цветы в икэбане живут не своей отстраненной и независимой красотой, но духом того мастера, который, следуя интуиции своего очищенного и совершенного духа, расположил их именно в таком порядке. (Точнее, в «небесном беспорядке» — природа на макроуровне не терпит утомляющей глаз симметрии и прямизны.) Но поскольку мы имеем дело со знаками культуры, с некими символами, то должны научиться читать их. Понимать, что стоит за символом, который оставлен нам древними и чаще всего исчезнувшими цивилизациями. Но почему же нельзя было рассказать о мудрости напрямую, а пришлось именно выражать ее через символы и некие тайные знаки? Почему Будда, Христос и Мухаммед говорят притчами, откуда рождается притча о «горчичном зерне» или «виноградаре и винограднике»?
Китайский мудрец Чжуан-цзы рассказывает то о бабочке, то о радости рыб, задает вопросы и не дает ответов. Предположим, что это лишь иллюстрация для более яркого и запоминающегося восприятия сути. Но почему же не сказано ни слова о самой сути? Зачем следует так мистифицировать слушателей и читателей, причем на десятки поколений вперед?
А может быть, и нет никакой мистификации? Может быть, это единственный возможный способ рассказать о том, что вообще не передается словесному воплощению. Слова просто не способны адекватно выразить это.
Странно, но основной способ передачи информации между людьми (во всяком случае, сегодня известный нам) — речь — не может выразить самое главное, самое насущное и самое возвышенное. Она оказывается просто не приспособленной для этого. Здесь видны какой-то дисбаланс, какая-то ущербность, недоразвитость речевой функции.
А если речь — это вынужденное свойство, приспособляемость? Может быть, у людей были возможности «беседовать» между собой по-другому, и где-то в глубинах тысячелетий произошел сбой. Потенциально человек как биологический вид был подготовлен для другого, и весь организм с его мозгом, используемым лишь на одну десятую, свидетельствует именно об этом.
Но что было предназначено? Прямого ответа на этот вопрос не будет. На том уровне, на котором сегодня работает наше сознание (а уровень вариативности между гением и «серостью» не очень велик в рамках той задачи, которую так хотелось бы решить), мы не способны даже осознать саму суть проблемы — она стоит за пределами не только нашего понимания, но даже попыток задуматься над ней. Она иррациональна, то есть не поддается рациональным выводам, причинно-следственным связям, логике — во всяком случае, в рамках той парадигмы, в которой сегодня работает наш мозг. Но по следам, как по указателям, мы лишь можем догадываться, что «где-то здесь и может находиться ответ». Ничего более конкретного, хотя именно здесь она смыкается с вершинами религиозного опыта, который также словами адекватно передать невозможно. Не случайно здесь столь актуально стоит проблема не понимания, а веры.
В Китае никогда не возникало идеи единого, живого Бога. Точно такую же ситуацию мы можем наблюдать по всей Восточной и Юго-Восточной Азии без исключения: в Японии, Корее, Вьетнаме. Здесь поклонялись в основном либо духам, либо безличностным началам (путь Дао в Китае), но чаще всего — и тем, и другим.
Высшим предметом поклонения становились предки, а точнее, духи предков. До сих пор на затерянных горных тропинках на юге Китая можно встретить небольшие кумирни, поросшие мхом, куда даже один человек войдет с трудом. Рядом с потускневшими изображениями Будды всегда стоят таблички с именами предков — порой реальных, порой мифических. В Японии же все духи (ками, син) считались предками конкретных кланов, например, существовали духи императорских родов, высших самурайских родов и т. д. Благодаря этому статус человека определялся прежде всего тем, с каким духом он состоит в родственных связях.
Но так или иначе, Восток всегда относится к своему основному предмету поклонения — к духам — как к своим непосредственным предкам. Одновременно и всякий старший в роду, даже ныне живущий, считается потенциальным «претендентом» на статус духа, в этом, в частности, причина огромного уважения к старшим, перерастающего порой в мистическое преклонение.
Еще раз обратим внимание — культ предков в принципе заменил в Восточной Азии весь комплекс веры и поклонения. Впрочем, не только здесь, такое же явление можно встретить и среди индейцев Центральной Америки, у коренных народов Сибири и у жителей Африки. Культ предков-духов — обычно относят к неким пережиткам древнейших тотемистических верований, что в принципе оспаривать сложно. Правда, не очень понятно, почему Дальний Восток так никогда и не вышел за эти «примитивные культы», а на их основе создал колоссальную по своей глубине цивилизацию. В сущности, на культе предков основывались такие значительные явления восточной культуры, как китайское конфуцианство и даосизм, японский синтоизм, не говоря уже о различных проявлениях шаманизма, которые можно встретить в любой восточной религиозно-философской системе.
Примечательно и другое — к духопоклонничеству тяготел отнюдь не один Дальний Восток со своим культурным центром в Китае, но и все цивилизации Южной Америки, в частности — ацтеки, майя, инки, многие цивилизации Африки.
Можно, конечно, возразить: а разве, скажем, на Руси не поклонялись всяким духам, лешим, домовым? Разве сейчас сотни гадателей не пользуются «услугами» духов, разве не на этом, по существу, стоит современная западная астрология и десятки религиозных и околорелигиозных сект? Безусловно, это так, но с одной небольшой особенностью — на основе всего этого не была создана западная цивилизация. Ее краеугольным камнем является библейская традиция в различных трактовках, которая в принципе отвергает поклонение духам (признавая их существование), поскольку надо поклоняться Всевышнему, стоящему над духами.
А вот ни Дальний Восток, ни доколумбовая Америка, ни Африка этот путь к монотеизму, к Единому Богу не прошли, по-прежнему общаясь с духами, хотя формы этого соприкосновения, естественно, претерпели значительное изменение и «окультурились». Можно, конечно, относить это к особому типу восточного мышления, но Китай к идее Единого божественного начала подошел очень близко уже в V–IV вв. до н. э.
И все же по целому ряду причин поклонение предкам, духам стало в этих странах центральной частью культовой практики и веры вообще. Духи и демоны (примечательно, что они же — и предки) заменили здесь и творцов Вселенной, и создателей человека, и всей человеческой культуры. Именно они и принесли на Землю высшую Мудрость, по которой сейчас живет человечество.
1. Неразгаданный «Канон перемен»
Непрочитанная книга
…Это открытие во многом потрясло научный мир, и реакция на него была достаточно необычна. Работа немецкого ученого Мартина Шонбергера, изданная в 1973 г. и посвященная древнейшему китайскому произведению «И цзин» («Канон перемен»), была воспринята многими маститыми учеными скорее как казус, псевдонаучная шутка, нежели как научная гипотеза. Ряд солидных ученых-востоковедов недоуменно пожимали плечами, показывая, что обсуждать «с позволения сказать научные идеи» М. Шонбергера, по крайней мере, не серьезно и не достойно академической науки.
Чем же поразил так востоковедов, а затем и более широкие «ненаучные» круги этот человек? Он просто подошел к древнекитайскому произведению с неординарной и даже «невостоковедной» точки зрения. Обычно «И цзин» принято было изучать с чисто исторической, текстологической или даже магико-оккультной точки зрения, как всякое письменное произведение, анализировать его структуру, частотное употребление иероглифов, комментарии, которые, как утверждает традиция, были написаны впоследствии самим Конфуцием.
Долгое время считалось, что «И цзин» представляет собой гадательную книгу, а возможно, заключает в себе и некую протописьменность, поскольку его основная или центральная часть состоит из графических изображений — фигур из шести целых и прерывистых линий, которые принято называть гексаграммами. О непонятной, неразгаданной до сих пор функции «И цзина» и при этом его колоссальном влиянии на всю культуру Дальнего Востока мы поговорим позже, сейчас же вернемся к нетривиальной идее М. Шонбергера.
Иероглиф «и», Переводимый как «изменения». Или это рисунок эмбриона? Или ДНК человека?
Его утверждения были оригинальны и отчаянно смелы — «И цзин» представляет не что иное, как запись генетической структуры человека, поданной в достаточно необычном, но, тем не менее, вполне понятном специалисту виде. Не случайно сам М. Шонбергер назвал свою книгу «И цзин и генетический код: сокрытый ключ к жизни». Итак, очевидно, древняя книга, считавшаяся доселе гадательной, рассказывает о самой основе жизни. И еще — значит, китайцы (или их предшественники — это вопрос особый) знали во 2 тыс. до н. э. или даже раньше генетическую структуру человека, постигнув величайшую тайну жизни. И если это действительно так, то развитие дальневосточной цивилизации, накопления знаний, равно как понятия «знания», вообще приобретают совсем иное звучание.
Идею об «И цзине» как о тайной схеме, содержащей генетический код, одобрил даже известный лама Анагарика Говинда, написав солидное предисловие к исследованиям Шонбергера. По сути, согласились с идеей Шонбергера и ряд крупных специалистов в области математики (поскольку многое в исследовании было построено на чисто математических расчетах), биологии, физики.
Но прежде чем мы попытаемся углубиться в ход мыслей Шонбергера, скажем несколько слов о самом «И цзине», к тому же нам еще не раз придется возвращаться к этому необычному произведению.
Долгое время считалось, что «И цзин» представляет собой гадательную книгу, а возможно, заключает в себе и некую протописьменность, поскольку его основная или центральная часть состоит из графических изображений — фигур из шести целых и прерывистых линий, которые принято называть гексаграммами. О непонятной, неразгаданной до сих пор функции «И цзина» и при этом его колоссальном влиянии на всю культуру Дальнего Востока мы поговорим позже, сейчас же вернемся к нетривиальной идее М. Шонбергера.
Воспринять мир как схему
«И цзину» приписывается много загадочных свойств — значительно больше, чем другому китайскому тексту. Более того он стал вполне «модной литературой» в кругах мистически настроенных любителей Востока, изучающих его в любительских переводах. Впрочем, параллельно с этим существует и масса вполне профессиональных исследований, которые до сих пор признают, что изначальный смысл «И цзина» остается не до конца ясным.
Роль «И цзина» в китайской культуре вызывает множество споров. Одни считают, что он самым непосредственным образом повлиял на становление не только ранней, но и вообще всей духовной мысли Китая. В частности, благодаря «И цзину» сформировалась концепция вечнотекущих изменений, постоянного перехода инь и ян, которая затем проявилась в даосизме, художественной эстетике и даже каждодневном мировосприятии китайцев. Но это случилось уже позже, а вот начальный смысл составления этого канона до конца так и не ясен.
«И цзин» принято переводить как «Канон перемен», хотя, как мы потом увидим, этот перевод весьма относителен. В древних китайских источниках «И цзин» фигурирует под названием «И» — «Перемены» или «Чжоу и» — «Чжоуские перемены» (по имени династии, когда она вошла в оборот) или «Круговорот перемен» (Чжоу здесь может пониматься и как название династии, и как «круговорот», «всеобщий»). Если говорить о том, когда «И цзин» был написан, то классическая фраза, что произошло это «в глубокой древности», как ни странно, окажется весьма точной — даже о приблизительном времени его создания остается лишь догадываться. Правда, нам известна эпоха, когда «И цзин» был записан, изложен иероглифами и некими двоичными символами из целых и прерывистых линий на бамбуковых дощечках, но это не было временем его создания. Именно тогда жил легендарный правитель Китая мудрец Фуси, чье полумифическое существование относят к 2852–2737 гг. до н. э. По традиционным версиям, он записал «И цзин», передав в нем сконцентрированную мудрость будущим поколениям. О сути этой мудрости спорят до сих пор.
У самих древних китайцев, по-видимому, исток происхождения «И цзина» и других подобных священных канонов не вызывал сомнений — все это так или иначе считалось переданным священными предками, первоправителями или их духами и уже поэтому является сакральной ценностью культуры. Обычно в академических кругах принято считать, что это произведение было записано, видимо, в VIII–VII вв. до н. э. и никак не раньше XI в. до н. э., хотя существуют спекулятивные датировки, отодвигающие эту дату до середины 3 тыс. до н.
э. Например, самой распространенной версией происхождения «И цзина» был рассказ о том, что трактат относится ко времени чжоуского завоевания, когда племена Чжоу захватили власть на территории, принадлежащей до этого династии Шан-Инь.
Легенда рассказывает, что правитель Вэнь-ван из царства Чжоу был заточен шанским правителем Диъи и, находясь в заточении, написал часть священного текста или по крайней мере зарисовал сами гексаграммы. Но отнюдь не он сам создал их — они были переданы Вэнь-ди одним из священных первомудрецов Китая Фуси, которому традиция приписывает множество «культурных инноваций», например, приготовление пищи (предполагается, что до этого она поедалась в сыром виде), письменность, лук со стрелами, навык рыбной ловли крючком и многое другое. По сути Фуси приносит культуру (вэньхуа) как таковую, отделяя Китай прошлого — внекультурного и внецивилизованного — от Китая культуры и цивилизации. Именно он впервые сумел прочитать «письмена Неба» и принести их на землю.
В принципе, весь трактат представляет собой достаточно позднюю запись каких-то очень древних представлений, существовавших еще в начале II тыс. до н. э., ранняя же часть самого трактата относится к концу II тыс. до н. э. «И цзин», хотя формально и не является самой ранней дошедшей до нас книгой древних китайцев (самым ранним все же следует считать «Ши цзин»), он стал широко известен именно как гадательная книга, хотя далеко не очевидно, что она действительно начиналась именно как текст для предсказаний.
Самая ранняя копия, которой располагают современные исследователи, была обнаружена в 1976 г. в хранилище древних рукописей Маваньдуе в захоронении, относящемся к 168 г. до н. э. Она в основном совпадает со всеми остальными копиями, которые были распространены в Китае, в частности, в эпохи Тан и Сун, поэтому ко II в. до н. э. «И цзин» уже в основном сформировался, хотя, очевидно, он возник за сотни лет до создания маваньдуйской копии.
Тот вариант «И цзина», который дошел до нас, многослоен, он как бы «наращивался» в течение многих веков, и здесь особо постарались многочисленные комментаторы. Дело в том, что смысл центральной, наиболее древней, части произведения настолько запутан и символичен, что возникло немало толкований, которые, возможно, вообще не соотносятся с изначальным смыслом. Но так уж был устроен Китай; он меньше заботился об «истинности смысла» (полнотой истины все равно никто не сможет обладать — считали древние), а больше о том, чтобы все должным образом было прокомментировано, — это соответствовало особому «упорядочивающему» типу китайского сознания.
Так постепенно появляются комментарии, которые входят составной частью в «И цзин» в VI–IV вв., «Десять Крыльев» («И чжуань»). Разделы, называемые «Суждения» («Цы»), были, по преданию, составлены правителем Вэнь-ди, одним из основателей династии Чжоу (1150-249 гг. до н. э.), приложения к суждениям (сяо цы) приписываются его последователю правителю Чжоу-гуну. Обратим внимание, что все это — предания, которые были изложены «отцом китайской истории» Сыма Цянем, написавшим грандиозный труд «Исторические записки» в I в. до н. э. А это значит, что между предполагаемыми создателями трактата и историком пролегла пропасть, по крайней мере, в шесть столетий. Срок вполне достаточный для того, чтобы всякое произведение обросло таким количеством преданий, что смыть их наносы не представляется возможным и легче просто согласиться с традиционной версией. В любом случае имя истинного создателя (истинных создателей?) «И цзина» мы никогда не узнаем. Но для себя обратим внимание на тот факт, что в этой истории получения и передачи мистического знания фигурируют, по крайней мере, три великих мудреца, к личностям которых нам еще придется вернуться в дальнейшем: Фуси, Вэнь-ди, Чжоу-гун.
Центральную часть «И цзина» принято называть «Чжоу и», «Круговорот изменений» или «Чжоусские изменения» — по названию эпохи Чжоу, когда был создан трактат. Здесь нужно пояснить смысл термина «и». Его можно переводить двояко: «изменения» или «простой, нетрудный». Причем и первый, и второй переводы в равной степени имеют право на существование. С одной стороны, в «И цзине» описываются различные типы трансформаций, переходов, которые случаются в этом мире, взаимозависимость и взаимопереход противоположных начал — и в этом смысле речь идет именно о «Каноне перемен». Но возможно, что его создатели намекали на изначальную простоту, неприукрашенность истины, которую они смогли выразить в шестидесяти четырех символах, по сути, предельно простых рисунках.
Простота в восточной традиции была символом безыскусной истины, которая может открыться порой в самом обыденном, и здесь достаточно вспомнить монохромные китайские пейзажи, написанные в «один удар кистью», или японские «сухие сады», где как бы в беспорядке разбросаны обычные камни. Поэтому можно говорить и о другом названии: «Канон о простом». Позже у нас появится возможность дать еще одну, пожалуй, самую неожиданную трактовку.
Схема восьми триграмм с соответствием стихиям
Основу «И цзина» составляет ряд рисунков или символов, созданных сочетанием двух элементов — целой и прерывистой черт, которые располагаются одна под другой. Из двух черт можно составить всего четыре такие комбинации («Четыре начала»), из трех черт — восемь триграмм, а из шести черт или двух триграмм — шестьдесят четыре гексаграммы. Шестьдесят четыре гексаграммы являются максимально возможным числом комбинаций таких фигур и трактуются как шестьдесят четыре состояния мира.
Символика изменений, описанная в «И цзине», базируется на сочетании двух черт: целой и прерывистой, которое позже стали понимать как выражение инь и ян, хотя собственно из текста этого не следует. Инь символизирует собой негативное, пассивное, темное женское начало, а ян — активное, позитивное, светлое мужское.
Они не столько противоположны друг другу, сколько взаимодополняемы, достраивая мир до целостной картины. Именно из сочетания инь и ян и рождается, в конечном счете, все многообразие вещей и явлений. Столь изящная и одновременно абсолютно правдоподобная концепция мироздания, как видно, существовала в Китае, по крайней мере, во 2 тыс. до н. э. и оказалась отражена в «И цзине».
У каждой триграммы или гексаграммы существует свое название, а порою и несколько образов. Например, фигура из трех целых линий символизирует Небо, творчество, крепость, отца, а фигура из трех прерывистых — Землю, исполнение, самоотдачу, мать, целая линия между двумя прерывистыми — опасность, воду, погружение, второго сына в семье и т. д. Такие же обозначения есть и у фигур из шести черт, например, существуют гексаграммы «раздробленность», «смирение», «питание», «вольность», «радость», «проникновение» и т. д. Позже к каждой гексаграмме приписали небольшой стих, а затем и обширный комментарий, и, по сути, речь шла уже не о простом рисунке, а о его развернутом толковании.
Каждая гексаграмма содержит в себе некоторое количество «слабых элементов» (прерывистых черт) и «сильных элементов» (целых черт), и от их сочетания и взаиморасположения зависит смысл гексаграммы и, как следствие, всего предсказания. Поскольку каждая гексаграмма представляет собой сочетания двух триграмм, то они и трактуется по триграммам, а также по отдельным чертам, причем трактовка идет снизу вверх. Например, гексаграмма «гоу» — «подчинение» представляет собой сочетание двух триграмм. Сверху идут три целых черты — «сильное действие», отражающие абсолютную силу и мощь. Снизу идут две целых и одна прерывистая черта — эта триграмма «стоять на коленях в преклонении». Скорее всего, смысл этого исходит из того, что сверху расположены две «сильные» черты («небо»), внизу — одна «слабая», имеющая в данном случае значение «подчиняться».
Гадали ли по гадательной книге?
Но для чего же в столь глубокой древности было записано это произведение?
Ответ здесь всегда дается однозначный — «И цзин» был гадательной книгой. Гадали обычно на листьях эвкалипта, сложным образом раскладывая их, разделяя, отбрасывая лишние, в результате чего и получалось необходимое число шесть из коротких и длинных листьев. Они и соотносились с конкретной гексаграммой.
Кажется, эта «гадательная функция» древней книги ни у кого особых сомнений не вызывала, но обратим внимание на примечательный факт — впервые о том, что по «И цзину» можно гадать, заговорили сравнительно поздно, лишь в VI в. Может быть, ему просто приписывалась гадательная функция, в то время как о его истинном смысле то ли забыли, то ли… никогда и не знали?
Да возможно ли такое? Древние мудрецы, немало потрудившиеся над составлением «И цзина», не знали, зачем они это делают? Естественно, это явная нелепость. Конечно, если быть уверенным, что именно они создали центральную часть «И цзина» — шестьдесят четыре гексаграммы. В дальнейшем мы покажем, что эти фигуры могли достаться древним китайцам как бы «по наследству» от более ранней и по своему типу совсем иной цивилизации, которая предшествовала им на территории Центральной равнины и юга Китая.
Интересно, что эти изображения надолго обогнали создание иероглифической письменности. Первые письменные изображения, которые можно принять за иероглифы, относятся к XIII–XI вв. до н. э., и хотя чисто визуально они и похожи на древние гексаграммы, тем не менее кардинально отличны от них, ибо передают изображение, но не символ. Иероглиф — это рисунок, со временем перешедший в символ, гексаграмма — изначально символическая кодировка реальности. По идее, она должна появиться позже иероглифа, так как требует значительно более высокой психической организации человека, но реальность говорит нам об обратном — гексаграммы предшествовали иероглифам. Рискнем предположить и большее — они, возможно, и не были связаны с иероглифами.
Сразу возникает вопрос — почему здесь фигурируют именно фигуры из целых и прерывистых линий? Наиболее разумным представляется ответ, что в основе их лежало узелковое письмо, о существовании которого упоминается еще в ряде трактатов, например, в знаменитом даосском каноне «Дао дэ цзин» («Канон Пути и Благодати», V–IV вв. до н. э.), где «возвращение к узелковому письму» становится синонимом обретения первоначальной гармонии в мире. Возможно, что прерывистая черта представляла собой конопляную веревку с узелком посредине, а целая — веревку без узелка. Раскладывая эти веревки по группам в определенной последовательности, древние могли передавать какую-то информацию еще до формирования иероглифической письменности. Но какова была эта информация и какова сама логика построения такой «протописьменности», нам не известно. Можно даже согласиться с тем, что значения гексаграмм, которые дошли до нас, соответствуют первоначальному значению знаков узелковой письменности. Обратим внимание, что такая же узелковая письменность использовалась сотни лет спустя в государстве инков в Центральной Америке, где не существовало письменности, а использовалось лишь узелковое письмо — кипу. Вообще в нашей истории будет встречаться немало поразительных параллелей между китайской и центрально-американской цивилизациями.
Тем не менее, ничто не объясняет нам самого механизма воздействия «И цзина» и как набора магических символов, и как книги на многие последующие поколения мистиков, философов, ученых, политиков не только Китая, но и всего Дальнего Востока. Пускай даже его создание приписывается великим совершенномудрым, пускай здесь фигурирует какой-то сложный эзотерический подтекст (кстати, он сам по себе не возникает), но одного этого мало, чтобы превратить «И цзин» в ключевое произведение всей восточной духовности и культурной жизни. А это все же произошло. Эти символы должны были содержать в себе нечто такое, что позволило им действительно влиять на всю китайскую культуру на протяжении многих тысячелетий.
По ряду предположений, в основе самой ранней, дописьменной версии «И цзина» (впрочем, тогда не существовало даже самого этого названия) лежали фигуры не из шести и даже не из трех линий, а из двух — «двуграммы». По существу, они символизировали собой различные комбинации взаимодействия сил Инь и Ян или вообще любых противоположных начал. Несложно подсчитать, что всего таких комбинаций может быть лишь четыре: целая-целая (юг, небо), прерывистая-прерывистая (север, земля), целая над прерывистой (запад, вода), прерывистая над целой (восток, огонь).
Многим исследователям сразу бросилось в глаза, что целая и прерывистая черта представляет собой не что иное, как двоичный код или двоичную систему, если принять, например, целую черту за ноль, а прерывистую — за единицу. Таким образом, двоичная система была создана в Китае за тысячелетия до Лейбница.
Благодаря двоичному коду можно построить довольно сложные схемы, в том числе и объемно-пространственные изображения, вписав числа в трехмерный график.
Американские ученые отметили, что, если переписать гексаграммы двоичными числами, они располагаются в порядке, описываемом математическим кодом вероятностей Грея. Другие исследования показали, что в числовом ряду значений гексаграмм можно найти немало «магических квадратов».
Что это? Попытка пространственно-числового осмысления мира? Особый способ передачи знаний? Но не слишком ли это сложно и запутанно для людей III тыс. до н. э., когда на территории Китая даже еще не возникло никакого протогосударственного образования (первое протогосударство Ся сложилось в начале II тыс. до н. э.). От тех времен до нас дошли лишь небольшие поселения да расписная керамика с графическим орнаментом.
Еще раз обратим внимание на то, что гексаграммы, следуя преданиям, существовали еще до создания иероглифики и вообще какой бы то ни было письменности. Может быть, они предваряли создание письменных знаков или были их прямыми наследниками, как это иногда считается? Но иероглифы вышли из пиктограмм — рисунков, схематически изображающих тот или иной предмет или даже явление. Гексаграммы же вообще никак не привязаны к предмету и, таким образом, полностью символичны, целиком отстранены от своего содержания. Что еще более удивительно — кажется, не существует никакой преемственности между гексаграммами и иероглифами. Мы наблюдаем странный, ничем не объяснимый разрыв, будто использование этих гексаграмм было отброшено (из-за их сложности?) и на их месте постепенно сложилась иероглифика.
Считается, что использовались гексаграммы в основном в виде гадательных таблиц. Каждой черте в отдельности и каждой гексаграмме в целом соответствовал небольшой афоризм, объясняющий, как надо поступать в том или ином случае.
Гадали обычно на палочках и эвкалиптовых листьях, а позже — на монетах. Как гадательная книга «И цзин» использовалась весьма широко даже при императорском дворе, она была неизменным атрибутом народных знахарей и гадателей, а великий Конфуций советовал начинать обучение именно с этой книги. Но неужели лишь ради гадательного искусства? Не скрывается ли в гексаграммах иного рода знание?
Учебник магической техники
Скорее всего, «И цзин», особенно в его раннем варианте, никакого отношения ни к философии, ни к гаданию не имел. Он представляет собой своеобразный учебник магической техники, принадлежащий к одной из школ древних магов, а также собранием записей видений медиумов, составленной в начале 1 тыс. до н. э. Причем трактат родился именно в тот период, когда магическая техника перестала представлять абсолютную тайну, ореол тайности упал и стало допустимым записывать видения посвященных магов. Это была далеко не единственная книга такого рода, записи различных школ составлялись неоднократно, просто «И цзин» оказался той книгой, которая не затерялась в истории и дошла до нас.
Таким образом, в середине I тыс. до н. э. «И цзин» становится не столько объектом сакральной практики, сколько, наоборот, постепенно утрачивает свое мистическое значение, секуляризируется до канонического открытого текста и постепенно становится вообще непонятным для самих носителей китайской культуры.
Итак, это откровения, это записи мистических видений. Они не имеют прямого отношения к материальным явлениям нашего мира. Это как бы послания из мира иного, потустороннего, как и сами знания, которые пытались выразить не в виде слов, а в виде образов. И только так можно передать это тайное знание, не позволив человеку «споткнуться» о слова, а приведя его непосредственно к образам иного мира.
Итак, «И цзин» — запись видений магов и медиумов во время ритуальных радений и общения с духами, а также некоторых гадательных приёмов установления связи с этими духами.
Скорее всего, большинство сакральных текстов, подобных «И цзину», составлялись ранними медиумами и шаманами на рубеже II–I тыс. до н. э. и собирались из различных источников. Письменное составление самого «И цзина» началось в самом начале 1 тыс. до н. э. и в основном было завершено к VIII–VI в. до н. э. По одному из предположений, гексаграммы, считающиеся самой важной и самой ранней частью трактата, вошли в текст уже позже, первоначально не имели к нему отношения и пришли, вероятно, либо из другого источника, либо из другой традиции вообще, и тогда же «И цзину» стали приписываться гадательные свойства.
Мантические тексты, подобные «И цзину», собирались по частям и строились на основе каких-то очень древних первичных высказываний, вероятно, ходивших в устной форме, а затем первоначально записанных вне строгой структуры — просто как набор высказываний. Первичный слой представляли собой медитативные или психосоматические образы, рождавшиеся в момент ритуальной практики, приема галлюциногенов и психосоматических средств, обычно сопровождавших любой ритуал. Образы эти врывались в сознание и, будучи не сопоставимыми ни с какими явлениями «посюсторонней» жизни, были столь необычны, столь запредельны по своему содержанию, что не поддавались логическому осмыслению. Более того, здесь сложно даже говорить про какие-то конкретные образы — скорее, перед человеком представали образоощущения, не имеющие конкретной формы, которые потом подгонялись под нечто знакомое или уже известное, например, «мощный дракон», «сильный ливень», «воля Неба». Итак, первый слой — записи переживаний и ощущений — «образы». Второй слой (обычно — вторая фраза в тексте) — комментарий к образу. В отношении «И цзина» таким «записывателем» образов и комментатором вполне мог выступить Вэнь-ван, образ которого в древней литературе более схож с образом медиума, нежели классического правителя.
Таким образом, «И цзин» распадается на две логически связанные, хотя и неравные по объему части: геометрические изображения и текстовые комментарии к ним. Изображения представляют собой рисунки в три (триграммы) или шесть линий (гексаграммы), каждая из которых соответствует некому явлению в этом мире. 64 гексаграммы описывают целостную картину различных состояний мира. Сами же комментарии также сочетают в себе две части: образную и предсказательную, содержащую в себе знак или знамение.
Покажем это на примере первой гексаграммы «цян» (досл. «мощный», «усиление»), представляющей шесть целых черт. Она трактуется как «сильное действие», и ее сопровождает следующий текст, обычно понимаемый как комментарий к гексаграмме: «Дракон затаился под водой. Он не должен действовать». Здесь первая фраза вызывает к жизни образ затаившегося мощного духа-лун, символа правителя, которого стали позже понимать как «дракон». Вторая фраза содержит в себе конкретное предсказание, которое, как предполагается, могло служить советом правителю царства, например, не начинать военных действий, а переждать.
Первоначально существовали лишь записи «образов» — видений шаманов и магов.
Предсказания или «выводы» из видений были добавлены уже позже. Еще позже и из другой традиции пришли графические рисунки — гексаграммы и триграммы.
Изначальный же текст описывал медитативные видения, образы и рассказывал о жизни и деяниях духов (в описанном выше примере — о духе-лун). Он не содержал гексаграмм, они существовали отдельно и независимо от текста. Собственно, эти образы не нуждались первоначально в комментариях, а представляли собой типичные видения медиумов в тот момент, когда духи вселялись в них и начинали вещать через их физическое тело. А значит, сам текст видения можно перевести следующим образом: «Дух-лун затаился под водой». Видение медиума ценно само по себе, оно не требует комментариев до той поры, пока оно понимается именно как визуализация действий неких духов. Однако как только такое понимание со временем и с переходом к постархаической традиции утрачивается, возникает необходимость в комментариях и трактовках, в результате чего и рождались тексты, подобные «И цзину».
Таким же образом, например, строится и объяснение к 14-й гексаграмме «да ю» или «Великое процветание»: «Небо помогает. Благоприятно. Способствует всему».
Первое — это слепок образа сознания, возникающего в момент медитативной или ритуальной практики. Второй — и вероятно более поздний — попытка осмыслить его в сравнительно логических, знаковых категориях.
Предсказания и гексаграммы начали добавлять к основному тексту в тот момент, когда изначальный смысл видений уже не очевиден, происходит не раньше VIII–V вв.
до н. э. Собственно, это уже относилось не к самой мистической традиции, которая вряд ли записывалась самими медиумами, а к ее рационализации, в конце концов приведшей, с одной стороны, к рождению явления, которое принято называть китайской философией, а с другой стороны, — к народному мистическому даосизму.
Таким образом, «И цзин» оказался не столько пиком мистической культуры Китая, сколько отголоском ее взлета, зафиксированным и в какой-то мере умерщвленным знанием о сакральном. На наш взгляд, центральная часть «канона перемен» относится совсем к другому типу цивилизации и, возможно, к другому народу, существовавшему на Центральной равнине. Во-первых, не прослеживается очевидной преемственности между характером мысли, изложенной в «Чжоу и», и структурой всей дальнейшей китайской культуры. Во-вторых, сам рисуночно-линейный характер письменности или, говоря более обобщенно, передачи информации, не был ни до этого, ни после этого характерен для Китая. Его написали другие — те, кто жил на территории Китая еще до прихода сюда «детей Желтого правителя» — этноса хуася, то есть современных китайцев. Это знание принадлежит тем, кто теперь воспринимается китайцами в качестве «мудрых предков» и которые, как увидим в дальнейшем, были вытеснены в результате столкновений с территории Центральной равнины. Но о них осталось воспоминание — потаенное, мистическое знание, изложенное в том числе и в «И цзине», разгадать до конца которое сегодня уже не под силу никому.
Закодированное знание «И цзина»
«Некитайская» часть истории «И цзина» началась с факта, весьма далекого от востоковедения и тем более от столь специфического его раздела, как исследование древних текстов. В 1962 г. ученые Дж. Уотсон и Ф. Крик получают Нобелевскую премию за открытие ДНК — дезоксирибонуклеиновой кислоты, сделанное ими в 1953 г. Эти же ученые представляют научному миру структурную схему ДНК, молекулу которой упрощенно можно вообразить в виде двойной спирали. Две цепи спирали соединены между собой водородными связями, образуя так называемые комплементарные или дополнительные половины, соотносящиеся друг с другом как позитив и негатив, — прямая аналогия с противоположными началами китайской философии инь и ян.
Именно в ДНК заложена способность организмов к самовоспроизводству, которое основано на репликации нуклеиновых кислот.
Классическое изображение двойной спирали ДНК человека
Труды Дж. Уотсона и Ф. Крика и вместе с ними рентгеноструктурные исследования М. Уилкинса раскрыли структуру ДНК. Она представляет собой длинную цепь повторяющихся последовательностей: сахар — фосфат — сахар — фосфат и т. д.
Существуют четыре базовых элемента или основания: тимин (Т), аденин (А), цитозин (Ц) и гуанин (Г). В двойной спиральной структуре ДНК они пересекаются между собой, вступают в бинарную (т. е. двойную) связь, причем каждый элемент имеет свою, жестко установленную пару. Так, аденин всегда парен тимину, цитозин — гуанину, гуанин — цитозину, тимин — аденину. Таким образом, любая наследственная информация записана языком, содержащим лишь четыре буквы.
Напомним, что молекула ДНК — не плоскостная, но объемная структура, чем-то напоминающая спирально закрученную ленту. В сущности, существуют как бы две «ленты» (принцип «двойной спирали»), идущие параллельно и скрепленные между собой, как мостиками, связями между четырьмя базовыми элементами. Нередко структуру молекулы ДНК несколько ненаучно, но весьма точно сравнивают с застежкой-молнией, зубцы которой и есть четыре базовых элемента. Во время репликации ДНК каждая из двух цепей спирали воспроизводится, достраивая себе «двойника», и таким образом структура, а следовательно, и информация, содержащаяся в новой молекуле, точным образом соответствует родительской или исходной молекуле.
Конечно, то, что мы изложили здесь, — весьма примитивное и неполное описание предельно сложной структуры, до конца не изученной и по сей день. Но для наших дальнейших рассуждений этого вполне достаточно.
Но вернемся к трактату. По существу, «И цзин» представляет собой весьма странный, но достаточно емкий способ передачи информации. Не будем исключать и следующего: то, что для нас может показаться слишком «символичным» и близким к чудовищной головоломке, для составителей «И цзина», для тех, кто использовал его фигуры, было доступно и понятно, они считывали информацию так же легко, как мы читаем обычную книгу. Кстати, можно привести и прямые аналоги подобных запутанных кодов, например, машинные коды, которыми оперирует внутри себя любой компьютер. Фактически это ряд абсолютно непонятных для непосвященного чисел, соответствующих сложнейшим операциям приема и передачи информации по внутренним сетям компьютера.
Но для простого пользователя компьютер преобразовывает «свой» язык во вполне понятные нам слова или изображения.
Причем пользователь компьютера даже и не знает, на каком сложнейшем языке он общается с машиной.
Но вот вопрос — кто мог использовать эти коды «И цзина» в своей жизни? Ведь сколь угодно тонкие доказательства того, что это «символика мировых изменений» (по сути, это столь же неоспоримо верно, сколь и абсолютно расплывчато и непонятно) мы бы не приводили, все будет упираться в тот факт, что ни гексаграммы, ни триграммы практически никак не соотносятся с обычным человеческим языком. Если быть более точным — не имеют прямого отношения к привычной нам системе информационного обмена и коммуникации между людьми.
Более того, казалось бы разумным, что на заре рождения человеческого языка появились бы вполне конкретные понятия, помогающие выжить человеку в природном мире (огонь, пища, охота на тигра). К тому же при письменной фиксации выражаться они должны также предельно понятно, например, через рисунки, и в этом смысле ранние китайские иероглифы, представляющие собой изображения предметов и явлений, кажутся вполне естественными. Но кто и зачем мог прибегать к услугам кодировок «И цзина»? Если продолжить аналогии с машинным языком компьютера, все стало бы на свои места, но, увы, в отсутствии компьютеров, равно как и других аналогов искусственного интеллекта, можно быть вполне уверенным.
И все же, бесспорно, перед нами некий абсолютно отличный от обыденного способ передачи информации. Сделаем несколько вполне тривиальных заключений, которые, как окажется в будущем, могут дать нам толчок для дальнейших рассуждений.
Прежде всего, «И цзин» действительно что-то выражает, имеет жесткую структуру и внутреннюю логику, строгое математическое построение и пространственную ориентацию. Он был для чего-то создан.
Во-вторых, «И цзин» был и остается самой почитаемой книгой китайской культуры, оказавшей влияние практически на все области традиции, начиная от планирования внешней политики и заканчивая иглоукалыванием и медитацией. Почему стало почитаться именно самое непонятное и в определенном смысле самое примитивное по своему содержанию (не по структуре!) произведение, также до конца не ясно.
Может быть, благодаря своей древности? Но есть произведение древнее «И цзина», например, «Шицзин» — «Книга песен», представляющая собой сборник фольклорных речитативов на темы сельскохозяйственных работ, войн, страдания от разлуки с любимым, почитания старших и родственников. То есть для китайской традиции — также весьма полезная книга, не случайно Конфуций высоко почитал ее и считал, что все, кто чтут традиции, должны читать ее.
А это подводит нас к вполне определенному выводу: коды, изложенные в «И цзине», влияя на всю дальневосточную традицию, самими китайцами, японцами и другими народами никогда до конца не понимались, их функция не осознавалась.
Существовало лишь предположение, переходящее в фанатическую уверенность, что в «И цзине» заключено что-то неимоверно важное и ценное. Но что? По сути, ни один восточный мудрец, а сегодня — и ученые — не сумели дать ответа на этот вопрос.
Может быть, эти коды вообще не соотносятся именно с той цивилизацией, которая сейчас живет на территории Китая? Эту непривычную гипотезу мы попытаемся объяснить в дальнейшем.
Европейцам, которые уже несколько веков назад сумели познакомиться с необычной книгой, фигуры «И цзина» дали немалую почву для размышлений и даже научных открытий.
Мы уже говорили, что кодировка «И цзина», состоящая из двух фигур (целой и прерывистой линий), напоминает двоичный или бинарный числовой код. Патриарх двоичного кода великий математик Лейбниц даже написал специальную работу «Два письма о двоичной системе чисел и китайской философии». Его предположение было просто и одновременно оригинально. Лейбниц решает принять прерывистую черту за «О», а целую черту — за «1» и таким образом в системе двоичных чисел «переписать» все гексаграммы. Например, гексаграмма «Земля» (кунь), состоящая из шести прерывистых линий, записывалась как «000000», гексаграмма «Армия» (ши), состоящая из пяти прерывистых и одной целой линии, — «000001» и т. д.
Но что это дает нам? Значит ли, что гексаграммы отражают существование какой-то древней двоичной системы или даже сложной математики, построенной на бинарной системе чисел? Даже если допустить такое, это все равно не даст нам ответа, зачем же был записан «И цзин» и почему двоичный код сгруппирован именно по гексаграммам, а не по фигурам, скажем, из семи или из пяти линий. С каждым новым открытием вопросы нарастают, как снежный ком, причем ни одного рационального объяснения дать невозможно.
Но по правилам криптографии всякий код должен содержать ответ в самом себе.
Если предположить, что гексаграммы записывались осмысленно, а сама запись имела какую-то цель (пускай даже магическую или сакрально-мистическую), должна существовать и некая логика именно шестиричного построения «И Цзина».
М. Шонбергер решил отталкиваться в своих рассуждениях от понятий, которые существуют в самой древнекитайской философии. Чуть выше мы уже упоминали, что существуют предположения, по которым в основе фигур «И цзина» лежали четыре фигуры из двух линий. Эти фигуры находят свое и чисто философско-символическое объяснение. Считается, что два начала инь и ян порождают «четыре проявления» (сысян), причем это понятие трактуется по-разному: например, Небо, Земля, вода, огонь, или «малое инь», «большое инь», «малое ян», «большое ян».
Последняя четверка элементов символизирует как бы разворачивание самого начала, его постепенный приход, как, например, на землю постепенно приходит жаркое лето («большое ян»), начинаясь просто с теплой весны («малое ян»), и т. д.
Не случайно «четыре проявления» обозначали также сезоны года.
Теперь посмотрим, как в этом свете образуется фигура из шести линий — гексаграмма. По сути дела, она представляет собой схему из трижды повторенных «двухграмм». Проще говоря, гексаграмма из шести прерывистых линий (Земля) состоит из трижды повторенных двухграмм «большое инь», а гексаграмма из линий «целая — прерывистая — прерывистая — прерывистая — прерывистая — целая» (означает «питание») состоит из сочетания «малого инь», «большого инь» и «малого ян». Таким образом, можно разложить все гексаграммы.
Достраивание Двухмерного иероглифа «и» — «перемены» до трехмерной модели ДНК? (По М. Шонбергеру)
Но вот неожиданная мысль — нельзя ли предположить, что четыре фигуры из двух линий, то есть основа основ всего многообразия структур «И цзина», каким-то образом соотносятся с четырьмя базовыми элементами ДНК или РНК? Шонбергер решает обозначить их таким образом: урацил в РНК (или тимин в ДНК) соответствует двум прерывистым линиям («большое инь») или «00» в двоичном коде, цитозин — прерывистая линия над целой («малое ян») или «01», гуанин — целая линия над прерывистой («малое инь») или «10», аденин — две целых — линии («большое ян») или «11».
Путем сложных, но достаточно логических подстановок удалось установить полное совпадение генетической структуры человека, молекулы ДНК и гексаграмм «И цзина», если и то, и другое выразить в виде двоичного кода. Напомним также еще об одном удивительном совпадении, которое позволило сделать вывод, что, возможно, «И цзин» абсолютно точно описывает генокод человека: количество гексаграмм и количество триплет (кодонов) одинаково и равняется шестидесяти четырем.
Одновременно с этим Х и Y-хромосомы фактически представляют собой все тот же двоичный код. Всего же Шонбергер насчитал, по крайней мере, семь совпадений между этими двумя структурами.
В свете этого самым неожиданным образом стал трактоваться первый иероглиф из слова «И цзин». Напомним, что его принято переводить как «изменения» или «упрощения», в последнем значении он до сих пор употребляется в китайском языке.
Но давайте пристально всмотримся в древнее написание этого иероглифа, памятуя о том, что все китайские иероглифы изначально были просто рисунками. Не напомнит ли нам этот иероглиф стилизованное изображение двойной закрученной спирали? То есть перед нами не столько иероглиф, сколько просто рисунок спирали. И значит, перед нами «Канон о двойной спирали».
Итак, в фигурах «И цзина», созданных, по крайней мере, около четырех тысяч лет назад, мы видим некую универсальную «мировую формулу», приложимую не только к биохимии, но и к физике, математике и многим другим областям человеческого знания. То, к чему современная наука подошла лишь несколько десятилетий назад, оказывается, было доступно людям, что населяли тысячелетия назад китайскую равнину. А это значит, что мы можем предположить, что в фигурах «И цзина» существует и такое знание, которое мы еще не способны сегодня осознать. Ведь, по сути дела, гипотеза о парадоксальном совпадении гексаграмм и структуры ДНК-РНК (подчеркнем, что это — не более, чем изящное предположение) сумела родиться лишь после открытия самой генетической структуры человека. Возможно, существуют еще неоткрытые глубины, например, в физике микромира, атомного ядра, элементарных частиц, которые также «зашифрованы» в «И цзине».
Не представляет ли даже сам иероглиф «и» — «перемены» схему двойной спирали ДНК с четким взаимосоответствием элементов, сами же триграммы — отражают аминокислоты? (По М. Шонбергеру)
По существу, мы открываем в древней мудрости лишь то, до чего дошла современная наука и что благодаря этому укладывается в наши представления о мире и о допустимом в этом мире. Еще не было такого случая, чтобы, изучая, скажем, древние китайские или индийские трактаты, современные люди открыли что-нибудь такое, о чем они не знали. Мы скорее угадываем скрытый смысл древних символов, нежели познаем мир через них. В этом — ограниченность нашего логизированного сознания, в отличие от интуитивно-абстрактного мышления, не делающего отдельные открытия, а априорно знающего все. Правда, это «все» выразить в знаковых системах практически невозможно, и нередко оно предстает перед нами в виде символов. Выскажем здесь мысль, которую будем еще неоднократно повторять ниже: то, что нам сегодня кажется тайным или скрытым, то, до чего мы доходим глубоким анализом, вероятно, для наших предшественников (о них — разговор особый) было вполне обыденным и не несущим в себе ни малейшего оттенка тайны. Это не значит, что они были умнее или мудрее, обладая «скрытым знанием» или «тайной доктриной». Их сознание и тип мышления были просто устроены по-другому и по-другому проецировались во внешний мир. Правда, эта идея ставит еще более сложную проблему: кем были эти люди, что мыслили по-другому, где жили, почему не оставили после себя никаких явных свидетельств, например, мощных городов или, скажем, лабораторий, где «декодировали» знания о ДНК?
Признаемся, что идеи о связи «И цзина» с генетической структурой, со сложными математическими и пространственными изображениями нельзя считать вполне доказанными, но все же импульс нашим размышлениям о неоднозначности культуры дан. Что ж, последуем за ним и посмотрим, к чему он нас приведет.
Тайная передача мудрости
Итак, по-видимому, мы столкнулись с каким-то иным типом традиции, который, как ни странно, не имел явного продолжения в китайской культуре. Гексаграммы считались священными знаками, отголосками знаний каких-то древних мудрецов, но практического применения не находили. Все же уточним — практицизм мантического знака весьма относителен, гексаграмма абсолютно «практична», утилитарна — но в другом типе реальности, в другом типе знания, в другом типе организации сознания.
Например, их использовали для медитативной практики в среде даосских мистиков и отшельников, так как они помогали сознанию выйти за пределы человеческой оболочки и слиться с мирской естественностью. По триграммам и гексаграммам «И цзин» составлялись планы китайских военных стратегов древности. В китайской медицине весь организм человека «расписан» по гексаграммам, и таким образом врач ищет правильное сочетание этих знаков для лечения больного.
А это значит, что перед нами иной тип передачи знания — невербальный, внесловесный и даже внеобразный. Складывается такое впечатление, что когда-то в Китае существовала высокоразвитая культура особого типа, делавшая упор не на развитие техники, но на трансцендентацию сознания, перешагнувшая уровень логических механизмов и решавшая все свои проблемы максимальным развитием сознания.
Многие китайские учения, в том числе даосизм, утверждают, что в человеке уже заложено априорное знание обо всем, поэтому «мудрствование» противоречит некой естественной разумности и естественному ходу вещей. Путь человека не отличен от пути мира, человек «знает» столько же о мире и о себе, сколько вообще содержится в нем информации. Не случайно легендарный основатель даосизма Лао-цзы говорил, что «мудрецы» (в данном случае — последователи книжного знания) лишь преумножают глупость мира, в то время как человек, слившийся с универсальным путем и законом всех вещей Дао, сполна обладает всем, при этом находясь в состоянии «недеяния», так как активным образом он не вмешивается в мир и даже не «познает» его в том виде, как это делаем мы, накапливая и обдумывая информацию.
Мы могли бы принять все это за абстрактные рассуждения, если бы не яркие примеры того, что протокитайцы знали то, к чему мы сумели подойти сегодня лишь при помощи сложнейшей техники — электронных микроскопов, компьютерной обработки информации, системного анализа и многого другого. Сколь ни были бы сильны возражения скептиков, все же приходится признать, что Древний Китай знал много больше нашего, а возможно, располагал и такой информацией, которую мы сегодня не способны ни оценить, ни расшифровать, переведя в доступный нам словесно-знаковый вид.
Не способны оценить не только мы. Даже сами китайцы времен I тыс. до н. э. уже не могли целиком осмыслить многие духовные школы, например, то учение, которое принес Лао-цзы, изложенное в трактате «Дао дэ цзин» («Канон Пути и Благодати»).
Интересно, что весь последующий даосизм, хотя и почитал этот трактат, так его до конца не осознал и следовал совсем другим постулатам и правилам.
Складывается впечатление, что когда-то, предположительно в III тыс. до н. э., рядом наиболее сенситивных (с повышенной восприимчивостью) людей был получен могучий импульс, осознанный в виде сокровенного, эзотерического Знания. Их и называли в китайской традиции первомудрецами, или совершенно-мудрыми.
Вероятно, в течение многих столетий могучий толчок было трудно осознать, а еще труднее выразить в адекватных языковых структурах. Не случайно Лао-цзы в первой фразе трактата сообщил: «Дао, выраженное словами, не есть постоянное Дао», и далее — «Дао, выходящее изо рта (т. е. в словесной форме — А. М.), — не более чем звук».
Лишь немногие могли осознать это мистическое знание, не имеющее ни формального выражения, ни даже осмысления. Ряд мудрецов, типа Лао-цзы, изложили это в виде парадоксальных афоризмов, находящихся за гранью осмысления и доступных лишь как переживание. Другие же, подобно Конфуцию, отказались даже говорить о нем, рассказывая лишь о том, что доступно и разумно с обыденной точки зрения. Но вспомним, именно Конфуций превыше всего оценил «И цзин», хотя его смысл никак не согласуется с конфуцианским учением. Но именно в «И цзине» — Знание.
Импульс постепенно ослабевал, хотя и проявлялся в ряде удивительных изобретений, намного обогнавших свою эпоху: в Китае впервые в мире стали изготавливать порох, систематически использовать парус и колесницы и даже приготавливать мороженое. Именно Китай подарил человечеству изготовление бумаги и книгопечатание по ксилографическому способу. Еще одно изобретение древнего Китая — компас — было настолько сложно и неожиданно в своих конструктивных решениях, что и сегодня используется практически в неизменном виде. Кстати, первый компас существовал в виде гирокомпаса.
Китай пронизан мудростью, он пропитан какой-то ненавязчивой, но извечно ощутимой сакральностью, невидимыми, но, тем не менее, явственно присутствующими потоками внутренней, «внутриутробной» реальности. Это не преувеличение: тот, кто хотя бы раз вплотную сталкивался с историей и учениями этой страны, вряд ли не смог бы отметить, что за какой-то почти детской непосредственностью и примитивнейшим жизненным практицизмом китайцев стоит фантастическая глубина традиции, пугающая собой бездна Мудрости. Пускай эти размышления субъективны, тем не менее, они отчетливо проступают при каждом соприкосновении с культурой и людьми из «Срединного государства».
Однако существует какая-то малопонятная разрывность в развитии китайской культуры. Этот разрыв произошел где-то на рубеже III–II тыс. до н. э. Но это было время, когда не сложилось еще протогосударств или даже прочных племенных союзов, а «И цзин» и учение Лао-цзы — одна из вершин мировой мистической мысли — появляются, в общем-то, в достаточно низкоразвитой стране и явно не согласуются с уровнем развития той эпохи.
При всех многочисленных открытиях Китай не выбился в передовые страны мира, хотя был парадоксален в своей культурной мощи и способности к культурной регенерации после любых потрясений. Он, кажется, не сумел до конца воспользоваться своей мощью знаний, своей «Небесной мудростью». Может, потому, что сам не до конца понял, чем обладает? Или потому, что Мудрость оказалась заимствованной у какой-то более ранней культуры?
Попробуем разобраться, какие версии могут существовать по этому поводу.
Начнем с того, как осмысляли передачу эзотерического знания сами китайцы.
Легенды о неких первомудрецах, которые принесли в мир всю его мудрость, равно как и практические знания (например, искусство охоты и рыболовства), мы без труда можем встретить на всем протяжении от Междуречья до острова Тайвань. Но поскольку мы заговорили именно о Китае (причина такой «адресности» станет понятна читателю несколько позже), мы посмотрим, кого же почитали в этой стране за величайших первомудрецов и основателей всей цивилизации.
Прежде всего, обратимся к фигуре легендарного создателя «И цзина» — мудрецу Фуси, который к тому же считается и прародителем человеческого рода. Об этом персонаже следует сказать особо, так как нам придется еще неоднократно возвращаться к нему. Жил он, судя по разным легендам, приблизительно в III тыс. до н. э. (официальная версия 2852–2737 гг. до н. э.), вероятно, на территории современной провинции Хэнань в уезде Хуайян, где сегодня существует холм, почитаемый как могила Фуси. Обычно на изображениях Фуси фигурирует как старец, держащий в руках схему «Великого предела» или выписывающий фигуры триграмм.
Ряд исторических данных позволяет предположить, что Фуси был реальной исторической личностью и являлся первопредком восточных австронезийских племен, живших приблизительно в районе полуострова Шаньдун и ставших позже одним из компонентов, сформировавших китайский этнос. Этому человеку приписывается не только создание триграмм, но и целый ряд культурных изобретений: именно он научил людей узелковому письму, охоте и рыболовству, объяснил, как варить мясо, установил правила женитьбы. Перед нами персонаж, который фактически принес людям то, что мы называем культурой. Отметим для себя эту подробность. И еще одна незначительная деталь, которая окажется для нас затем весьма важной, — по легендам и по изображениям, на голове у Фуси росли небольшие рожки, напоминающие наросты или просто бугорки.
По ряду легенд, Фуси считается вообще прародителем человечества, выступая в роли этакого «китайского Адама». Причем его супругой явилась его же родная сестра Нюйва. К этому необычному сюжету, имеющему прямое отношение к поколению мудрецов — прародителей человеческой культуры, мы еще вернемся. Попутно заметим один забавный факт. Е. П. Блаватская, основательница теософского движения в мире, считала Фуси… создателем масонской мудрости и символики.
Может быть, ее навел на эти мысли тот факт, что Фуси и Нюйва часто изображаются с угольниками в руках, что действительно совпадает с масонским символом и, в сущности, говорит об одном и том же мудреце, как о Великом Архитекторе или Великом Строителе, который творит мир.
Рогатый сверхчеловек Фуси стал для жителей Поднебесной империи самым первым мудрецом Китая, собственно, как и всего мира, принеся к тому же на землю многие удивительные изобретения. Но, в общем-то, никто сегодня не воспринимает всерьез китайские мифы, мы же попробуем взглянуть иначе на эти «сказки». Может быть, именно в них и кроется ответ?
В мифах зачастую в символически-отстраненной форме скрывается знание о реальных событиях, но поскольку миф — это особый тип осмысления действительности, то он подает ее в том виде, в котором она доступна человеку в ту или иную эпоху или вообще укладывается в рамки человеческого сознания.
Благодаря этому можно описать все, но в той форме, которая толстым слоем укроет от нас реальную картину, ибо мы — современные люди — воспринимаем ее в иной понятийной форме, в других категориях. При этом сама реальность останется отторгнутой от нас необычным для сознания сегодняшних людей пышным мифологическим декором.
Не следует рассматривать миф как чистой воды выдумку, как нечто небывалое и невозможное, сколь невероятным он бы нам ни показался. Трудно представить себе древнего человека, который с увлечением думал о том, как мистифицировать нас — своих потомков, выдумывая при этом многочисленные побасенки и красочные легенды. За мифом стоит какая-то вполне конкретная реальность, но описанная в тех единственно возможных образах и символах, которые были доступны сознанию древнего человека. Кто знает, может быть, наши потомки через пару тысячелетий сочтут наши тексты слишком уж «мифологическими» и расплывчатыми и будут с большим упорством разгадывать, что же кроется за нашими словами.
По сути, миф представляет собой дописьменное изложение истории человечества — истории, до конца не прочитанной, не осознанной, но тем и интересной. Здесь важны не только сюжеты, но и мельчайшие подробности. Кстати, именно небольшая подробность, встречающаяся в ряде мифов, навела нас на интересные размышления. Поэтому мы не раз будем прибегать к этим рассказам как к «ненаписанной истории».
Интересно взглянуть, кому сами китайцы приписывали творение тех великих знаний и мистической мудрости, которые и составили сущность всей человеческой культуры. Об одном из таких персонажей — Фуси — мы уже говорили. Но он вплетен в стройную линию «преемствования — передачи» знания, которую почитают не только в Китае, но и на всем Дальнем Востоке по сей день.
Откуда взялась запредельная мудрость в Китае, как пришла на землю? Издревле в Поднебесной империи сложилась вполне четкая и ясная теория, отражающая единство мистического знания с глубокой древности до наших дней. И эта концепция не может не заинтересовать нас. Эта концепция носила емкое название «Передача пути — Дао» (дао тун), «передача традиции» или «передача истины». Она говорила о том, что еще в глубокой древности на землю с Небес был спущен «священный Путь», или «истина», которая передавалась через мудрецов из поколения в поколение.