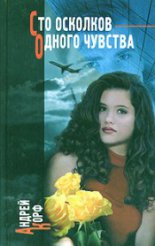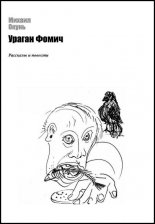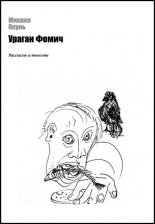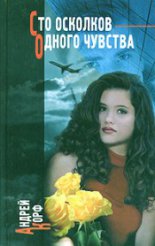Тебе держать ответ Остапенко Юлия

– Неужели? И что же?
– Это означает, что после Квентина – он второй ваш наследник.
– Да. Второй, – повторил конунг и смолк.
Эд виновато покосился на кубок.
– Можно, я выпью? – попросил он.
– Нет. Ты не умеешь пить хорошее вино. Просто удивительно, за три года так и не научился.
– Таким хорошим вы меня раньше никогда не поили.
– И правильно делал, как теперь вижу. Нет, не трогай. Я велю принести тебе какой-нибудь дряни вроде аутеранского.
– Не надо. Я бы, с вашего позволения, лучше закурил.
Конунг поморщился, но кивнул.
– Молог с тобой, кури.
Какое-то время Эд раскуривал трубку от свечи, а конунг рассеянно потягивал вино. Потом лорд Фосиган сказал:
– Лизабет была у меня сегодня. Требовала твоей казни.
Эд, только что сунувший мундштук трубки в зубы, застыл и посмотрел на него с изумлением.
– Я тоже удивился, – кивнул конунг. – Она всегда хорошо о тебе отзывалась. А теперь говорит, что ты убийца и изменник.
– Почему убийца? И почему изменник?! – возмутился Эд и, не дожидаясь ответа, тут же спросил: – А что со свадьбой-то теперь?
– Да ничего. Сперва думали отложить, но лекарь заверяет, что лорд Сальдо будет как огурчик уже через неделю, когда спадёт опухоль. Эд, я надеюсь, между тобой и моей дочерью ничего нет, – спокойно добавил конунг, словно это было естественным продолжением сказанного раньше.
Эд вытащил трубку изо рта.
– Есть, мой лорд. Я на ней женат. И, между прочим, это была ваша идея.
– Ох, Эдо, Эдо, – вздохнул конунг. Он сидел откинувшись на спинку кресла, и на свету была только нижняя часть его лица – кончик носа и губы, почти терявшиеся в бороде. – Эдо…
– Что, мой конунг?
– Ты не боишься выйти отсюда прямо на плаху?
Эд обдумал ответ, неспешно попыхивая трубкой. Сладковатый дым белёсой дымкой колыхался между двумя мужчинами, сидевшими по разные стороны стола.
– Нет, – сказал Эд наконец. – То есть, вполне вероятно, однажды именно это и случится. Но не сегодня. Просто рано или поздно я вам окончательно надоем, и тогда вас начнёт раздражать то, что раньше забавляло… словом, ваше терпение иссякнет, и вы казните меня. Но это будет, если ненароком я оскорблю вас, а не одного из ваших слуг.
Повисло недолгое молчание.
– Всё верно, – сказал конунг. – Всё верно, Эдо. Но ты кое-чего не учёл. Мои слуги – это члены моего клана. А в случае с Сальдо Бристансоном – это и члены моей семьи. Сперва мой клан, потом боги, потом конунг, потом я – это святой закон для каждого, кто родился дворянином или стал им. И тот, кто оскорбит мой клан, трижды оскорбит меня. Подумай об этом как-нибудь на досуге.
– Вы бы хотели, чтобы я отверг вызов лэрда Сальдо? – спросил Эд.
Конунг нахмурился.
– Что ты хочешь сказать?
– Я хочу сказать, что, отвергнув вызов или поддавшись во время поединка, я бы оскорбил ваш клан. И трижды оскорбил бы вас. Мой лорд, скажите, что, по-вашему, я должен был сделать?
– Этого я не знаю, – спокойно сказал конунг. – И не это меня тревожит. Меня тревожит то, что я не знаю, что ты хотел сделать. И удалось ли тебе это.
Эд не ответил. Конунг продолжил, так же ровно и невозмутимо:
– Пойми меня верно, мальчик. Если ты поссорился с Сальдо Бристансоном, дрался с ним и едва не убил – я могу это понять, хоть и не одобрить. Но ты один знаешь, была ли это обычная ссора, был ли это обычный поединок и что двигало тобой – оскорблённая честь или расчёт. Сальдо, возможно, знает ответы на эти вопросы, но сейчас затруднительно получить их от него.
Он смолк, будто приглашая Эда объясниться. И любой на его месте принялся бы возмущённо и пылко заверять, что это была самая обычная ссора – тому два десятка свидетелей, бывших позавчера в «Серебряном роге», что это был самый обычный поединок – тому свидетели секунданты и жрецы Дирха, и что это была самая заурядная, хотя и трагическая случайность – тому свидетели боги. Закончив свою пламенную речь, любой на месте Эда умолк бы, тяжко дыша, а завтра утром был бы казнён.
Эд знал всё это, а потому сказал:
– Я их ненавижу, мой лорд. За то, что они меня презирают, и презирали бы, даже если бы вы отдали мне Лизабет, а не Магдалену. Даже если бы вы произвели меня в главнокомандующие – проклятье, тогда бы они презирали меня втрое сильнее!
– Нет. Тогда бы они тебя боялись. Ты и жив-то до сих пор только потому, что не проявляешь интереса к придворной карьере… ты ведь не проявляешь его, не правда ли, Эд?
– Это вы мне скажите, – фыркнул тот. – Я тут уже три года, и до сих пор не могу понять, зачем. Милорд, ответьте честно: вы сами меня разве не презираете? Только правду.
Конунг рассмеялся.
– И за что я только люблю тебя, не знаю.
– А я знаю, – откликнулся Эд. – Но вам не скажу, и не просите.
Лорд Фосиган засмеялся снова.
– Ладно, юный ты безбашенный поганец. Можешь идти. Магда знает, где ты?
– Нет. Я не был дома с утра.
– Извелась, должно быть, бедняжка. Ты не очень груб с ней?
– Совсем не груб. Она разве жаловалась?
– Нет, это меня и тревожит. Ладно, убирайся вон, пока я не одумался.
– Разве вы всё ещё меня подозреваете? – беспечно спросил Эд, зная, как опасен этот вопрос, и именно поэтому совершенно не в состоянии от него удержаться.
И ответ стоил риска.
– Нет, – помолчав, проговорил конунг. – Я ни в чём тебя не подозреваю. Ты действительно должен был убить Сальдо, и ему просто повезло выжить, хотя и остаться изуродованным… и, откровенно говоря, я боялся, что именно это и было твоей целью. Но, уж прости, ты недостаточно хорошо владеешь мечом для такого мастерского удара. Арбалетом – да, но не мечом.
– В других обстоятельствах, я бы смертельно обиделся, – заметил Эд.
– Если, обидев тебя, я спасу твою башку, то лучше уж быть обиженным, верно?
– Верно, – согласился Эд.
И конунг снова зашёлся смехом – коротким, искренним и бесконечно презрительным.
– Вот в такие-то минуты я действительно верю, что ты безродный смерд, – беззлобно сказал он и небрежно махнул рукой, показывая, что аудиенция окончена.
Эд как раз докурил трубку. Поднявшись с кресла, он поклонился конунгу и направился к двери, ступая легко и пружинисто.
– Эдо, – позвал лорд Фосиган, и Эд обернулся.
Они смотрели друг на друга. Эд понимал, что надо уходить. Просто уйти сейчас – поклониться и уйти, и, да, это было бы дерзостью, но которой же по счёту из тех, которые он себе позволял за эти три года? Счёт шёл на тысячи – и конунгу это нравилось, поэтому надо было уходить, просто уходить, сейчас…
Но он не ушёл. И конунг сказал, глядя на него из глубины своего кресла:
– Я действительно люблю тебя, мальчик. Люблю, как родного сына. Но ты не моя семья. Помни об этом… прошу тебя.
Эд поклонился. Сделал положенные этикетом три шага назад, потом медленно повернулся и вышел из комнаты, пропахшей вишнёвым табаком и смертью, прошедшей так близко, что кончики её прохладных пальцев задели его лицо.
В коридоре было пусто. Эд остановился и тяжело привалился плечом к стене – его не держали ноги. Отсчитал двадцать ударов бешено колотящегося сердца, потом заставил себя выпрямиться и, подобрав с подставки у двери свой меч, двинулся дальше. Камердинер мог появиться в любую минуту.
И так было всегда. Уже три года из раза в раз он входил в эту комнату и не знал, куда отправится из неё. Он не однажды видел, как конунг, улыбаясь, собственной рукой отрубал головы неугодным, которые не позволяли себе и десятой части того, что Эд. И ещё он знал, что у него есть фора. Но не имел ни малейшего представления, где её предел, и близок ли он. Поэтому Эд не любил эту комнату – но ни в одном месте на земле не испытывал такого восторга, как здесь, в такие дни, как этот, когда он в очередной раз играл с огнём и снова выходил из него необожженным. Это было лучше, чем соитие, чем трубка после соития, лучше, чем Лизабет… лучше, чем разрубить самодовольное лицо Сальдо Бристансона.
«Всё-таки он не знал», – думал Эд, чувствуя головокружение от этой мысли. Получается, Магда действительно не доносит отцу о том, как проводит время её беспутный муж. Потому что, хотя Эд был осторожен и спускался в фехтовальный зал в основном ночами (кроме дня накануне дуэли – но это как раз было понятно и не могло вызвать подозрений), однажды она застала его за отработкой удара – невероятно сложного из-за ювелирной точности, которой требовал размах. Клинок должен войти под нижней челюстью, на глубине не более чем полдюйма, и выйти из правого виска, не задев ни мозга, ни черепной кости. Приём, совершенно бессмысленный в обычном бою – личное изобретение Эда, который действительно никогда не был виртуозным фехтовальщиком. Его только и хватило, что придумать удар, который можно использовать лишь один раз, пока он ещё может сойти за случайность.
Эд спустился на два этажа. Был поздний вечер, большинство дворян отдыхало в Нижнем городе, и никто не встретился Эду по дороге. У последнего лестничного пролёта он снова остановился и привалился к стене, прислонив пылающий висок к голому камню. И в этот миг на него навалился страх – весь страх, который он должен был испытывать в последние часы. У Эда Эфрина был договор со страхом: страх ждал, пока всё останется позади, и только тогда являлся, в единый миг изливая на него всю свою звериную мощь. Эду показалось, что его сейчас вырвет, он с силой зажал рот ладонью и стоял так с минуту, пока спазм не прошёл. Потом расправил плечи и с усилием поднял голову. Ничего. Так уже было. Так было три года назад, в тот день, когда он встретил конунга, и так было множество раз до того дня – гораздо чаще, чем могли бы вообразить те, кто его знал… Эд принял этот страх, пережил его и отбросил прочь – до следующего раза.
Потом он выпрямился, глубоко вздохнул и продолжил свой путь.
4
На третьей неделе летнего праздника Эоху Лизабет из клана Фосиган обвенчалась с Сальдо Бристансоном. Это знаменательное событие, объединившее два великих клана, отмечалось радостно и широко – бесчисленные септы Фосиганов и Бристансонов, а заодно торговцы, актёры и зеваки со всего Бертана съехались в Сотелсхейм, чтобы поприветствовать молодожёнов и выпить дармового эля. Людей было больше, чем мог вместить город, – тысячи, и всю неделю, пока шли празднования, все ворота оставались открыты день и ночь, и нескончаемый человеческий поток втекал и вытекал из него, бурля энергией и жизнью. Сотелсхейм пестрел жёлто-зелёным – ленты, стяги, зелёные побеги и жёлтые цветы украшали каждый дом, каждое копьё и каждую телегу, кони встряхивали гривами, увитыми жёлто-зелёными шнурами, и каждая горожанка, от зажиточной торговки до поденщицы, старалась щегольнуть жёлтым цветком в волосах или вышивкой на корсаже. В эти дни никому не возбранялось носить цвета Фосиганов – в эти дни Фосиганами были все. И осознание этого переполняло и душило счастьем каждого, кто никогда не был и не будет за стеной, отделявшей Верхний Сотелсхейм от Нижнего.
Как и все церемонии, в которых участвуют члены верховного клана, бракосочетание проводилось в главном святилище Гилас, что раскинулось ниже по склону с восточной стороны замка. К церемонии допускались лишь Фосиганы и Бристансоны со своими септами, но среди них было немало высокопоставленных бардов и сплетников, потому уже к закату дня песня о трогательном величии венчания облетела весь Сотелсхейм. Разумеется, придворные поэты Фосиганов были выше того, чтобы зарабатывать своими песнями выпивку в Нижнем городе, и картина передавалась из уст в уста с некоторыми искажениями, но суть была уловлена верно. Все знали, что невеста была прекрасна и загадочна в зелёном бархате, благо шифоновая вуаль деликатно скрывала её изрытое оспинами лицо и выражение на нём, когда к ней подвели её жениха. Идти сам он не мог – воспаление от раны, полученной в недавней дуэли, перекинулось на уцелевший глаз, и юный Бристансон почти ослеп, потому передвигаться мог только с посторонней помощью. Леди Лизабет, если верить придворным бардам, с бесконечной нежностью глядела на лицо своего жениха, до сих пор обвязанное бинтами так, что были видны только ноздри, заплывшая щёлка единственного глаза и разрубленные губы. И мелодичный голос её, говорили, даже не дрогнул, когда она клялась ему в вечной любви, послушании и верности, и рука её в шёлковой перчатке спокойно лежала в его руке, когда молодой и красивый Глен Иллентри произносил за жениха слова брачной клятвы. Тот не мог сделать этого, так как вместе с языком лишился и дара членораздельной речи, поэтому только кивал после каждой фразы Иллентри, подтверждая, что будет любить и беречь свою жену вечно и вечно заботиться о ней, хотя сейчас, глядя на него, трудно было понять, как этот калека способен позаботиться хоть о ком-то, включая самого себя.
Потом были пир и бал, на котором жених и невеста не танцевали, зато гости напивались, устраивали пьяные драки и шумно провозглашали здравицы молодым. Эд побыл немного в этом балагане для приличия, а потом удрал в Нижний город, оставив Магдалену представлять их семейство на торжестве. Он вышел из зала, не чувствуя ни смущения, ни стыда – только радость от свободы и предвкушение настоящего праздника. В Нижнем городе гуляли так, что отголоски музыки и криков долетали до замковой стены. Туда он и отправился ещё до того, как село солнце, но слухи и песни о свадьбе опередили его.
Эд поспешил, чтобы догнать их. В конце концов, он был первым среди тех, кто создал этот день.
Конунгова Площадь была до отказа забита людьми, но настоящее столпотворение собралось в её южном углу. Ближайшие проулки перегородили телегами, чтобы народ не слишком напирал, но люди всё равно лезли на головы друг другу, силясь разглядеть небольшой пятачок свободного пространства, занятый повозкой скоморохов и помостом, на котором стоял высоченный, как каланча, и огненно-рыжий чтец в клетчатом трико, громко и пафосно выкрикивавший текст. Само представление разворачивалось на площади перед помостом, в плотном кольце восторженно голосящих людей, и, судя по обилию зрителей, являло собой нечто выдающееся.
– Куда ж, говорит, ударить тебя мне гоже, не знаю и маюсь. По харе, по рылу, по роже? Выбор разнообразен!
Вовсю орудуя локтями, Эд кое-как пробрался в середину толпы. Со всех сторон торчали лохматые головы, остроконечные колпаки мужиков и квадратные шляпки женщин, и за всем этим пёстрым дурновкусием разглядеть что-либо было проблематично. Эд с силой опёрся руками на плечи двух стоящих перед ним мужчин и вытянулся, пытаясь заглянуть поверх чужих голов. И когда ему это наконец удалось, он замер, а потом расхохотался.
Перед помостом, резвые и прыткие, словно бойцовские петухи, скакали два карлика, рьяно изображая поединок. Один карлик был черноволос и одет в серое, другой – в слепяще-белом трико и с невероятного вида соломенным париком на голове. Жёлтые пряди торчали надо лбом во все стороны, а сзади были завязаны в лохматую косу. Уже за одно это комедианты могли оказаться в тюрьме – намёк на героя представления становился уж совсем прозрачным. Второй персонаж был не столь узнаваем, но, признав героя белого карлика, все сразу признали и героя чёрного. Уродцы воинственно наскакивали друг на друга, особенно старался чёрный; гулкий стук палок, изображавших мечи, будто отбивал такт дрянным стишкам чтеца.
– Лучше всего, конечно, по заду тебе наподдать, только ведь зад не для того потребен, а чтобы его е…ть! – рассудительно изрёк чтец, и толпа громыхнула хохотом. Смех Эда слился с ним.
Уличные комедианты разыгрывали его вчерашнюю дуэль с Сальдо Бристансоном. Причём довольно близко к тексту. Ох уж этот Рико Кирдвиг и его длинный язык…
Белый карлик подскочил на месте, крутанулся волчком – казалось, сейчас он не устоит на ногах и рухнет наземь. Оба карлика остановились, удивлённо глядя друг на друга. А потом белый перехватил палку обеими руками и со всей дури врезал чёрному по голове. Тот рухнул, точно подкошенный, и толпа взвыла от восторга, разразившись овациями. Могучий и по-прежнему исполненный торжественного трагизма голос чтеца перекрыл шум:
– Пал рыцарь несчастный, демоном белым жестоко повержен! О милая дама моя, невеста, раны мои обвяжи, где же ты, где же?
Из-за помоста выскочило третье действующее лицо фарса – рыжая карлица с громадной дубинкой в руках. Переваливаясь с боку на бок, как утка, и пронзительно вереща, она заковыляла к месту сражения под приветственные выкрики зрителей. Оказавшись рядом с белым карликом, карлица замахнулась и опустила дубинку ему поперёк спины. Толпа охнула, и стон белого карлика потонул в этом звуке. Покачнувшись, карлик низко склонил голову и шатко побежал за помост. Толпа провожала его улюлюканьем. Карлица бросила дубинку и, уперев руки в бока, остановилась над неподвижным телом чёрного карлика. Покачивая головой, посмотрела ему в лицо, потом воздела коротенькие ручки к небу.
– Демон бесстыжий, не устану тебя проклинать! – пискляво выкрикнул чтец. – Как мне теперь с раскрасавцем таким ложиться в кровать?
– А ты свечку-то погаси, и ничего, сойдёт! – выкрикнули из толпы, и народ захохотал снова. Горе Лизабет Фосиган явно не вызывало в людях особенного сочувствия.
Подняв чёрного карлика с земли пинками и невнятно причитая, карлица вместе со своим злосчастным «женихом» покинула сцену. Чтец между тем продолжал вещать:
– Дева, утешься: возмездие быстро грядёт! Гнев божий этой же ночью демону белому на голову падёт!
Под эти речи на сцену выбежали два дюжих мужика, несущих широкую, аляповато раскрашенную ширму, загородившую весь помост. За ширмой сразу раздались топот и возня. Чтец понизил голос и совсем другим тоном, глумливым и заговорщицким, в котором не осталось и следа прежнего пафоса, добавил:
– Ну, предположим, гнев этот будет не совсем божий. И не на голову падёт, а в другое место дорожку привычно найдёт…
Две половинки ширма резко разъехалась в разные стороны. За ней, согнувшись пополам, стоял белый карлик, изображавший Эда. Через мгновение показался чёрный карлик, только что игравший Бристансона, только на сей раз он нацепил фальшивую бороду из мочала, и на голове у него криво сидел медный обруч, в котором без труда узнавался конунгский венец. Под восторженные вопли толпы он подошёл к белому карлику сзади и, обхватив его за пояс, принялся совершать характерные телодвижения, и без всяких виршей понятные любому.
– Слава конунгу великому! Дирх ему силы дал, чтобы он белого демона ревностно покарал!
Трудно описать словами неистовство, в которое впала толпа при этом зрелище. Люди хохотали, хватаясь за бока, и Эдвард Фосиган смеялся вместе с ними, свободно и безудержно, так, как не смеялся уже давно. В этот миг он всем сердцем любил этих тупоголовых скотов – за то, что они не перешёптывались у него за спиной, не отводили взгляд, когда он на них смотрел, и не тыкали в него пальцами, когда думали, что он не видит. Они прямо и открыто смеялись над ним и над тем, что считали правдой. Они были честны, и с ними было так легко. «Любопытно, – подумал Эд, утирая выступившие от смеха слёзы, – где встретит завтрашний рассвет эта чудесная труппа, если карликам и чтецу суждено дожить до рассвета. Конечно, конунг справедлив и милосерден, к тому же ни на одном из участников фарса не было цветов Фосиганов или Бристансонов, но всему есть свой предел. Всему есть предел, – думал Эд и смеялся, пока артисты раскланивались, принимая шквал аплодисментов и восторженных криков. – Да, предел есть, они это знают, и я знаю, но они, как и я, никогда не согласятся отступить, подойдя к пределу вплотную. Они согласны узнать, где этот предел, лишь на собственной шкуре, которую с них сдерут заживо в подземельях Сотелсхейма, но пока они не достигли этого предела или он не настиг их, они не захотят и не смогут остановиться. Они как я. Они в точности, как я, и это здорово, это так здорово».
– Что ж, развесёлый люд Сотелсхейма, ты внимал моей глотке лужёной – будь же теперь щедр и милостив к нашим молодожёнам! – провозгласил чтец. Карлица, изображавшая Лизабет, ухватила за рукав карлика-«Сальдо» и потащила его за собой. Вдвоём они обежали толпу по кругу; карлик спотыкался и мычал, хватаясь обеими руками за плечо своей «невесты», а та фыркала на него и трясла широким бубном перед лицами людей, с довольным хохотом бросавших им медь и иногда даже серебро. Когда парочка поравнялась с Эдом, он положил на бубен золотой. Карлица взвизгнула от восторга и склонилась перед Эдом в шутовском реверансе, на удивление изящном. Когда она присела, её рукав выскользнул из руки карлика, тот взвыл, нелепо взмахнул руками и повалился носом в пыль. Толпа стонала от восторга. Эд улыбнулся и, отвернувшись, стал выбираться из толпы.
Это оказалось не так-то просто – толпа у балагана карликов переходила в толчею у помоста с акробатами, а та – в давку возле ринга кулачных бойцов, где разгорячённые ставками и запахом крови люди топтали ноги соседей особенно настойчиво, добывая местечко поудобней. Справа кто-то протяжно взвыл, слева образовалась потасовка. Спереди кричали: «Держи вора!» Сзади: «Так его, так, наседай!» И жёлто-зелёные знамёна Фосиганов победно реяли над радостно буйствующей толпой.
В конце концов Эд сдался и позволил людскому течению нести его куда придётся. В итоге его отбросило к самому краю площади, почти даже и не помяв. Ощутив внезапную свободу от переставших сминать его со всех сторон тел и получив прощальный тычок под ребро, Эд облегчённо вздохнул и сделал самостоятельный шаг по мостовой. Ощущение было восхитительным. Эд оглядел себя, одёрнул помятый плащ и обнаружил, что кошелёк с пояса пропал – только болтались обрезанные завязки. Что ж, можно сказать, легко отделался, хотя идея с уличным трактиром отпала. Это в квартале Тафи его знали и всегда были готовы обслужить в долг – а здесь, в стремительно пьянеющем и теряющем самоконтроль Нижнем городе на слово никто никому не поверит, и будет совершенно прав.
Эд огляделся, пытаясь понять, где очутился и как отсюда лучше пройти к храму Тафи. Он был на самом краю площади, возле дома с наглухо закрытыми дверьми, но настежь распахнутыми окнами во втором этаже; со ставни свисал плющ почти до самой земли, и из-за окна нёсся заливистый женский смех. Народу и палаток тут было совсем немного – только одинокий торговец сластями, уже сворачивавший свой лоток, и переносной навес, под которым на тюках вокруг маленькой жаровни сидели трое женщин. Тёмная кожа и иссиня-чёрные волосы выдавали в них бродяжек-роолло, бездомное племя, которое в обычные дни гнали от городов палками, но в праздники даже для них нашлось местечко на Конунговой площади.
Эд ещё раз окинул взглядом участок, на котором стоял. Ага, вон там виднеется северная башня, значит, этот проулок выведет к рыночной площади, а там…
- Ты стал рабом своей мечты, святой поправ обет.
- И перед кланом должен ты теперь держать ответ.
Эд обернулся.
Одна из женщин роолло пела. Она пела и в тот миг, когда он мельком посмотрел на них и тут же забыл; в руках у неё была лютня, и она играла, кажется, сама для себя и для двух женщин, которые сидели рядом с ней. Людей возле их палатки не было, разве что случайные зеваки проходили мимо, не останавливаясь возле бродяжек, которых продолжали чураться даже в те дни, когда сам бог солнца спускался к людям и пил и веселился со всеми и с каждым их них, как с равным. Но людям и без того сегодня хватало развлечений, а может, песни роолло им уже успели надоесть. И теперь она пела просто для себя.
Эд подошёл к навесу. Его тень упала на поющую женщину.
– Спой сначала, – сказал Эд.
Женщина смолкла и подняла голову. Две другие роолло тоже смотрели на Эда, но он не повернул к ним головы. Та, что пела, была моложе остальных, у неё были продолговатые глаза, приподнятые к вискам, странно большие на сухоньком треугольном личике с серовато-коричневой кожей. Туго заплетённые волосы блестели в закатных лучах, и блестели глаза, и губы блестели, и неожиданно тусклыми на их фоне казались медные браслеты на её узких кослявых запястьях.
– Сначала? – переспросила женщина; у неё был низкий бархатистый голос с едва заметным акцентом, куда менее сильным, чем у большинства людей её племени. – Эту песню?
– Да, эту.
– Хочешь услышать песню – плати, – сварливо сказала её товарка. Другая, помоложе, улыбалась Эду, искоса глядя на него из-под загнутых ресниц. Эд посмотрел на неё, и она призывно качнула полной грудью. Все эти женщины были бедно одеты, и от них несло застарелым потом.
Эд оторвал взгляд от глубокого круглого выреза в рубашке женщины и снова посмотрел на певицу.
– Мне нечем заплатить, – сказал он. – Только что в толпе срезали кошелёк. А иначе бы всё выгреб до последнего гроша, слово чести.
– Нечем платить – так поди прочь, – махнула на него пожилая роолло, явно недовольная взглядами, которыми он обменялся со второй женщиной.
– Нет, тётя Лоло, я ему спою, – отозвалась певица. И улыбнулась, без призыва, без гордыни, без вызова. Так, как будто они знали друг друга давно, и у них была общая тайна.
Эд сел на землю, прямо на мостовую. Женщина пробежала пальцами по струнам и запела снова, негромко, очень чисто и очень спокойно.
- «Мой сын, из дальних сизых гор к тебе взывает мать.
- Мольбу, объятья и укор стремлюсь тебе послать.
- В родимом доме на холме ты не был много лет,
- И перед матерью своей тебе держать ответ».
- «В глухих горах мой старый дом, и ты уже стара.
- На что теперь твоё нытьё? Скорей бы померла!»
- «К тебе взываю я, мой сын, сквозь мглу прожитых лет.
- Молю: гордыню усмирив, послушай мой совет.
- В разврате, сын беспутный мой, великой славы нет.
- И перед любящей женой тебе держать ответ».
- «Что знаешь ты? В постелях дам, моя старуха-мать,
- Я славу, равную богам, могу себе снискать!»
- «Ты стал рабом своей мечты, святой поправ обет.
- И перед кланом должен ты теперь держать ответ».
- «Мой клан – собранье слабаков, где каждый
- трус и лжец.
- И мне отныне всё равно, что с ними быть, что без».
- «Твой друг, поверженный тобой, лежит в сухой траве.
- Перед богами, бедный мой, тебе держать ответ».
- «А что мне боги? За глаза накажут и простят.
- Не бойся, мать: мне Молог сам – и лучший друг,
- и брат».
- «Отвергнув бога и людей, презрев жену и мать,
- Перед самим собой тебе теперь ответ держать».
- И тут умолк беспутный сын, потупив дерзкий взор,
- И для ответа слов найти не может до сих пор.
– Это не ваша песня, – сказал Эд, когда она смолкла.
– Не наша, – согласилась женщина. – Я услышала её далеко отсюда, в северных землях…
– Где именно?
– Не помню. Кажется, в Эвентри.
– Кто тебя ей научил?
Она негромко засмеялась.
– Ты совсем не знаешь нашего племени, сиятельный лорд. Никто не может научить роолло песне. Роолло слышит песню и забирает её себе. Мы всегда воруем то, что хотим получить, другого пути для нас нет. – Улыбка внезапно сошла с её лица. Она протянула руку и положила прохладную сухую ладонь Эду на запястье. – Но эту песню я не крала. Мне подарили её, и это не тот подарок, от которого можно отказаться.
– Оставь его, Сигита, – отчего-то заволновалась старшая женщина.
– Нет, тётя Лоло, не оставлю.
Эд посмотрел на неё с лёгкой улыбкой. Любопытно, который раз за день они разыгрывают этот спектакль? Тёмная рука Сигиты сжалась на его запястье.
– Идём со мной. Я должна тебе кое-что сказать, но не здесь.
– Я не верю в предсказания судьбы, – предупредил Эд. – И у меня правда нет денег.
Роолло встала, потянув его за собой. Под ворчанье старшей женщины и жаркий взгляд той, что помоложе, Эд поднялся и покорно последовал за Сигитой. Они обошли навес и остановились с обратной его стороны, оставаясь среди людской толпы, но скрытые от взгляда двух других женщин.
– Спроси, что хочешь спросить, – сказала Сигита.
– Ничего не хочу, – покачал головой Эд. – Просто я удивился, услышав эту песню… от тебя.
– Спроси, – настойчиво повторила она. Её взгляд был странно напряжённым, не таинственным и не масленым, она глядела не как воровка и не как соблазнительница, и Эд на мгновение утратил уверенность. Он неожиданно понял, что действительно хочет кое-что у неё спросить.
– Когда ты слышала эту песню, – помедлив, наконец сказал он, – кто её пел?
Роолло вздохнула, и прозвучало это так, будто вздох у неё вырвался против воли, но в нём явственно слышалось облегчение.
– Да. Именно так, – сказала она и, кивнув, добавила: – Женщина. Это была женщина. И волосы у неё были как день и ночь.
Она не могла не заметить потрясения, которое отразилось на его лице. И смотрела жадно, как будто для неё было жизненно важно понять, что он почувствовал, услышав ответ.
– Женщина? – переспросил Эд, будто не веря.
– Да. Она сказала, что ты удивишься. Ах, как хорошо, что ты наконец пришел. Теперь мы можем уезжать. Лионе и Лоло нравится этот город, а мне нет, я не могу здесь, мне душно, тут что-то… – она наконец отпустила запястье Эда и, подняв руку, слабо пошевелила пальцами в воздухе. – Что-то странное, тёмное, чувствуешь? Здесь зреет что-то, о чём мне не хочется даже знать.
– Погоди, – Эд схватил роолло за плечи, и её рука безвольно упала. – Что это была за женщина? Что она тебе сказала? Как… какая она?
Сигита слабо качнула головой, глядя на него с лёгкой виноватой улыбкой, будто заранее прося прощения за что-то, чего пока не успела сделать.
– Волосы как день и ночь – вот и всё, что я могу тебе сказать о ней. Она дала мне эту песню и сказала, что, когда я буду петь её в Сотелсхейме, ко мне подойдёт человек и попросит, чтобы я спела сначала. И что он спросит меня, кто научил меня этой песне, и что я должна ответить правду. За это она дала мне столько денег, что мы трое смогли доехать до Сотелсхейма и осталось ещё много больше.
– У неё были волосы двух цветов? Рыжие и чёрные? Да?
– Она велела мне передать тебе две вещи. Ты слушаешь меня?
– Да… да, – медленно выговорил Эд. Его руки судорожно стискивали плечи роолло, но ни он, ни она этого не замечали.
– Она сказала: то, что ты делаешь, делай быстрее, потому что снова родился Тот, Кто в Ответе за всё.
Эд отпустил её.
– Что?..
– Она велела напомнить: в каждое поколение. Они приходят в каждое поколение. Пришёл новый, это значит, что твоё время подходит к концу, – добавила роолло, и Эд кивнул, чувствуя, как её слова проникают в его мозг и кровь, как разъедают его, подобно медленному яду, – так, как разъедали всегда.
– А второе? – спросил он. – Ты сказала, есть ещё второе…
– Да. Ещё она велела сказать: теперь можно. И сделать вот это.
Она поднялась на цыпочки, и Эд только теперь заметил, насколько она ниже его – едва достаёт макушкой ему до плеча. И она так долго, так бесконечно долго тянулась к его губам, что он мог дюжину раз оттолкнуть её и дюжину раз схватить и прижать к себе, но он просто ждал, стоял неподвижно и ждал, что ему отдадут то, чего он когда-то так хотел.
«Теперь можно», – сказала Алекзайн голосом девушки-роолло и поцеловала его губами девушки-роолло, её полными тёмными губами, потрескавшимися от ветра и вечных дорог.
Эд не остался в городе на эту ночь. Он вышел из Сотелсхейма через западные ворота и пошёл вниз по холму, туда, где по всей долине среди полей раскинулись деревеньки и хутора, кормившие жителей города. Сейчас почти все крестьяне веселились в Сотелсхейме, и долина лежала под вечерним небом молчаливым тёмным полотном, изредка поблескивая огоньками пастушьих костров.
А город пылал. Солнце уже село, но Сотелсхейм сам стал на эту ночь солнцем, сияя тысячью разноцветных огней. Эд шёл по дороге вниз, не оборачиваясь, до тех пор, пока шум и пьяное веселье города не перестали гнаться за ним по пятам. Когда он достиг подножия холма, стало совсем тихо, только шуршала трава да скрипела где-то дворовая калитка на ветру. Немного в стороне от городской стены возвышался пригорок, отведённый под пастбище. Там сейчас было пусто; Эд взобрался туда, ступая по упругому ковру короткой травы, и только тогда посмотрел на город.
Очертания башен в фиолетовом небе – будто бесчисленные клыки древнего чудовища, в пасти которого нашли приют многие тысячи людей. Чудовище давно умерло или впало в вечный сон, и эти клыки не грозили тем, кто находился внутри, но служили грозным предупреждением каждому, кто решался помыслить о том, чтобы причинить им вред. Сотелсхейм, Город-На-Холме, называли также Градом Тысячи Башен, хотя на деле их было, конечно, гораздо меньше – порядка полусотни на внешней стене и вдвое меньше на внутренних. Но эти башни, длинные и острые, были неприступны – триста лет стояли они, и триста лет никто не мог взять их штурмом. Сотелсхейм был самым безопасным местом на земле. Сотелсхейм был вечен.
Эд нашёл взглядом шпили замка с тенями реющих знамён, различимых даже в сумерках. Замка, где сейчас веселится знать, громогласно смеётся конунг, скрипит зубами Лизабет Фосиган и сидит, еле сдерживая стоны, её новообретённый муж. Стена, за которую так трудно пробраться тому, кто не родился за ней, и из-за которой потом невозможно выбраться.
Эд сел на землю, ещё хранившую дневное тепло, и провёл ладонью по колючему травяному ковру.
«Эвентри. Она сказала – в Эвентри. Неужели снова…»
Пальцы медленно сжались, сгребая горсть сухой земли.
«Так вы всё-таки живи, моя леди. Живы до сих пор».
Эд Эфрин шумно и глубоко вздохнул. Откинул голову и, закрыв глаза, подставил лицо набиравшему силу вечернему ветру. Здесь, на свободе, ветер ощущался крепче, злее трепал волосы и не боялся обжечь лицо. Эд вспомнил обветренную кожу роолло и провёл языком по губам.
Делай быстрее, так она сказала. То, что делаешь, делай быстрее, Эд из города Эфрина. Но, проклятье, он не мог. Три года здесь и девять – в других местах, а он только начал. Он не мог торопиться, не мог быть ни настойчивым, ни безрассудным, не мог рисковать – тогда всё потеряло бы смысл.
– Ты же этого хотела от меня, – сказал Эд вслух. – Именно этого. Что ж теперь, смотри… как я это сделаю.
Он вскинул руку, швырнул зажатую в ней горсть земли, швырнул вперёд, и она с чуть слышным шорохом посыпалась вниз.
– Смотри и не мешай, – прошептал Эд и снова закрыл глаза.
Но он знал, что лжёт самому себе. Алекзайн не пыталась помешать ему. Она просто хотела его предупредить. Новый Тот, Кто Отвечает… в Эвентри. «Ты хочешь, чтобы я поехал туда и убил его, да, дорогая? Будь ты проклята… ты же знаешь, я не могу, не могу! У меня слишком многое не окончено здесь. Хотя и сделано тоже немало. То, венцом чего стал сегодняшний праздник, – это мой шедевр, Алекзайн, ты гордилась бы мной… Даже не убийством – одной лишь несмертельной раной вывести из игры целый клан. Лизабет Фосиган – послушная дочь, но она никогда не простит своему отцу этого брака, а Сальдо Бристансону – его уродства. Даже не убийством – одной лишь несмертельной раной я разом разорвал связь между конунгом и той, которая влияла на него больше всех, и пресёк обходную дорогу к конунговым милостям для десятков и сотен лизоблюдов. И первые среди них – Бристансоны, вырождающийся, но до сих пор опасный клан, единственной надеждой которого на будущее величие был этот брак. Теперь величие им не светит: бертанцы – гордый народ, и у них никогда не будет косого безъязыкого конунга со шрамом через всё лицо. Даже не убийством – одной лишь несмертельной раной я снял Бристансонов с доски, так же, как два года назад снял с доски Макатри, а потом Деббентри, а потом Лейков… Одного за другим, шаг за шагом – но мне нельзя торопиться, понимаешь, Алекзайн? Мне нельзя. И ты вообразить не можешь, как это трудно, ведь я и сам не знаю, сколько времени ещё у меня осталось… даже без этого твоего нового мальчика из Эвентри.
Мальчик из Эвентри?.. Почему я решил, что это мальчик?»
«Это всегда мальчики», – услышал он голос Алекзайн – бархатистый, насмешливый и бесконечно понимающий голос, такой, каким он был двенадцать лет назад.
Да, это всегда мальчики. И никогда – мужчины.
«Ты так давно меня не видела», – подумал Эд и открыл глаза.
Перед его взглядом не было Сотелсхейма – только тьма ночи, уползавшая в непроглядную даль. И эта тьма, вместе с этой далью, принадлежали ему, хотя ещё сами не знали об этом.
Часть 3
Дом над обрывом
1
Из его спальни было видно море. Оно разливалось немыслимой серо-стальной гладью где-то ужасно далеко – и в то же время прямо под ногами. Дом стоял на краю утёса, дугой нависавшего над Скортиарским заливом, и если высунуться в окно по пояс, то казалось, что он парит прямо над водой, покачиваясь на волнах. Но волны были очень далеко внизу, так далеко, что сюда, наверх, почти не доносилось их шума. Только если затаить дыхание и сидеть в полной тишине, можно было услышать их далёкий приглушённый рёв, будто с другой стороны света.
Адриан никогда прежде не видел моря. Откуда, если самым дальним его путешествием была семейная поездка в соседний фьев, в гости к клану Дерри, к которому по рождению принадлежала мать? Там всё было в точности таким же, как в Эвентри, только река была не так широка. По правде, Адриан никогда особо не задумывался о дальних краях и дивных местах, они не манили его так, как большинство мальчишек в его годы. Анастас иногда, взобравшись на вершину самого высокого в округе дуба, надолго оставался там и смотрел вдаль напряжённым, отстранённым взглядом, и Адриан не трогал его в такие минуты, инстинктивно понимая, что брат сейчас где-то далеко. Так далеко, как сам Анастас, видимо, никогда не окажется. Адриан был теперь там, куда тянуло Анастаса, вместо него.
Позади что-то тяжело грохнуло. Адриан подскочил и порывисто обернулся, едва не свалившись с подоконника. За последние месяцы он приучился чутко реагировать на любой подозрительный звук. Но это была всего лишь служанка, остановившаяся у самого порога с бадьёй воды. Она тащила бадью по лестнице и совсем немного не донесла – едва шагнув за порог, выпустила, расплескав по полу большую часть воды.
Адриан бросил прощальный взгляд на чарующий пейзаж за окном и неохотно повернулся к девушке. Та посмотрела на него с глухой злобой, и Адриан почувствовал себя более чем неуютно. На мгновение он заколебался и даже спустил одну ногу с подоконника, не зная, как поступить. Девушка выглядела его сверстницей, ей наверняка было нелегко таскать по дому тяжести. В замке Эвентри такую работу выполняли мужчины или самые большие и крепкие из батрачек, но… С другой стороны, она ведь только служанка.
– Тебе помочь?
Девчонка выпрямилась, быстрым движением смахнула со лба пот и упёрла руки в бока.
– Если собираешься, зачем спрашивать? – бросила она с вызовом, и Адриан почувствовал, что заливается краской.
– Если тебе нужна помощь, могла бы и попросить, – огрызнулся он, спуская на пол вторую ногу.
– Ты совсем дурак? Твои батрачки часто просили тебя помочь им по хозяйству?
– Ты не моя батрачка, – возразил Адриан, всё больше злясь и уже жалея, что вообще завёл с ней разговор.
– То-то и оно, – многозначительно заметила девчонка и сложила руки на груди, явно дожидаясь от него более активных действий. Подавив вздох, Адриан спрыгнул наконец с подоконника и подошёл к ней. Ещё месяц назад он, вероятно, не сделал бы ничего подобного и, ещё более вероятно, со стоном бы надорвался от такой тяжести. Но сейчас многое было не так, как месяц назад, и дни заточения в горах не прошли для Адриана даром. Подхватив бадью – она оказалась вовсе не так уж и тяжела, – Адриан оттащил её в дальний от окна угол, где находился водосток и стояла небольшая мраморная ванна. Дом был удобен и красив, но не очень-то велик, поэтому купальню и спальню приходилось совмещать. Впрочем, это были первые личные покои в жизни Адриана, и ему не приходилось жаловаться.
Опрокинув бадью над ванной, а затем с грохотом опустив её на пол, Адриан перевёл дух и обернулся к девушке, мимолётно удивившись, как это она, такая маленькая и хрупкая, волокла этакую тяжесть по лестнице вверх. Девчонка неверно истолковала его взгляд и задрала нос ещё выше. Она совсем не походила на прислугу из богатого дома.
– Ты половину разлила, – неприязненно сказал Адриан. – Принеси ещё.
Она фыркнула.
– Чего ты фыркаешь?
– А? – лениво отозвалась та, будто недослышав.
– Чего фыркаешь, спрашиваю? – непроизвольно сжав кулаки, повысил голос Адриан. Он не привык, чтобы слуги так себя вели, и запоздало понял, что изначально пресёк любой трепет и уважение, который могла питать эта смердка к его персоне. Что ж, его глупость, ему теперь и отвечать…
– Так, – невнятно отозвалась служанка и добавила: – Воды сейчас нет. Надо к ручью идти. А у меня на кухне дел полно.
Адриан перевёл дух. Нет, так дело не пойдёт. Он попытался вспомнить, как вёл разговоры со слугами его отец.
– Как тебя зовут?
Её взгляд стал настороженным. Руки соскользнули с боков и нырнули в складки юбки, будто она испугалась или прятала что-то.
– Вилма.
– Милорд, – жёстко добавил Адриан.
– Чего?..
– Вилма, милорд – так ты должна была ответить.
– Это ещё почему?
Адриан сглотнул. Девчонка смотрела на него хитро и подозрительно. Он внезапно понял, что так беспокоит его в её взгляде.
У этой девушки глаза были разного цвета – один карий, другой ярко-зелёный. Знак, по которому в народе безошибочно узнают людей, отмеченных Мологом.
Адриан с трудом удержал охранный жест. Вилма словно почувствовала это и скривилась.
– Ты кто такая вообще? – резко выпалил он. Служанка моргнула, кажется, слегка растерявшись. Адриан почувствовал мимолётное удовольствие от этой маленькой победы.
– Я?.. Вилма, я же сказала.
– Ты служанка в этом доме, так?
– Ну.
– Не «ну», а «да, милорд». Ты служанка в этом доме, а я гость, к тому же я дворянин, а ты…
– Тебе кто-нибудь говорил, до чего ты гадкий? – с отвращением бросила Вилма, и пока Адриан, раскрыв рот, хлопал глазами, не в силах поверить в такую дерзость, взмахнула мокрыми юбками и ушла, громко хлопнув дверью.