Жизнь без бога. Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня Казеннов Дмитрий
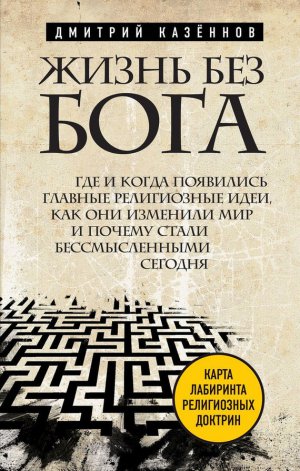
Главная проблема классической философии заключается в том, что она без необходимости утверждает слишком многое. Идеи, благо, справедливость, «человеческий разум в силу своей склонности легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем их находит».
Бэкона беспокоят причины, по которым его современники и философы античности так часто и так однообразно ошибались. Он рассказывает об этих причинах, перечислив четыре, как он их назвал, «идола»[46]: это источники заблуждений, мешающие познанию.
Четыре знаменитых идола Бэкона, вот они:
«Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде».
Причиной первого типа заблуждений, таким образом, является человеческая природа. Очевидно, что чувства могут быть обманчивы, еще Платон и Аристотель выдвигали чувствам такие претензии. Но претензии к уму человека — нечто немыслимое для Античности. Вспомните, Платон считал созерцание чистых идей восхождением над человеческой природой до уровня богов, а Аристотель полагал первопричиной мира совершенный интеллект. Результат такого «человеческого, слишком человеческого» заблуждения — антропоцентризм, то соотнесение всего окружающего мира с параметрами человеческой природы. Вместе с аристотелевской телеологией, то есть учением о целесообразности действительности, антропоцентризм порождает так называемый антропный принцип, который до смешного глуп: будто бы Вселенная устроена таким образом, чтобы в ней существовал человек, и в этом нетрудно разглядеть замысел. Легко убедиться, что людям приходится приспосабливаться к действительности, и даже человеческое прямохождение, речь, координация движений рук и способности мозга, которые мы называем интеллектом, — являются способами приспособления к окружающей среде. В конце концов человеку приходится изготавливать орудия и одежду, чтобы выжить. Но задумайтесь об идее замысла, и вы быстро обнаружите, что мы приписываем окружающему миру свои собственные интенции. Это наша природа, и только она вынуждает нас видеть проявление злой воли в предметах и обстоятельствах и разумное намерение в последовательности событий, ведь «воля» и «намерение» — лишь слова, которыми мы описываем часть себя.
«Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире».
Разумеется, это аллюзия к платоновской пещере, но в данном случае причиной заблуждений является не подобие материального мира теням, а индивидуальные особенности человека, натура и воспитание. Верующие зачастую предельно категорично утверждают, что они разделяют убеждения огромного количества людей, живших на протяжении тысячелетий. Будто бы любое возражение против веры есть возражение против всего этого полчища ныне отошедших во прах. Но именно сам верующий и только он один, самостоятельно и лишь в силу своих умственных способностей делает выводы об историческом величии и о массовости какого-либо мифа. Именно верующий человек, и только он сам, принимает решение доверять тем или иным религиозным ораторам.
«Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям».
Платон не различал понятия, существующие в языке, и реальность. Пифагор считал цифры существующими в особой форме подобно вещам. Средство описания, которое мы используем, может быть источником ошибок. Значительная часть проблем классической философии — это злоупотребление языком, и дело здесь не только в простых ошибках. Есть удивительные примеры из филологии, когда последовательность бессмысленных выдуманных слов кажется нам предложением, имеющим сказуемое и подлежащее (примеры Людмилы Петрушевской: бутявки и калушата). Но что еще более важно, не все правильно построенные предложения имеют смысл. Бог есть любовь — пример подобного предложения.
«…тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же более острый разум и прилежное наблюдение хотят пересмотреть эти границы, чтобы они более соответствовали природе, слова становятся помехой. Отсюда и получается, что громкие и торжественные диспуты ученых часто превращаются в споры относительно слов и имен, а благоразумнее было бы (согласно обычаю и мудрости математиков) с них и начать, для того чтобы посредством определений привести их в порядок. Однако и такие определения вещей, природных и материальных, не могут исцелить этот недуг, ибо и сами определения состоят из слов, а слова рождают слова, так что было бы необходимо дойти до частных примеров, их рядов и порядка, как я скоро и скажу, когда перейду к способу и пути установления понятий и аксиом.
Идолы, которые навязываются разуму словами, бывают двух родов. Одни — имена несуществующих вещей (ведь подобно тому как бывают вещи, у которых нет имени, потому что их не замечают, так бывают и имена, за которыми нет вещей, ибо они выражают вымысел); другие — имена существующих вещей, но неясные, плохо определенные и необдуманно и необъективно отвлеченные от вещей. Имена первого рода: „судьба“, „перводвигатель“, „круги планет“, „элемент огня“ и другие выдумки такого же рода, которые проистекают из пустых и ложных теорий. Этот род идолов отбрасывается легче, ибо для их искоренения достаточно постоянного опровержения и устаревания теорий.
Но другой род сложен и глубоко укоренился. Это тот, который происходит из плохих и неумелых абстракций. Для примера возьмем какое-либо слово — хотя бы „влажность“ — и посмотрим, согласуются ли между собой различные случаи, обозначаемые этим словом. Окажется, что слово „влажность“ есть не что иное, как смутное обозначение различных действий, которые не допускают никакого объединения или сведения. Оно обозначает и то, что легко распространяется вокруг другого тела; и то, что само по себе не имеет устойчивости; и то, что движется во все стороны; и то, что легко разделяется и рассеивается; и то, что легко соединяется и собирается; и то, что легко течет и приходит в движение; и то, что легко примыкает к другим телам и их увлажняет; и то, что легко обращается в жидкое или тает, если перед тем пребывало твердым. Поэтому, если возникает вопрос о применимости этого слова, то, взяв одно определение, получаем, что пламя влажно, а взяв другое — что воздух не влажен. При одном — мелкая пыль влажна, при другом — стекло влажно. И так становится вполне ясным, что это понятие необдуманно отвлечено только от воды и от обычных жидкостей без какой бы то ни было должной проверки»[47].
Перед нами практически логика аналитической философии в работах Карнапа или Айера. Это очень простая, но важная мысль: иногда следует разобраться, по поводу чего и в каких конкретно условиях делаются те или иные утверждения, и как переформулировать их так, чтобы обнаружить настоящее значение сказанного. Подобный анализ может внести большую ясность, разрешить какие-то проблемы, которые порождены нашим же словоупотреблением. Конечно, Платон, рассуждающий о справедливости самой по себе, — это замечательный пример внесения большой путаницы по незначительному поводу.
«Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы говорим это не только о философских системах, которые существуют сейчас или существовали некогда, так как сказки такого рода могли бы быть сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма различных ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности. Однако о каждом из этих родов идолов следует более подробно и определенно сказать в отдельности, дабы предостеречь разум человека».
Это прямой бэконовский выпад против Античности. Думаю, на данном этапе уже понятно, что не устраивало Фрэнсиса Бэкона в философии Платона или Аристотеля: разговоры о душе, благе и первоначале — это просто мифы, ничем не отличающиеся от мифов об андрогинах или Атлантиде. Но богословские схемы христианской патристики еще более скверны в этом отношении, чем платонизм. Трудно отделаться от впечатления, что Платон рассказывал о буквально окрыляющейся душе, колесницах богов, удивительных камнях «на берегу неба» или двуполых перволюдях не без иронии (Сократ вообще кажется довольно ироническим персонажем). Эти философские мифы можно рассматривать как иллюстрации, как иносказание, как аллегорию. Не нужно верить в существование Атлантиды, чтобы понять платоновские убеждения о морали и справедливости.
Однако религии далеко не так самокритичны и требуют дословного восприятия самых абсурдных своих мифов, вроде евхаристии — ритуала христианского причастия, которое с точки зрения католицизма и православия есть буквальное поедание человеческого мяса и крови (это изумительное свойство христианства подчеркивал неоплатоник и ученик Плотина Порфирий). Нельзя быть христианином, не веря буквально в двойственную антиномическую природу основателя этой традиции.
Но сам Бэкон был не готов к тому, что спустя сотню лет проделал Вольтер, крикнув о христианской церкви: раздавить гадину! Впрочем, для целей данного разговора не имеют значения ни вежливость первого, ни грубость второго. Содержание религиозных мифов — не предмет для чувств, а клерикализм слишком скучен, чтобы в который раз заслужить критику. Философская сторона проблемы, отношение спекуляции и достоверного знания, более значима, чем простой антиклерикализм в духе наиболее конфликтных публицистов эпохи Просвещения. Политические аргументы против безумных социальных систем вроде нацизма или большевизма или против религиозного фундаментализма могут быть парированы категоричной демагогией: духовенство или члены злокачественной партии могут обвинить своих оппонентов во всевозможных изъянах, умственной неполноценности, ангажированности, аморальности и отсутствии патриотизма (главный их демагогический аргумент). Спорить по вопросам чистой логики несравненно сложнее. И если отдельные политические меры еще могут быть предметом рациональной дискуссии, то разговор о мифе всегда будет сопровождаться скандалом. Позиции политических или коммерческих «духовников» всегда будут нечестными и беспомощными перед лицом точного знания.
Логический порок религии врожденный, он более важен, чем история существования религиозных организаций со всеми их зверствами (давайте не будем лицемерить и назовем все своими именами). Этот порок нельзя оправдать, его нельзя категорично отрицать, как отрицают инквизицию, холокост, терроризм или голодомор, за него нельзя извиниться. И именно для того, чтобы ухватить суть этого порока, я начал разговор с вопросов философии, а не собственно религии. Новое время начиная в лице Бэкона вынесло этому пороку простой приговор. Эмпиризм и вслед за ним естествознание, позитивизм и аналитика убили и разорили метафизику.
«Человеческий ум по природе своей устремлен на абстрактное и текучее, мыслит как постоянное. Но лучше рассекать природу на части, чем абстрагироваться. Это делала школа Демокрита, которая глубже, чем другие, проникла в природу. Следует больше изучать материю, ее внутреннее состояние и изменение состояния, чистое действие и закон действия или движения, ибо формы суть выдумки человеческой души, если только не называть формами эти законы действия»[48].
Вообще, идолы языка (площади) и идолы плохих теорий (театра) на самом деле представляют собой единую проблему, которая и является ядром всего нашего разговора. Плохой язык и порождает плохую теорию. Вот что говорит Бэкон об авторе «Метафизики» (школу которого он называет софистической):
«…Аристотель, который своей диалектикой испортил естественную философию, так как построил мир из категорий и приписал человеческой душе, благороднейшей субстанции, род устремления второго порядка; действие плотности и разреженности, посредством которых тела получают большие и меньшие размеры или протяженность, он определил безжизненным различием акта и потенции; он утверждал, что каждое тело имеет свое собственное единственное движение, если же тело участвует в другом движении, то источник этого движения находится в другом теле; и неисчислимо много другого приписал природе по своему произволу. Он всегда больше заботился о том, чтобы иметь на все ответ, словами высказать что-либо положительное, чем о внутренней истине вещей…
В физике же Аристотеля нет ничего другого, кроме звучания диалектических слов. В своей метафизике он это вновь повторил под более торжественным названием, будто бы желая разбирать вещи, а не слова»[49].
Впрочем, при всем его пафосе против классиков Бэкон довольно осторожно, как политик, отзывается о богословии: «…из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия. Поэтому спасительно будет, если трезвый ум отдаст вере лишь то, что ей принадлежит». Я глубоко убежден, что каждый раз, когда, несмотря на всю научную аргументацию, религии отводится ее ниша, это означает лишь политический жест. Вместо богословов достается античным авторам, за кого уже не вступятся короли и духовенство.
«Поэтому название „софисты“, которое те, кто хотел считаться философами, пренебрежительно прилагали к древним риторам — Горгию, Протагору, Гиппию, Полу, подходит и ко всему роду — к Платону, Аристотелю, Зенону, Эпикуру, Теофрасту и к их преемникам — Хризиппу, Карнеаду и остальным. Разница была лишь в том, что первый род софистов был бродячий и наемный: они проходили по городам, выставляли напоказ свою мудрость и требовали платы; другой же род софистов был более респектабелен и благороден, ибо он состоял из тех, кто имел постоянное жительство, кто открывал школы и даром поучал своей философии»[50].
Эти слова далеко не так невинны по отношению к вере. Если вы видите связь между античными метафизиками и богословием так же, как ее вижу я, вы понимаете, что нельзя одно критиковать отдельно от второго. У богословия и классической философии общие проблемы. Эта проблема в том, что умозрительные суждения прямо противоположны конкретному экспериментальному знанию. Знание приносит нам плоды, а для Бэкона важны были плоды наук. Впрочем, для нас сегодня плоды наук важны несравненно больше, чем для него. Мы знаем, что научное знание изменяет мир, а умозрительное спекулятивное рассуждение не приводит ни к чему.
Наука создала тот мир, в котором мы живем. Ей нет альтернативы. Самый безудержный режим и самая безумная теократия нашего мира, Северная Корея и Иран, делают ставку на разработку оружия массового поражения, и изделие либо работает, либо нет. С эйдосами и категориями все не так.
Проблема не в философии вообще. Философия — это логика, основы математики, метод экспериментов, анализ норм права, дедукция и индукция, анализ и синтез. Самые выдающиеся ученые и математики XX века занимались философией: Тарский и Шредингер, Фейнман и Гильберт. Проблема конкретно в спекуляциях и в метафизике. Но я полагаю, наш мозг и наша культура не могли сразу начать производить принципы научного метода, и вся метафизика мира была своего рода издержкой на пути взросления интеллекта нашего вида. Мы действовали методом перебора, и вся история нашей цивилизации — лишь большой комбинаторный процесс, в котором поверхностные мысли о социальной инженерии на основе кабинетных философских обобщений приводили к социальным катастрофам и давали власть над народами преступникам вроде Иосифа Джугашвили или Пол Пота, а поступательные поиски конкретной истины отправили космические зонды за пределы Солнечной системы.
Однако во времена Фрэнсиса Бэкона современной науки еще нет. Бэкон говорит о науках, но имеет в виду и античную философию, и медицину XVII века, и даже спекуляции алхимиков. Еще один довод в пользу того, что без целенаправленных философских интеллектуальных поисков, которые позволили отделить целительство от доказательной медицины, а алхимию от химии, науки не было бы. Бэкон постоянно повторяется о том, что даже практики его времени, такие как врачи, подвержены влиянию мнения большинства и предрассудков. Медицина XVII века, конечно, — не медицина XXI века, хотя даже сегодня методы медицины бывают проблемными при всем их совершенстве: особенно точные и избирательные эксперименты не поставишь по очевидным этическим проблемам, а иные темы исследований вроде соотношения расовой принадлежности и интеллектуальных способностей до сих табу.
Когда я читаю Бэкона, меня удивляет его пессимизм. Подумайте только, мы живем в эпоху наиболее высоких достижений человеческой науки, но просто не замечаем этого. Дело далеко не в мобильных устройствах с сенсорными экранами или данных об экзопланетах, мы элементарно не умираем от скарлатины. Бэкон видел три коротких исторических периода расцвета наук, в Греции, в Риме и в современной ему Западной Европе (последний он тоже называл коротким), причем он постоянно сетовал на несовершенство современных ему наук и на идолы, мешающие разуму. Мог ли Бэкон предвидеть масштабную индустриализацию XIX века? Серию научно-технических революций? Конвейерное производство, ядерное оружие, электронику и трансгуманизм? Задумайтесь, как изменился наш мир всего за несколько столетий, и как изменилась сама наука.
Бэкон под естественной философией понимал естественные науки, философию и паранауку. «Античную науку» он критиковал за то, что она была направлена преимущественно на моральные вопросы. Тот новый метод, который он пытается формализовать, представляет собой обычный эксперимент, в значительной степени очищенный от метафизических предрассудков. Но даже для ученых того времени это было немало. Современник Бэкона Рене Декарт помимо математики и философии увлекался алхимией. Спустя столетие Исаак Ньютон был неоплатоником и искал вечные законы природы. Это довольно странно для современных естественных наук, ведь то, что мы называем «законом природы» (в силу традиции), является нашим теоретическим обобщением, и только.
Суммировать роль Фрэнсиса Бэкона просто. Он поставил важные вопросы, хотя не решил их. Бэкона можно назвать популяризатором естествознания, при том, что ученым он не был. Его конкретные достижения, которые важны для нас, — это мысль о том, что дедукция и категорический силлогизм Аристотеля не обязательно позволяют получить истинное знание (иначе не было бы проблемы метафизики). Сам язык может быть источником заблуждений (некоторые понятия ничего не означают). Бэкон заговорил об индукции и экспериментальном научном методе, как об альтернативе классике. Мысль Бэкона о фундаментальном, логическом различии науки и метафизики предельно важна (хотя индукция, как потом окажется, не позволяет обосновать это различие окончательно). К каким бы ходам ни прибегали в своей полемике апологеты религий, факт того, что религия не имеет ничего общего с эмпирическим знанием, для них есть непреодолимый вызов. Религия навсегда осталась в Античности. Нельзя реформировать религию таким образом, чтобы привести в соответствие с науками, которым мы так обязаны. Одна эта простая мысль достаточна, чтобы закрыть любое размышление о возможности истинности религии: религиозный миф вообще вне истинности. Сколько бы ни спорили о нем, мы не получим в результате никакого нового знания.
Именно становление эмпиризма, манифестом которого стало сочинение Фрэнсиса Бэкона, породило Просвещение XVIII века, а Просвещение — это уже всеми нами любимые радикальные атеисты и антиклерикалы, а также прочие коварные иллюминаты. Но энциклопедисты были скорее публицистами, чем фундаментальными философами. Они просто вслух экстраполировали выводы Фрэнсиса Бэкона, Дэвида Юма и Джона Локка на богословие и религиозность.
Вольтер и Гольбах стали теми, кем они стали, благодаря становлению естественно-научного метода и закату метафизики.
2. Против бесплодного поиска Первопричин. Причины и следствия в науке по Дэвиду Юму
Итак, прямая противоположность метафизике — эмпиризм. Но Бэкон высказал лишь общие возражения против догматизма, и следует показать, в чем именно, в каких конкретных утверждениях философский догматизм Античности, который целиком переняло религиозное мировоззрение, противоречит нашим сегодняшним принципам познания. А поскольку речь зашла о представлении о причинности у Аристотеля, просто необходимо рассказать о том, что противопоставил учителю Александра Македонского один из самых выдающихся философов-эмпириков Нового времени Дэвид Юм в его работе «Исследование о человеческом познании». Юм сформулировал совершенно противоположное аристотелевскому представление о причинности, не метафизическое, но научное! Что еще более важно, именно этим пониманием причинности пользуемся мы каждый день в своей обыденной жизни. Это предельно важно для нашего разговора о религии: когда религиозный человек риторически вопрошает о том, какова причина происходящих в его жизни событий, он на самом деле не интересуется тем, какие конкретные события определили его сегодняшний день. Какая ему разница, что проблемы со здоровьем были вызваны вредными привычками и нежеланием заниматься спортом? Подобный буквальный и прямолинейный ответ слишком банален (но требует решительно изменить свою жизнь на деле). Вместо этого религиозный человек желает услышать или придумать поучительную историю, которая бы замысловатым образом связала бы его злоключения с какими-то отдаленными событиями его прошлого, с некими проступками, с воображаемой волей божественных или демонических сил, с чем-то мелодраматичным и интересным. «Будто бы цель обстоятельств моей судьбы — научить меня чему-то». Подобная ситуация — иллюстрация противоположности метафизического и научного понимания самой причинности, воплощенных соответственно у Аристотеля и Юма.
«Однако темноту глубокой и абстрактной философии осуждают не только за то, что она тяжела и утомительна, но и за то, что она является неизбежным источником неуверенности и заблуждений. И действительно, самое справедливое и согласное с истиной возражение против большей части метафизики заключается в том, что она, собственно говоря, не наука и что ее порождают или бесплодные усилия человеческого тщеславия, стремящегося проникнуть в предметы, совершенно недоступные познанию, или же уловки общераспространенных суеверий, которые, не будучи в состоянии защищаться открыто, воздвигают этот хитросплетенный терновник для прикрытия и защиты своей немощи»[51].
В своей работе Дэвид Юм превосходно описывает устройство того, что мы называем человеческим мышлением или работой ума: это комбинаторика опытных данных, то есть содержимого памяти.
«На первый взгляд ничто не кажется более свободным от ограничений, чем человеческая мысль, которая не только не подчиняется власти и авторитету людей, но даже не может быть удержана в пределах природы и действительности. Создавать чудовища и соединять самые несовместимые формы и образы воображению не труднее, чем представлять (conceive) самые естественные и знакомые объекты. Тело приковано к одной планете, по которой оно передвигается еле-еле, с напряжением и усилиями, мысль же может в одно мгновение перенести нас в самые отдаленные области Вселенной или даже за ее границы, в беспредельный хаос, где природа, согласно нашему предположению, пребывает в полном беспорядке. Никогда не виденное и не слышанное все же может быть представлено; ничто не выходит за пределы могущества мысли, кроме того, что заключает в себе безусловное противоречие.
Но хотя наша мысль, по-видимому, обладает безграничной свободой, при более близком рассмотрении мы обнаружим, что она в действительности ограничена очень тесными пределами и что вся творческая сила ума сводится лишь к способности соединять, перемещать, увеличивать или уменьшать материал, доставляемый нам чувствами и опытом. Думая о золотой горе, мы только соединяем две совместимые друг с другом идеи золота и горы, которые и раньше были нам известны. Мы можем представить себе добродетельную лошадь, потому что на основании собственного переживания способны представить себе добродетель и можем присоединить это представление к фигуре и образу лошади — животного, хорошо нам известного. Словом, весь материал мышления доставляется нам внешними или внутренними чувствами, и только смешение или соединение его есть дело ума и воли. Или, выражаясь философским языком, все наши идеи, т. е. более слабые восприятия, суть копии наших впечатлений, т. е. более живых восприятий»[52].
В сущности, ни Платон, ни отцы христианской церкви не получали при помощи умозрения новое знание. Говоря об идеях, они имели в виду вполне конкретные предметы:
«…анализируя наши мысли, или идеи, как бы сложны или возвышенны они ни были, мы всегда находим, что они сводятся к простым идеям, скопированным с какого-нибудь предыдущего ощущения или чувствования (feeling or sentiment). Даже те идеи, которые кажутся нам на первый взгляд наиболее далекими от такого источника, при ближайшем рассмотрении оказываются проистекающими из него. Идея Бога как бесконечно разумного, мудрого и доброго существа порождается размышлением над операциями нашего собственного ума и безграничным усилением качеств доброты и мудрости. Мы можем вести наше исследование до каких угодно пределов и при этом всегда обнаружим, что каждая рассматриваемая нами идея скопирована с впечатления, на которое она похожа»[53].
Юм совершенно убежден, что все то, что мы называем содержанием мышления, представляет собой комбинаторику чувственных данных. О проблеме врожденного или приобретенного характера идей, которая так занимала раннего эмпирика Локка, Юм замечает, что идеи у первого понимаются слишком общо, включая аффекты. Очевидно, что нельзя назвать приобретенными агрессию или половое влечение. Это значит для нас сегодня, что существуют особенности мозга, которые определены наследственностью, имеют эволюционное происхождение и которые, в свою очередь, предопределяют то, каким образом наш мозг оперирует чувственными данными и памятью. Нет ничего удивительного в факте врожденного и универсального для всех людей без исключения характера некоторых реакций, вроде безусловного коленного рефлекса. Такими же предопределенными могут быть некоторые реакции мозга и даже принципы, по которым мозг связывает приобретенную информацию.
Здесь я хотел бы специально подчеркнуть для людей, получивших представление о философии в советской традиции: Дэвида Юма невозможно вписать в таблицу разновидностей «материализма» и «идеализма», которую зубрили в советских вузах. Когда Юм говорит об идеях, он имеет в виду не самостоятельное существование идей в реальности идей, как это делал Платон. Под идеями Юм понимает вполне материальное содержимое памяти. Шагнув дальше, мы можем сказать, что речь идет об организации мозга. Дэвид Юм в своей работе занимается эпистемологией, то есть вопросами теории познания, а не онтологией, то есть вненаучным рассуждением о метафизическом устройстве реальности. Это может ускользать от внимания людей, слабо знакомых с философией, но некритично относящихся к марксизму и большевизму. Забегая вперед, скажу, что Карл Маркс был чистым гегельянским метафизиком, рассуждавшим о законах истории самих по себе и диалектике тезисов и антитезисов, не менее причудливой, чем причины Аристотеля. Работы Маркса никогда не имели отношения к науке.
Но еще меньшее отношение к науке имели чисто идеологические конструкции советской «материалистической» традиции. Советский «материализм» представляет собой метафизику, поскольку опирается на рассуждения о «материи самой по себе» Людвига Фейербаха, что ближе Платону или Спинозе с его субстанцией, чем к физике, в которой материя — это конкретные частицы, имеющие массу покоя. В силу этого критерия поле в физике не является материей, но это совершенно не означает, что электромагнетизм имеет какое-либо отношение к «идеализму» или «действию духов» (впрочем, от уродливого политического режима, отрицавшего законы наследственности и генетику целиком (дело Вавилова) в пользу кабинетного философствования XIX века и псевдонауки Лысенко, можно ожидать любых, самых безумных выводов). Вся проблема здесь только в понятийном аппарате, и уже на уровне понятийного аппарата марксизм имеет не большее отношение к естествознанию, чем теология. Разгадка проста: современная наука — это эмпиризм Юма и Маха в сочетании с атомизмом Левкиппа и Демокрита, а данные о полях и частицах получаются на основании экспериментальных данных, а не отвлеченных рассуждений Маркса «о материи и идеях». Показательна история знаменитой работы Владимира Ульянова «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». В своей работе Владимир Ульянов утверждает, что Маху свойственно убеждение, что «мир существует лишь в нашем сознании», а суть материализма заключается в том, что «материальные предметы существуют независимо от нашего сознания, сами по себе». На самом деле Эрнст Мах никогда не утверждал, что существует лишь человеческое сознание, а мир является продуктом воображения. Напротив, в работе «Познание и заблуждение» Мах прямым текстом сводит мыслительную деятельность к работе головного мозга, а интеллектуальные способности человека к условным рефлексам, в связи с чем ссылается на многочисленные медицинские исследования своего времени. Что же ввело одиозного предводителя петроградского переворота в заблуждение? Мысль Маха заключается в том, что любую информацию о действительности мы получаем благодаря органам чувств, что совершенно логично и очевидно. Соответственно, все наши предложения о фактах и закономерностях окружающего мира описывают лишь наши опытные данные либо предсказывают новые опытные данные. В этом суть научного метода (Мах — один из наиболее выдающихся физиков рубежа XIX–XX веков)! Эрнст Мах писал в своих трудах об эпистемологии (методе науки), а Владимир Ульянов писал в своей работе об онтологии (об устройстве действительности). Развивая логику Маха, можно сказать, что утверждение о том, что «вещи существуют помимо нашего сознания», настолько же бессмысленно, как и утверждение о том, что «вещи существуют только в нашем сознании» (оба ответа даны на бессмысленный вопрос). И в этом Ленин встает не на позиции ученых, а на позиции Иммануила Канта с его рассуждениями «о вещах самих по себе» (о ноуменах в противовес феноменам). Но в своей критике Канта Мах указывает, что само рассуждение «о вещах самих по себе» не имеет под собой никакого опытного основания. Воображаем ли мы, что вещи на самом деле отличаются от того, «что нам кажется», или же что вещи «пропадают» «из реальности», стоит нам отвернуться — это в равной степени праздный вымысел. У нас нет никаких оснований говорить о «кажущемся» и «подлинном» (что есть это апофатическое «подлинное» само по себе?), мы можем судить лишь о данных и условиях получения данных, где условия получения данных — единственный источник информации о возможных искажениях, например об оптических иллюзиях. Мы знаем лишь о том, что видим и можем описать. Известен знаменитый юридический анекдот: когда студентам-юристам женского пола описали гипотетическую ситуацию, в которой их клиент спрятала в стол зеленую шкатулку, стоило только ее мужу войти в комнату, и попросили ответить на вопрос о том, что было спрятано, те дали множество самых разных ответов, от бумаг государственной тайны до фотографии любовника. Все студенты-юристы мужского пола дали один-единственный ответ: их клиент спрятала зеленую шкатулку. В этом анекдоте суть и естественной науки, и криминалистики.
С понятием истины в советской философии тоже беда, поскольку в так называемой ленинской теории отражения «отражение» признавалось не определенным отношением[54], которое возникало между знанием и познаваемым миром (истинность утверждения), а свойством материи, присущим всем ее уровням (В.И. Ленин, А.М. Коршунов, Б.С. Украинцев, А.Д. Урсул)[55]. В этом теория отражения напоминает даже не аристотелизм, в котором истина не существует в вещах, а является продуктом мысли, который возникает при связывании субъекта и предиката в высказываниях, а скорее платонизм с его подлинным бытием. Истинность в теории «отражения» — вопрос «конкретности истины», а конкретность — это «диалектическая абстрактность», которая «соединяет в себе единичное и всеобщее» (Т. Павлов, Т.К. Никольская)[56]. Вот существо позиции Ленина по вопросу об истине: истинность — это конкретность, конкретность — это абстрактность, вот и все «отражение». Вывод: философские основания большевизма — простая демагогия.
Но вернемся в Дэвиду Юму, из-за которого нам пришлось завести разговор о советском преломлении марксизма. Самым важным для Юма являются закономерности, в соответствии с которыми мозг связывает содержимое памяти. Он называет их: это сходство, смежность в пространстве и времени и, наконец, причинность: «Портрет естественно переносит наши мысли к оригиналу (сходство); упоминание об одном помещении в некотором здании естественно ведет к вопросу или разговору о других (смежность), а думая о ране, мы едва ли можем удержаться от мысли о следующей за ней боли (причинность)»[57].
Дэвид Юм разделяет «отношения между идеями» (математическую и геометрическую истину) и фактами. О природе математического знания нужно говорить отдельно, чтобы в конце концов прийти к пониманию математики как исключительно средства описания, внутренние правила которого постулируются и ничего не говорят о фактах эмпирической действительности. Что же касается фактов, то Юм говорит, что «все заключения о фактах основаны, по-видимому, на отношении причины и действия. Лишь с помощью этого отношения можем мы выходить за пределы свидетельств нашей памяти и чувств… Все наши заключения относительно фактов однородны: в них мы постоянно предполагаем, что существует связь между наличным фактом и фактом, о котором мы заключаем на основании первого; если бы ничто не связывало эти факты, наше заключение было бы совершенно ненадежно»[58].
Таким образом, по мысли Юма, природа очевидности, то есть эмпирическая истина — это вопрос причин и действий. А причины и действия представляют собой события, которые связывает наш мозг. Подобная постановка вопроса об истине об окружающей действительности совершенно не похожа на догматическую античную философию с ее подлинным бытием и формальными причинами.
«Я решаюсь выдвинуть в качестве общего положения, не допускающего исключений, то, что знание отношения причинности отнюдь не приобретается путем априорных заключений, но проистекает всецело из опыта, когда мы замечаем, что отдельные объекты постоянно соединяются друг с другом… Ни один объект не проявляет в своих доступных чувствам качествах ни причин, его породивших, ни действий, которые он произведет; и наш разум без помощи опыта не может сделать никакого заключения относительно реального существования и фактов»[59].
Это кажется отвлеченным доводом против Античности и вместе с ней всей метафизики, включающей интеллектуальные тенета религии. Но один простейший и очевидный пример заставляет осознать, как далеко время Дэвида Юма отстоит от времени Платона или Оригена: «…никто не воображает, будто взрыв пороха или притяжение магнита могли быть открыты посредством априорных аргументов»[60].
Просто подумайте об одном простом выводе, который уже на этом этапе нашего разговора напрашивается сам собой: метафизика не содержит никакого нового знания. Это бессмыслица и тавтологии. Святые отцы христианской церкви и выдающиеся богословы поздних времен буквально не знали ничего. Эти люди были невежественны относительно огромного количества тривиальных знаний, доступных нам сегодня, но вместе с тем они полагали, что рассуждают о высшей и наиболее значительной истине, причем их претензии были совершенно голословны.
Дэвид Юм прямо и однозначно высказывается против связи понятия причины и понятия движения у Аристотеля: «Наш ум никоим образом не может найти действия в предполагаемой причине, даже посредством самого точного и тщательного рассмотрения, ведь действие совершенно отлично от причины и в силу этого никогда не может быть открыто в ней»[61].
Мы можем многократно наблюдать, как одно событие следует за другим. Один бильярдный шар сталкивается со вторым, и тот приходит в движение. Но мы могли бы представить себе любой другой исход столкновения (оба шара замрут в одной точке, или первый шар покатится в обратном направлении с той же скоростью), и ждем того результата, который мы назовем «закономерным» только потому, что много раз наблюдали его. В событии самом по себе нет ничего проистекающего непроизвольно из причины события. Мы знаем из опыта, что обогащенный уран в определенных условиях излучает теплоту, которую мы используем в реакторах для превращения воды в пар, но для рудокопов прошлого урановые руды не представляли собой ничего особенного в сравнении с другими рудами и минералами. Мы знаем, что кислота нейтрализует основание, но точно так же мы могли бы представить себе, что эти вещества не взаимодействовали бы друг с другом. Мы знаем о свойстве урана или о свойстве кислоты и основания потому и только потому, что наблюдали нейтрализацию или ядерный распад в экспериментах. До постановки эксперимента никакого сверхъестественного знания, проистекающего из формы или сущности кислоты или урана, у нас не было и не могло быть. Эта простая и очевидная логика достоверности наших знаний о природе, объясняющая школьные лабораторные работы и самые выдающиеся в истории науки открытия, полностью разрушает представление о причинности Аристотеля, и вместе с ним разрушается и значительная часть теологии.
По этой же причине невозможно говорить о каких-то первопричинах:
«Общепризнано, что предельным усилием, доступным человеческому разуму, является приведение принципов, производящих явления природы, к большей простоте и сведение многих частных действий к немногим общим причинам путем заключений, основанных на аналогии, опыте и наблюдении. Что же касается причин этих общих причин, то мы напрасно будем стараться открыть их и никогда не удовлетворимся тем или другим их объяснением. Эти окончательные причины и принципы совершенно скрыты от людского любопытства и исследования. Упругость, тяжесть, сцепление частиц, передача движения путем толчка — вот, вероятно, окончательные причины и принципы, которые мы когда-либо будем в состоянии открыть в природе; и мы вправе считать себя достаточно счастливыми, если при помощи точного исследования и рассуждения можем окончательно или почти окончательно свести частные явления к этим общим принципам. Самая совершенная естественная философия только отодвигает немного дальше границы нашего незнания, а самая совершенная моральная или метафизическая философия, быть может, лишь помогает нам открыть новые области»[62].
Все это имеет прямое отношение к нашему разговору. Типичный аргумент религиозных полемистов о том, что Большой взрыв — это «нелепая причина» существования Вселенной, имеет смысл, только если мы понимаем причинность метафизически, как Аристотель, и ищем какие-то присущие самому порядку вещей, а не нашему воображению, цели.
В астрофизике Большой взрыв — это гипотеза, первоначально предложенная для объяснения наблюдаемого расширения Вселенной и тесно связанная с теорией относительности. Со временем данная гипотеза позволила удовлетворительным образом объяснить большое количество наблюдаемых феноменов. Если говорить упрощенно, речь лишь о нескольких моделях, объясняющих ряд наблюдений.
В причине, как простом событии, не имеющем отношения к цели, смыслу, замыслу, воображаемой форме и таинственному источнику движения как такового, нет ничего нелепого. Просто потому что сама экспериментальная причинность не имеет к этим понятиям никакого отношения. Напротив, это метафизика Аристотеля в сравнении с научным методом — нелепость, и вслед за ней нелепостью является религиозная демагогия о смысле жизни. Наука ничего не говорит о причинах причин только потому, что вообще не занимается этими таинственными «причинами причин». На вопрос, почему Вселенная такова, какой она стала, нет ответа не потому, что наука не знает его, а потому что сам такой вопрос — бессмыслица! И религиозный вариант «ответа» на подобный вопрос в духе того, что «Вселенная устроена так, чтобы люди могли жить по-человечески», есть демагогия и ровным счетом ничего больше (напротив, все наши знания приводят нас к мысли, что человеческая природа, включая способность к целеполаганию, обусловлена средой). Рассуждение любителей знаменитого «антропного принципа» о том, «почему» космологические константы именно таковы, каковы они есть, есть как раз такой пример демагогии по мотивам античной философии, не имеющей ни малейшего отношения к научному знанию. «Причина причин» или то, «почему» действие равно противодействию, — это вообще не наука. Наука это только то, «как» происходят наблюдаемые события.
Итак, причинность — это продукт воображения. Причинности как таковой в природе не существует, это слово обозначает то, как мы организуем свой опыт. Вторая особенность научного знания в том, что все это знание является экспериментальным и мы не можем получить научное знание иначе как при помощи экспериментов.
«Так, один из законов движения, открытый опытом, гласит, что момент, или сила, движущегося тела находится в определенном соотношении с его совокупной массой и скоростью; следовательно, небольшая сила может преодолеть самое значительное препятствие или поднять самую большую тяжесть, если при помощи какого-нибудь приспособления или механизма мы сможем увеличить скорость этой силы настолько, чтобы она превозмогла противодействующую ей силу. Геометрия оказывает нам помощь в приложении этого закона, доставляя точные измерения всех частей и фигур, которые могут входить в состав любого рода механических устройств, но открытием самого закона мы обязаны исключительно опыту, и все абстрактные рассуждения в мире ни на шаг не приблизили бы нас к знанию его»[63].
Математика и геометрия не являются естественными науками. Это способы описания и экстраполяции, подчиняющиеся собственным правилам, но доказательство математических теорем не даст никакого знания об эмпирической действительности. Эта очевидная для понимающего принципы научного знания человека мысль регулярно ускользает от людей, получивших советское и российское образование. Мысль о подобии математики и философии вообще вызывает у наших соотечественников «когнитивный диссонанс», а любые строго логические ссылки на работы Тарского или Геделя вызывают в обыденной дискуссии не рациональные возражения, а переход на личности, к аргументу ad hominem. Что самое интересное, о преимуществах технарей и недостатках гуманитариев больше всего любят говорить не состоявшиеся физики и не математики, а всевозможные программисты самого разного уровня компетентности, если не сказать жестче. В любом случае, для нас важно то, что математика в широком смысле не открывает нам никаких истин о мире, а лишь тавтологические истины о собственных правилах (как и обычный язык). Ни формальная логика Аристотеля, ни арифметика не могут сами по себе дать правильное знание о природе. Именно поэтому логик Аристотель или математик Декарт создавали непротиворечивый, но бесполезный миф: мусор на входе — мусор на выходе!
Короче говоря, будь то математика или формальная логика схоластов, метод дедуктивных рассуждений не годится для установления эмпирической причинности: «Итак, я говорю, что даже после того, как мы познакомились на опыте с действиями (operations) причинности, выводимые нами из этого опыта заключения не основываются на рассуждении или на каком-либо процессе мышления»[64].
«Но, несмотря на это незнание сил и принципов природы, мы, видя похожие друг на друга чувственные качества, всегда предполагаем, что они обладают сходными скрытыми силами, и ожидаем, что они произведут действия, однородные с теми, которые мы воспринимали раньше. Если нам покажут тело одинакового цвета и одинаковой плотности с тем хлебом, который мы раньше ели, то мы, не задумываясь, повторим опыт, с уверенностью предвидя, что этот хлеб так же насытит и поддержит нас, как и прежний: основание именно этого духовного, или мыслительного, процесса мне бы и хотелось узнать»[65], — вот она, эта замечательная методологическая проблема естественной науки, проблема индукции! Если помните, именно с индукции начинал Бэкон свой «Новый Органон» (собственно говоря, индукция в сравнении с аристотелевской дедукцией и есть новый инструмент). Именно индукция есть тот процесс, о котором здесь говорит Дэвид Юм. А дальше рассуждение о дедукции приведет нас к проблеме обоснования теоретических обобщений в неопозитивизме Рудольфа Карнапа и Альфреда Айера, а через них — к знаменитейшей проблеме неполноты индукции и фальсификации Карла Поппера!
«Все признают, что нет никакой известной нам связи между чувственными качествами и скрытыми силами и что, следовательно, наш ум приходит к заключению об их постоянном и правильном соединении не на основании того, что знают об их природе»[66], — заключает Юм. Именно по этой простой причине рассуждения о предназначении человека к Царствию Небесному, о законах истории или о воле к власти, — это все примеры незнания.
Строго говоря, и законы природы — вовсе не законы. Законы природы — это не правила, с которыми сверяет себе Вселенная как юрист, который сверяет ситуацию с кодексом, или платоновский Демиург, устраивающий материальный мир сообразно эйдосам. Закон природы — это лишь обобщение тех опытных данных, которые мы получили до сих пор, и экстраполяция наших знаний в будущее время. И именно поэтому впросак попадают те, кто видит в законах природы загадочный божественный замысел: дело не в том, что нам не верится в такой замысел, а в том, что сами законы есть лишь продукт нашего ума: «Что же касается прошлого опыта, то он может давать прямые и достоверные сведения только относительно тех именно объектов и того именно периода времени, которые он охватывал. Но почему этот опыт распространяется на будущее время и на другие объекты, которые, насколько нам известно, могут быть подобными первым только по виду?»[67]
Вот важнейший вывод Дэвида Юма, который может сказать нам многое о человеческом знании и о науке:
«Два суждения: я заметил, что такой-то объект всегда сопровождался таким-то действием, и я предвижу, что другие объекты, похожие по виду на первый, будут сопровождаться сходными действиями — далеко не одинаковы»[68].
Между этими двумя суждениями нет строгой логической связи. И мы связываем первое утверждение и второе заключение не на основании дедукции (цепочки рассуждений). Все это предельно важно для разговора о религиях потому, что и религия в наиболее общем виде есть лишь получение выводов из произвольных предпосылок путем дедукции. В этом примере, как и в примере с причинностью, а дальше и с примером фальсификации, станет понятно, насколько научное знание отличается от религиозной спекуляции уже не на уровне содержания, а на уровне структуры. После того как закончим с историей метафизики и ее преодоления, частность этой истории — атеизм, начиная с безбожия авторов эпохи Просвещения и заканчивая Деннетом, будет совершенно прозрачным, понятным и бесспорным следствием предпосылок, которые сами по себе от религии совершенно не зависят (религия, как мы видим, сама является частным следствием других вещей).
«Когда человек говорит: во всех предыдущих примерах я нашел такие-то чувственные качества соединенными с такими-то скрытыми силами — и когда он говорит: сходные чувственные качества всегда будут соединены со сходными скрытыми силами, он не повинен в тавтологии и суждения эти отнюдь не одинаковы… Если только допустимо подозрение, что порядок природы может измениться и что прошлое может перестать служить правилом для будущего, то всякий опыт становится бесполезным и не дает повода ни к какому выводу, ни к какому заключению»[69].
Речь идет далеко не о праздной проблеме. Не обязательно представлять себе радикальное и неожиданное изменение привычного порядка вещей целиком: история науки знает случаи, когда мы создавали модели, которые позволяли нам успешно предсказывать новые наблюдения или создавать работающие устройства. Геоцентрическая система Птолемея предсказывала движение небесных тел. Ньютоновские уравнения движения с ускорением позволяли описывать работу механизмов без учета релятивистской поправки. Современная наука лишь подходит к решению вопроса о гипотетической темной материи и темной энергии. Для каждого процесса, который, как кажется, нами вполне изучен, могут существовать факторы, о которых нам неизвестно и изменение которых может изменить процесс. Перечисляя множество случаев химических реакций, мы можем упускать из виду неизвестный катализатор. Коллапс волновой функции может происходить объективно (как предполагал Пенроуз), независимо от наблюдения, совершенно случайно или в силу влияния фактора, который нам неизвестен.
«Я должен признать непростительно самоуверенным того человека, который заключает, что какой-нибудь аргумент не существует только потому, что он ускользнул от него в ходе его личного исследования. Я должен также признать, что если даже несколько поколений ученых бесполезно прилагали свои усилия к исследованию какого-нибудь предмета, то все же, быть может, было бы слишком поспешным заключать безусловно, что этот предмет свыше человеческого понимания. Даже хотя бы мы рассмотрели все источники нашего знания и заключили, что они непригодны для такого предмета, у нас все еще может остаться подозрение, что или перечисление было неполно, или наше исследование неточно»[70], — говорит об этом Юм.
Но какой принцип позволяет нам ориентироваться в мире, если не дедуктивное рассуждение? Юм отвечает на этот вопрос замечательным образом: «Принцип этот есть привычка, или навык, ибо каждый раз, как повторение какого-либо поступка, или действия, порождает склонность к возобновлению того же поступка, или действия, независимо от влияния какого-либо рассуждения или познавательного процесса, мы всегда говорим, что такая склонность есть действие привычки. Употребляя данное слово, мы не претендуем на то, чтобы указать последнюю причину такой склонности, мы только отмечаем всеми признаваемый и хорошо всем знакомый по своим действиям принцип человеческой природы»[71].
Вот существо вывода, который совершает Дэвид Юм: в основании человеческого знания лежит условный рефлекс. Человеческий разум — это не сверхъестественная сущность, которая может достигнуть эзотерической изнанки Вселенной. Человеческий разум — это частный случай поведения животных с развитыми нервными системами. Человеческая рациональность — это не метафизическая универсалия, свойственная каждому духу и божеству и лежащая в основе судьбы или кармы. Это не универсальная цель, к которой должна стремиться жизнь на каждой экзопланете и каждый достаточно мощный компьютер. Это лишь способность, сравнимая со способностью некоторых головоногих испускать чернильное облако в случае опасности. И поэтому мысль о том, что окружающий нас мир рационален, как в это верил Платон и как на этом настаивают сторонники мифа о Сотворении, аналогична мысли о том, что мир является жаберным или плацентарным.
«Все эти операции [вера в постоянство фактов, ненависть, любовь] — род природных инстинктов, которые не могут быть ни вызваны, ни предотвращены рассуждением или каким-либо мыслительным и рассудочным процессом»[72]. Основанная на опыте вера в факты отличается от воображения привычностью и непроизвольностью ассоциации предметов. Чем больше сходство и чем больше смежность предметов, тем сильнее они ассоциируются мозгом. Пример, которым Юм иллюстрируют эту мысль, — почитание реликвий и икон в христианстве. Христиане могли бы направлять свои мысли на отвлеченную идею своего бога или на мысли о Христе, но они предпочитают вещественные раздражители: рисунки, ритуалы, запахи, движения. Здесь между мыслью Дэвида Юма о смежности и сходстве и мыслью Джеймса Фрэзера о магии контакта и подобия в сочинении о мифах и ритуалах «Золотая ветвь» существует очевидная связь. Привычка, которая порождает знание, в некоторых случаях порождает и суеверие. Неудивительно, ведь Юм называет основанием знания о фактах веру («более устойчивое и сильное представление объекта, чем то, которое бывает при простых вымыслах»): если мы однажды видели восход Солнца, мы верим, что Солнце взойдет снова. Тут имеется в виду вера как непроизвольный принцип обработки мозгом ощущений.
Далее Юм прямо говорит о том, что способность находить сходства и вырабатывать условный рефлекс имеет приспособительное значение для человеческого поведения: «Итак, здесь существует разновидность предустановленной гармонии — между ходом природы и сменой наших идей, и, хотя силы, управляющие первым, нам совершенно неизвестны, тем не менее наши мысли и представления, как мы видим, подчинены тому же единому порядку, что и другие создания природы. Принцип же, который произвел это соответствие, есть привычка, столь необходимая для существования человеческого рода и регулирования нашего поведения при всяких обстоятельствах и случайностях нашей жизни. Если бы присутствие объекта не возбуждало мгновенно идеи тех объектов, которые обычно с ним соединяются, все наше знание должно было бы ограничиваться узкой атмосферой нашей памяти и чувств и мы никогда не были бы в состоянии приспособить средства к целям или воспользоваться нашими природными силами для того, чтобы совершить добро или избежать зла»[73].
У Юма, кроме этого, есть еще и замечательное рассуждение о вероятности, которое поможет нам при решении вопроса об эволюции и эволюционной биологии: представление о вероятности так же проистекает из представления о причинности. Как и причинность, вероятность не существует в предметах. Есть причинные связи, которые в нашем опыте постоянны, а есть такие, которые по неизвестным нам до конца причинам имеют место лишь в части случаев. И чем больше случаев из общего множества мы наблюдали, тем вероятнее, по-нашему, повторение таких событий в будущем. Вероятность в данном случае — лишь численная пропорция событий прошлого.
«Итак, перенося прошлое на будущее, чтобы определить действие, которое окажется результатом какой-нибудь причины, мы, по-видимому, переносим различные события в той же пропорции, в какой они проявлялись в прошлом, представляя себе, что одно из них произошло, например, сто раз, другое — десять, а третье — один. Так как большое число возможностей совпадает здесь в одном событии, они подкрепляют и подтверждают его в нашем воображении, порождают то чувство, которое мы называем верой, и дают объекту этого чувства преимущество перед противоположным событием, которое не подкреплено таким же числом опытов и не так часто приходит на ум при перенесении прошлого на будущее»[74].
Далее Дэвид Юм посвящает свою работу критическому поиску «внутренней связи» между событиями помимо связи причинной (в результате Юм приходит к мысли, что любые суждения о подобной «внутренней связи» причин и следствий безосновательны и спекулятивны). Мысль Юма о связи событий приводит к короткому, но удивительному выводу: «даже в наиболее привычных явлениях энергия причины столь же непостижима, как и в самых необыкновенных, и что путем опыта мы только узнаем часто происходящее соединение объектов, никогда не будучи в состоянии постигнуть что-либо вроде связи между ними»[75]. Обыватели могут без затруднения назвать причину обыденных событий, но когда происходят чудеса или катастрофы, обыватель зачастую приписывает эти экстраординарные события разумному замыслу. Для классических философов, вроде того же Аристотеля или Декарта, даже обыденные события и действия могут представляться загадочными, и тогда все происходящее в мире, включая отдельные события, приписывается действию высшего разума. Живая природа существует потому, что так захотел бог. Это знакомая картина, которая среди прочего отождествляет обывательские суеверия и теорию заговора и эзотерику. Но важным является то, что все те, кто видит в событиях скрытый замысел, о принципах устройства ума, интеллекта или замысла не знают ничего. Подобные люди «…признают дух и разум не только последней и первичной причиной всех вещей, но и прямой и единственной причиной всех явлений в природе. Они заявляют, что объекты, обычно называемые причинами, в действительности суть не что иное, как поводы, и что истинным и прямым принципом всякого действия является не какая-либо сила или мощь природы, но веление Верховного Существа, которое хочет, чтобы определенные объекты всегда соединялись друг с другом…»[76]
Аргументы об отсутствии знания о связях между событиями точно так же справедливы и в отношении додумываемых в таких дискуссиях сверхъестественных причинах: «Правда, мы не знаем, каким образом тела действуют друг на друга: их сила, или энергия, совершенно непостижима для нас; но разве нам не одинаково неизвестны тот способ или та сила, с помощью которых дух, даже верховный, действует на себя или же на тела?»[77]. То есть там, где мы ограничиваемся только вероятностным и построенным на вере и привычке знанием о причинности, нет возможности додумывать и связь событий саму по себе, некий метафизический замысел, потому что наше знание о природе интеллекта или воли так же построено на привычке, как и «внешнее» естественно-научное знание.
Вот существо того вызова, который Юм бросает Аристотелю и вместе с ним тому параноидальному поиску скрытого в последовательности событий замысла божества или кармы, который так любят религиозные и суеверные люди:
«Итак, идея необходимой связи между событиями возникает, по-видимому, когда мы встречаемся с рядом сходных примеров постоянного соединения этих событий; но единичный пример такого рода никогда не может вызвать данной идеи, хотя бы мы рассматривали его со всевозможных точек зрения и во всевозможных положениях. Однако между целым рядом примеров и каждым из них в отдельности нет никакой разницы, коль скоро предполагается, что они совершенно сходны, за исключением той, что после повторения сходных примеров наш ум в силу привычки при возникновении одного явления склонен ожидать то явление, которое его обычно сопровождает, и верить, что оно будет существовать. Эта связь, чувствуемая нашим духом, этот обычный переход воображения от одного объекта к его обычному спутнику и есть то чувство или впечатление, от которого мы производим идею силы или необходимой связи; кроме него, в данном случае ничего нет. Рассмотрите этот вопрос со всех сторон — вы никогда не откроете иного происхождения данной идеи»[78].
Причина согласно Дэвиду Юму — это не форма, источник движения, цель и материя вещи, а вот что: объект, за которым следует другой объект, причем все объекты, похожие на первый, сопровождаются объектами, похожими на второй. Ни о какой другой связи событий эксперименты и опыт не дают нам информации. Ни о какой иной связи говорить осмысленно и обоснованно мы не можем. Именно в таком смысле сегодня понимаем понятие причины мы. Все остальное, весь поиск замысла или цели, к причинности отношения не имеет.
В заключение своего исследования человеческого познания Юм уже напрямую затрагивает вопросы религии. От лица своего собеседника-персонажа он критикует религиозную мысль о проявлении в устройстве природы божественного замысла, и главный аргумент Юма заключается в том, что суждение о проявлении человеческого замысла в каком-то предмете, например в устройстве здания, возможно лишь потому, что нам знаком человеческий разум. Еще точнее, человеческий разум — это единственная форма разумности, которая нам знакома. Мы можем заключать о замысле, намерениях и целях только на собственном примере. Эти слова означают лишь наш опыт. Когда мы приписываем природе замысел, мы, в сущности, приписываем ей свои качества, а любые другие качества нам просто неизвестны. Если бы мы не знали о человеческом разуме, мы не смогли бы усмотреть проявление рациональности в тех следах материальной культуры, которые оставляет человек (строго говоря, мы бы вообще не имели бы критерия рациональности).
«Если мы, исходя из порядка природы, заключаем о существовании особой разумной причины, которая впервые ввела во Вселенную порядок и продолжает поддерживать его, мы прибегаем к принципу и недостоверному, и бесполезному. Он недостоверен, ибо предмет его находится совершенно вне сферы человеческого опыта; он бесполезен, ибо, если наше знание об этой причине заимствуется исключительно из порядка природы, мы не можем, согласуясь с правилами здравого рассудка, извлечь из причины какое-нибудь новое заключение или, прибавив что-либо к общему, известному нам из опыта порядку природы, установить какие-либо новые правила образа действий и поведения»[79].
В сущности, говоря о замысле в основании природы, мы имеем в виду в качестве причины мира свой собственный замысел и ничего больше. Однако в мире, по человеческим меркам избыточно сложном, наполненном рудиментарными ошибками, безразличном к человеческим интересам, катастрофически расточительном и совершенно далеком от меры «человеческой рациональности», трудно усмотреть антропоморфный замысел или продукт инженерии (о чем будет более подробно сказано далее).
«Главным источником нашей ошибки в данном вопросе и той безграничной свободы предположений, которой мы пользуемся, является тот факт, что мы втихомолку ставим себя на место Высшего Существа и заключаем, что оно всегда будет придерживаться того же образа действий, который мы на его месте признали бы наиболее разумным и подходящим. Однако уже на основании наблюдения обычного течения природы мы могли бы убедиться, что почти все в ней подчинено принципам и правилам, совершенно отличным от наших»[80].
Вот к какому заключению приходит Юм: во-первых, когда мы рассуждаем о замысле или разуме, мы имеем в виду только свой собственный разум и замысел. Во-вторых, наша рациональность — плохой способ объяснить окружающую действительность. Забегая вперед, можно добавить к этим аргументам Юма, что человеческая рациональность — не метафизическое свойство, а лишь очень частная формы комбинаторики, более общей формой которой является биологическая эволюция.
3. Против клерикализма и догматизма. Становление атеизма великих просветителей и ученых
Прогресс наук и становление эмпирического метода как новой формы философии, противоположной догматизму и метафизике, породил Просвещение. Это удивительное время, в котором впервые с античных времен был поставлен вопрос о природе общества и социальной инженерии во внерелигиозном ключе.
Самим понятием «прогресс» мы обязаны Мари Жан Антуану Николя де Карита, маркизу де Кондорсе. Кондорсе в работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», по собственным словам, ставит своей целью «показать путем рассуждения и фактами, что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно… по крайней мере до тех пор, пока земля будет занимать то же самое место в мировой системе и пока общие законы этой системы не вызовут на земном шаре ни общего потрясения, ни изменений, которые не позволили бы более человеческому роду на нем сохраняться, развернуть свои способности и находить такие же источники существования»[81]. Кондорсе объединяет социальный и научно-технический прогресс. Представление Кондорсе о социальном прогрессе включает как описательные, так и оценочные суждения: более сложное общественное устройство характеризуется автором как более совершенное. История представляет собой стремление к совершенству, и движение вспять невозможно. Рассуждение Кондорсе об историческом прогрессе, таким образом, представляет собой историцизм в попперовском смысле[82], однако представляет особый интерес высказывание автора о будущем: «Наши надежды на улучшение состояния человеческого рода в будущем могут быть сведены к трем важным положениям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, наконец, действительное совершенствование человека»[83]. Кондорсе делает вполне ожидаемые предсказания, говоря о развитии машинного производства, сельского хозяйства, наук, но затем, что в особенности важно, пишет: «…мы могли уже заключить, что человеческая способность совершенствоваться безгранична. Между тем мы до сих пор полагали, что человек сохранит свои естественные способности и свою организацию в том же виде, в каком она находится теперь. Нам остается, таким образом, исследовать последний вопрос, какова была бы достоверность и размер наших надежд, если бы можно было предположить, что эти способности и эта организация также доступны улучшению»[84]. Приводя из области развития сельского хозяйства и животноводства пример селекционного совершенствования пород растений и животных, Кондорсе приближается к постановке проблемы евгеники, а суждение о прогрессе медицины подводит автора к мысли о возможности практически неограниченного продления человеческой жизни.
Как видим, взгляд Кондорсе на перспективы науки уже гораздо оптимистичнее взгляда Бэкона. В XVIII веке новый инструмент — свершившийся факт. Естествознание меняет мир, и «Эскиз…» это своего рода манифест эпохи. История показала, что выводы деятелей эпохи Просвещения повлекли за собой далеко идущие политические и цивилизационные изменения…
Критическое размышление о религии немедленно породило ее самое крайнее отрицание (кому-то пришло в голову назвать, наконец, все своими именами). Само понятие «атеист», то есть «безбожник», стало в эпоху Просвещения не полемическим выпадом в адрес оппонента, каким оно было со времен Античности, а наименованием полноценных (еще каких!) взглядов.
Виновником тому прежде всего — Поль Анри Гольбах. Когда речь заходит об атеизме как понятии, разговор начинается именно с этого французского имени. Сочинения Гольбаха «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» и «Разоблаченное христианство, или Рассмотрение начал христианской религии и ее последствий» (среди прочих его антиклерикальных и политических сочинений) — это высказанный прямо и без всякого лицемерия, безжалостный и окончательный приговор религии. Труды Гольбаха, в которых он прямо показывает, зачем политикам религия (и почему, в конце концов, ставка на религии и невежество народа — жестокая ошибка), к несчастью, актуальны сегодня для нынешней России в равной степени так же, как и в момент первой публикации. Мне кажется, невозможно говорить о религии откровеннее, чем это делал Гольбах, если только не перейти от утонченного беллетристического стиля XVIII века к стилистике и арго Ирвина Уэлша или Чака Паланика, да и в таком случае суть останется той же.
Однако при всей вызывающей откровенности «Разоблаченное христианство» показывает только маленькую часть большей картины, что я и надеюсь показать в настоящей книге. Собственно говоря, и религия как таковая — только частность большей картины интеллектуальных уловок и жанра философских рассуждений. Сочинение Гольбаха прежде всего политическое и антиклерикальное, а уже потом философское или какое-либо другое. По-своему это замечательно, ведь нельзя забывать, что ложь, вымысел и бессмыслица сами по себе — всего лишь инструмент власти. Но достаточно лишь один раз показать великую бессмыслицу, скрытую в жанре метафизики, чтобы затем с легкостью прийти к самым смелым антиклерикальным выводам. Политика и мораль вторичны логике в точности так же, как ей вторичны постановка эксперимента или доказательство математической теоремы, но мораль и политика, вооруженные знанием и логикой, сильнее ханжества и тирании, вооруженных демагогией, популизмом и страхом.
Гольбах очень саркастически и не стесняя себя в выражениях, что весьма смело для его времени, излагает историю иудаизма и христианства, называя евреев племенем бандитов, а их бога Яхве — извергом. Это вполне соответствует описанным в Библии событиям, если считать эти события историческими: довольно только вспомнить историю покорения Ханаана. Конечно, буквальное прочтение Библии это не то же самое, что реконструкция истории кочевых семитских племен или исследование об истории катакомбных христиан. В этом «Разоблаченное христианство» ближе к «Забавной Библии» Лео Таксиля: историко-религиозный миф берется буквально, и все его внутренние противоречия, нарушения логики, сомнительные сюжетные ходы или откровенные жестокости саркастически обнажаются. Но что в этом неверного, если и верующие люди чаще всего буквально воспринимают исторические мифы своих религий?
«Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» несколько любопытнее в этом отношении, поскольку это сочинение решает познавательные проблемы и опирается на естествознание своего времени. В своем сочинении Гольбах излагает материалистические взгляды на природу, и в особенности на человеческую природу, близкую воззрениям Ламетри.
«Человек занимает определенное место среди той массы тел и существ, совокупность которых образует природу. Сущность человека, т. е. отличающий его способ бытия, делает его способным к различным способам действия или движениям, одни из которых просты и видимы, а другие сложны и скрыты. Человеческая жизнь представляет собой лишь длинную цепь необходимы и взаимосвязанных движений, источником которых являются либо причины, скрытые внутри самого человека, как кровь, нервы, волокна, мышцы, кости — словом, твердые и жидкие вещества, входящие в состав его тела, либо внешние причины, которые, действуя на человека различным образом, модифицируют его, как окружающий его воздух, пища, которой он питается, и вообще все предметы, непосредственно действующие на его чувства и, следовательно, производящие в нем непрестанные изменения. <…>
Какими бы чудесными, скрытыми, сложными ни были как видимые, так и внутренние способы действия человеческой машины, внимательно исследуя их, мы увидим, что все действия, движения, изменения этой машины, ее различные состояния, совершающиеся с ней катастрофы постоянно регулируются законами, присущими всем существам, которых природа порождает, развивает, обогащает способностями, растит, сохраняет в течение некоторого времени, а под конец разрушает или разлагает, заставляя их изменить свою форму»[85].
Это суждение Гольбаха о человеческой природе полностью совпадает с суждением французского врача и философа-материалиста Жюльен-Офре Ламетри, который в работе «Человек-машина»[86] высказался против спиритуализма и в защиту материализма в представлении о человеческой природе. По мнению Ламетри, врачи — это те единственные настоящие ученые, которые исследуют человеческую природу опытным путем и воздерживаются от оценочных суждений в отношении предмета своего исследования. Черты характера и эмоциональные состояния Ламетри считал производными от работы органов и содержания в организме желчи, флегмы и крови (в духе Гиппократа). Знания Ламетри свел к благоприобретенным навыкам, добродетель обнаружил в поведении животных и свел к полезному страху перед симметричным поведенческим ответом, а различие между животными и человеком видел в способности последнего к речи. Подобные суждения влекут за собой строго материалистический вывод:
«Если все способности души настолько зависят от устройства мозга и всего тела, что, в сущности, они представляют собой не что иное, как результат этого устройства, то человека можно считать весьма просвещенной машиной!.. Итак, душа — это лишенный содержания термин, за которым не кроется никакого определенного представления и которым ум может пользоваться лишь для обозначения той части нашего организма, которая мыслит»[87].
Согласно Ламетри возможно говорить лишь об одной субстанции, формой организации которой является человек, а следовательно, нет ничего невыполнимого в задаче создания говорящей машины «для руки какого-нибудь нового Прометея»[88]. Это выводы, которые опередили свое время на столетия. В сущности, перед нами едва ли не предтеча трансгуманизма первой половины XXI века, эпохи генной инженерии, взлета нейробиологии и революции в информационных технологиях.
Обратите внимание, заочные оппоненты Гольбаха и Ламетри в этой дискуссии — не только и даже не столько христианские богословы вроде Дионисия, Оригена, Фомы Аквинского или Григория Паламы, ведь те, как мы выяснили, более повторяют догматическую аргументацию античности, сколько метафизики, от Платона до Декарта.
С точки зрения Гольбаха и Ламетри, человеческая природа исчерпывается состояниями человеческого организма, включая нервную систему. Проблема «свободы воли» как таковая лишена смысла, поэтому человеческое поведение предсказуемо и определяется условиями среды. Человеческая индивидуальность сводится к нейрогуморальным состояниям и содержанию памяти, а память, как это отлично понимаем мы теперь, есть лишь материальная структура, подобная машинным накопителям с магнитными дисками или хромосомам живых организмов. Подобный вывод о человеческой природе — единственное возможное следствие данных естественных наук, а его единственная возможная альтернатива, дуализм души и тела, — лишь случайно сложившийся миф, как вы вполне ясно увидели это у Платона.
У современного человека есть только две альтернативные аналогии для того, чтобы представить собственную природу: мифы бронзового века или знание об устройстве компьютера. Какой бы грубой, наивной и поспешной ни была вторая (возможно, она покажется исследователям будущего такой же умозрительной и неловкой, как догадки Ламетри), первая вообще не выдерживает никакой критики.
Причина мифа о душе в том, что механизмы мышления в отличие от механизмов движения конечностей или работы кровеносной системы не так очевидны для анатома или биолога (впрочем, такими были и механизмы наследственности до открытия Крика и Уотсона в середине XX века):
«Одним словом, человек вообразил, что в нем имеется некая отличная от него самого и одаренная тайной силой субстанция, и приписал ей свойства, совершенно отличные от свойств действующих на его органы видимых причин и от свойств самих этих органов. Он не обратил внимания на то, что понять или объяснить несложные причины, благодаря которым падает камень или движется его рука, может быть, не менее трудно, чем постигнуть причину того внутреннего движения, результатом которого являются мысль и воля. Так недостаточно размышлявший над природой человек стал рассматривать ее с неверной точки зрения и не заметил сходства и соответствия между движениями этого мнимого двигателя и движениями своего тела или его материальных органов. Поэтому он стал считать себя не только особым, но и совершенно отличным от других частей природы существом, обладающим более простой сущностью и не имеющим ничего общего со всем тем, что он наблюдал.
Отсюда последовательно возникли понятия духовности, имматериальности, бессмертия и все неопределенные слова, мало-помалу придуманные мастерами умозрительных тонкостей для обозначения атрибутов неизвестной субстанции, которую человек, как ему казалось, заключает в самом себе в качестве скрытого источника своих видимых движений. Венцом всех рискованных гипотез насчет этой движущей силы явилось предположение, что она в отличие от всех других существ и служащего ей оболочкой тела не подвергается распаду, что ее совершенная простота не дает ей разложиться или изменить свою форму, — одним словом, что по своей сущности она недоступна тем переменам, которым подвержено человеческое тело, равно как и все сложные существа природы»[89].
Вспомните основоположников метафизического рассуждения о духовной или умственной стороне человеческой природы: все их рассуждения не продукт знания, а лишь миф. Положения этого мифа принимаются совершенно случайно, безо всякой связи с опытными данными, на основании умозрения и игры слов. Вся риторика религиозных апологетов построена на злоупотреблении языком, на спекуляции, на принципах демагогии вроде ложной альтернативы.
«Так метафизики, сочиняя слова и умножая существа, только запутались в новых затруднениях, больших, чем те, которых они хотели избежать, и создали препятствия прогрессу знания: не обладая фактами, они обратились к содействию гипотез, вскоре превратившихся для них в реальности; а их воображение, не руководствующееся более опытом, безнадежно заблудилось в лабиринте какого-то выдуманного ими идеального интеллектуального мира, так что стало почти невозможным извлечь его оттуда и поставить на правильный путь, указать который может только опыт»[90].
Гольбах в своем рассуждении о человеческой природе, разумеется, не может опираться на теорию эволюции или тем более на генетику, но вполне закономерно предполагает, что специфика устройства человека есть приспособление к конкретным условиям современного нам мира.
«Люди, животные, растения и минералы далеко не одинаковы в разных местах, изменяясь иногда очень резко даже при незначительной разнице в расстоянии. Слон обитает в жарком поясе; олень живет в климатических условиях холодного севера; Индостан — родина алмаза, который не встречается в наших краях; ананас растет в Америке на открытом воздухе, у нас же для его выращивания нужны ухищрения искусства, доставляющие ему столько солнечного света, сколько требуется. Наконец, люди отличаются в различных климатических условиях по цвету кожи, росту, строению, силе, ловкости, мужеству, духовным способностям»[91], — достаточно знаний уровня XVIII века, чтобы вынести вердикт аргументации об «антропном принципе» и любой разновидности креационизма. Из подобной же аргументации Гольбах делает вывод и о том, что «у человека нет никаких оснований считать себя привилегированным существом природы» — человек представляет собой лишь отдельный вид млекопитающих, а все человеческие интеллектуальные способности есть не плод сопричастности миру идей, а лишь способ приспособления, подобный толстой шкуре. Эти простейшие для нас выводы делают религиозный миф в его классическом виде несостоятельным, и все последующие века наука лишь подтверждала смелые догадки первых ученых. Без свободы воли, без особенного онтологического статуса разума, без таинственной реальности эйдосов и духов, религиозный миф — ничто, и это было совершенно очевидно уже просветителям XVIII столетия.
Даже природа интеллектуальных способностей, о которых так много было сказано античными философами и богословами, не была для просветителей загадкой:
«Чем больше мы станем размышлять, тем больше будем убеждаться в том, что душа не только не отлична от тела, но есть само это тело, рассматриваемое по отношению к некоторым из его функций или к некоторым способам бытия и действия, на которые оно способно, пока живет. Таким образом, душа есть человек, рассматриваемый по отношению к его способности чувствовать, мыслить и действовать определенным образом, вытекающим из его собственной природы, т. е. из его свойств, его специфической организации и длительных или преходящих модификаций, испытываемых этой организацией под влиянием действующих на нее явлений.
Те, кто отличает душу от тела, по существу, просто отличают находящийся в теле мозг от самого тела. Действительно, мозг есть тот общий центр, где оканчиваются и соединяются все нервы, исходящие от всех частей человеческого тела. При помощи этого внутреннего органа совершаются все операции, приписываемые душе: сообщенные нервам впечатления, изменения и движения видоизменяют мозг; реагируя под влиянием этого, мозг приводит в движение органы тела или же действует на самого себя и становится способным произвести внутри себя огромное разнообразие движений, называемых умственными способностями»[92].
Перед нами классический естественно-научный физикализм, то есть то, в чем позиции авторов XVIII и XXI веков полностью совпадают. Гольбах доказывает свой тезис о материальной природе интеллектуальных способностей, анализируя различие интеллектуальных способностей у разных людей (интеллектуальные способности, темперамент и функции нервной системы в целом различаются, как различается конституция и сила), а также с познавательной точки зрения, — человек не обладает врожденными знаниями, а единственный источник знания — это опыт. Вот эти мысли Гольбаха, и каждая из них вполне закономерна.
Человеческая способность мыслить существует постольку, поскольку существует чувственный опыт. Осознавать что-то — означает иметь пищу для ума, а единственный источник такой пищи — чувственный опыт. Само то, что мы называем сознанием, по мысли Гольбаха, есть функция от чувственных раздражителей:
«Сознание состоит в явственном сотрясении, в воспринятой нами модификации мозга. Отсюда ясно, что ощущение — это способ бытия нашего мозга, или явственное изменение, происшедшее в нем под влиянием воздействий, получаемых нашими органами от внешних или внутренних причин, надолго или на короткое время видоизменяющих их. Действительно, мы наблюдаем, что человек, на органы которого не действуют никакие внешние предметы, чувствует самого себя и сознает происходящие в нем изменения; в этом случае его мозг видоизменяется или обновляется благодаря внутренним модификациям. Не будем удивляться этому; в столь сложной машине, как человеческое тело, все части которого сообщаются с мозгом, последний непременно должен получать сведения о затруднениях, изменениях и импульсах, происходящих в целом, чьи чувствительные по своей природе части находятся в непрерывном взаимодействии и объединяются в мозгу»[93].
Люди различаются по своим интеллектуальным возможностям. Это не просто означает, что далеко не каждому могло бы быть дано платоновское созерцание идей самих по себе: интеллект от человека к человеку варьируется так же, как физические способности. Было бы странно ожидать, что сопричастная благу самому по себе сверхъестественная универсалия может быть источником тугодумства, потому что как в итоге тугодум мог бы прийти к благу, и в чем может быть благо или высший замысел существования не способных спастись в силу собственной глупости людей?
«Ум является следствием этой физической чувствительности. Действительно, мы называем умом присущую некоторым людям способность быстро схватывать предметы в их совокупности и различных взаимоотношениях. Мы называем гением способность легко схватывать обширные, полезные и трудно познаваемые предметы в их совокупности и взаимоотношениях. Ум можно сравнить с зорким зрением, быстро замечающим вещи; гений — это зрение, с одного взгляда схватывающее все точки обширного горизонта. Здравый ум — это ум, воспринимающий предметы и отношения такими, как они есть. Путаный ум — это ум, воспринимающий отношения искаженно, что происходит от какого-то изъяна организации. Здравый ум подобен умелым рукам»[94].
В заключение своей аргументации в пользу материальной природы интеллектуальных способностей Гольбах выступает против убеждений о «врожденных идеях». Такие авторы, как Декарт и Беркли, из подобных предпосылок выводили убеждения о полной автономии «познающего субъекта» от эмпирической действительности.
«Они полагают, будто этот внутренний орган способен извлекать идеи из глубин самого себя, а также утверждают, будто человек, рождаясь, приносит с собой идеи, которые в соответствии с этим удивительным учением были названы врожденными. Они полагают, что душа в силу какой-то особой привилегии выделяется из природы, в которой все взаимосвязано, обладая способностью самостоятельно двигаться, создавать идеи и мыслить о тех или иных предметах без всякого возбуждения со стороны внешней причины, которая воздействует на органы души, доставляет ей образ объекта ее мыслей»[95].
Вопрос о том, является ли весь наш опыт приобретаемым, не так прост, как может показаться: я могу допустить, что некоторые способы того, как мозг ассоциирует приобретаемую информацию, сами по себе являются унаследованными. Но я прошу разделять наследственность, как понимаем ее мы сегодня, и сверхъестественное априорное знание, каким его представлял себе еще Платон в его спекуляциях о знании как вспоминании прошлых жизней!
«Но, доводя анализ до конца, мы убеждаемся, что эти идеи могут являться к нам лишь от внешних предметов, которые, действуя на наши чувства, модифицируют наш мозг, или же от материальных объектов, которые, находясь внутри нашего организма, заставляют некоторые части нашего тела испытывать сознаваемые нами ощущения и доставляют нам идеи, правильно или неправильно относимые нами к воздействующей на нас причине. Всякая идея представляет собой некоторое следствие. Но как бы ни было трудно добраться до ее причины, можем ли мы допустить, что этой причины вовсе не существует? Если мы способны получать идеи только от материальных субстанций, как можем мы предположить, что причина наших идей может быть нематериальной? <…>
Легко заметить источник заблуждений, в которые впали глубокомысленные и очень просвещенные люди, рассуждавшие о нашей душе и ее функциях. Под давлением своих предрассудков или из страха перед учением грозной теологии они исходили из принципа, будто эта душа является чистым духом, нематериальной субстанцией, обладающей сущностью, совершенно отличной от тел или от всего того, что мы видим; допустив это, они раз и навсегда теряли всякую возможность понять, как могут материальные предметы и грубые телесные органы действовать на совершенно отличную от них субстанцию и видоизменять ее, сообщая ей идеи. Будучи не в состоянии объяснить данное явление и видя, однако, что душа обладает идеями, эти мыслители заключили, что последняя должна извлекать их из самой себя, а не из существ, действия которых на нее они не могли понять, исходя из своей гипотезы. Поэтому они вообразили, что все модификации души зависят от ее собственной энергии, сообщаются ей в момент ее создания столь же нематериальным, как она сама, творцом природы и нисколько не зависят от существ, которые мы знаем и которые грубо воздействуют на нас при посредстве чувств»[96].
Подобно Юму, Гольбах видит в любой доступной разуму идее комбинацию опытных данных, например, сновидения — или религиозные мифы: «Теологи не спали, когда выдумывали на досуге сказки о призраках, которыми они пользуются для устрашения людей; эти теологи просто соединили разрозненные черты самых страшных представителей нашего вида; безмерно преувеличив власть и права хорошо известных нам земных тиранов, они создали из них богов, перед которыми мы трепещем»[97].
На основании своего рассуждения Гольбах приходит к мысли о том, что человеческий ум никогда не действует произвольно, просто состояния вроде сновидения или опьянения отличаются от состояния трезвого бодрствования, что также совершенно точным образом соответствует нашим современным представлениям о процессах «быстрого сна» или биохимических основаниях алкогольного или наркотического опьянения: но даже наркотические кошмары обрабатывают поступившие в наш мозг когда-то чувственные данные, пусть и в совершенно беспорядочной форме. Подобное проницательное отношение к природе воображения, которое мы встречаем у Юма и Гольбаха, объясняет нам больше, чем нагруженные метафизикой спекуляции Платона, Беркли или Декарта. В результате подобных рассуждений Гольбах приходит к мысли, что те идеи, которые не соотнесены с опытом, должны быть попросту устранены из нашего языка и ума, как заведомо не имеющие смысла. Фактически это логика неопозитивистов вроде Айера или Карнапа.
Мысль о том, что сфера духовного и интеллектуального в действительности сводима к устройству и работе мозга, лишает оснований жизненно важное для религии представление о свободе воли: «Мы рождаемся помимо нашего согласия, наша организация не зависит от нас, наши идеи появляются у нас непроизвольным образом, наши привычки зависят от тех, кто сообщает их нам»[98]. Если человеческое поведение в том или другом важном для культа аспекте детерминировано теми или иными факторами, бессмысленно вменять человеку это поведение в вину, как бессмысленно называть грехом или препятствием для достижения нирваны цвет глаз. Одной из самых больших проблем для авраамических культов, например, является сексуальность, роль которой в религиях заслуживает отдельного исследования. Иудаизм описывает как вполне богоугодные явления многоженство, рабовладение, торговлю дочерями и содержание наложниц. Относящееся к сексуальности как типичный невротик из клинических наблюдений Зигмунда Фрейда, христианство ставит в образец строгий целибат (от чего и страдает). Ислам вообще содержит малопонятные для европейцев нормы семейного быта, включающие отношения с маленькими девочками, совершенно потребительское, на грани рабовладения отношение к женам и побивание камнями за изнасилование — самих жертв. При этом авраамические культы с каким-то не вполне здоровым возбуждением демонизируют гомосексуальность, которая согласно представлениям современной эмбриологии, скорее всего, определяется на этапе внутриутробного развития под действием половых гормонов на хромосомы (детали данного биохимического механизма пока не вполне понятны). Вообще, регуляция сексуального поведения — один из мощнейших рычагов манипуляции людьми. Самые разные культы ставят в образец или в вину людям самые разные модели сексуального поведения, от промискуитета или тантрического секса до целибата, секса с мессией-гуру или многоженства. Особенности сексуального поведения вроде гомосексуальности то обожествляются, как у североамериканских индейцев или греков времен Платона, то демонизируются, как в современных христианстве и исламе. Последнее нисколько не препятствует ставшей притчей во языцех ужасающей педофилии католического духовенства. Можно предположить, что самым рациональным является отношение к сексуальности в современной Японии, где массовая культура сублимирует самые безумные фантазии, которые европейцу трудно даже описать без смеси стыда и смущения, но уровень сексуальных преступлений, по имеющейся информации, является самым низким в мире. Психоанализ Фрейда не может быть отнесен к естественно-научному знанию и представляет собой довольно вольные спекуляции, однако конкретно фрейдистская картина сексуального невроза безошибочно узнаваема в том мелодраматическом и нарочитом спектакле, который культы выстроили вокруг банального соития.
Со стороны возведение в космическую, онтологическую степень такой частности, как формы человеческого сексуального поведения, кажется откровенно смешным. Но за этой комичной проблемой скрывается значительно большая, прекрасно отмеченная Гольбахом: если человеческое поведение не является произволом потусторонней сущности из мира эйдосов, а лишь следствием материального устройства человеческой природы, все категоричные требования религий и идеологий лишены смысла. По этой причине, вероятно, советский большевизм и ненавидел так генетику (что может быть более смешным, чем претендующий на научность идеологический миф, «донкихотствующий» против точного научного знания?). Истина заключается в следующем: в мире генетики, нейробиологии и кибернетики метафизической «свободы воли» не существует, а человеческое поведение представляет собой сочетание безусловных и условных поведенческих реакций, где условные поведенческие реакции определяются способностью мозга накапливать память и содержимым этой нейронной памяти. Я не говорю здесь о детерминизме, но и не говорю об индетерминизме. Вместо этого я приведу аргументацию физика и философа Эрнста Маха: мы не можем говорить о детерминизме, поскольку даже если мы определили причины конкретного эффекта, мы не можем исключать, что не упустили при этом неизвестный нам фактор (неизвестный катализатор, фермент или квантовый эффект). Но и об индетерминизме говорить не имеет смысла, поскольку если нам кажется, что некоторое событие наступает случайно, это еще не значит, что мы не сможем найти причину такого события.
В мире взаимодействий метафизическая свобода невозможна, а наши поведенческие привычки, повторяющийся образ действий в ответ на похожие раздражители не имели бы смысла. «Для того чтобы человек мог быть свободным, всем существам пришлось бы утратить свою сущность, а ему самому потерять физическую чувствительность и не различать больше ни добра, ни зла, ни удовольствия, ни страдания. Но тогда он не мог бы ни уцелеть, ни сделать свое существование счастливым. Так как все вещи стали бы для него безразличны, перед ним больше не было бы выбора, и он не знал бы больше, что ему следует любить и искать, а чего — бояться и избегать. Одним словом, человек был бы каким-то противоестественным существом, совершенно неспособным поступать так, как он поступает в действительности»[99]. Раз воля — это типичный поведенческий ответ организма на типичные же раздражители, а «идеи» — лишь модификации мозга наряду с внешними стимулами, как можно говорить о свободе этой воли? А без свободной воли нет смысла в христианском мифе о теодицее, то есть об оправдании сосуществования всемогущего бога и зла, ведь согласно этому мифу человек может отпасть от блага лишь по свободе своей воли.
Гольбах превосходно описывает волю и намерения человека в терминах причины и следствия. Каждое наше решение — е произвол, а результат взаимодействия конкретных разнонаправленных причин. Выходит, само принятие решения — это операция мозга по сопоставлению ожидаемых результатов и их эмоционального веса (ценности). Но точно так же может действовать и алгоритм, пусть он и ограничен пока в способности «взвешивать» последствия (кто знает, может, этот недостаток перешагнут нейронные сети-переводчики текстов, способные оценивать «семантический вес» понятий?). Когда мозг тормозит волю, а эмоционально-мнемонические весы колеблются, мы говорим, что обдумываем решение, где обдумывать — «значит попеременно любить и ненавидеть; значит попеременно быть притягиваемым и отталкиваемым; значит испытывать воздействие то одного, то другого мотива»[100].
Гольбах в своем сочинении сказал немало о моральной стороне религии и связи религии с общественной моралью. Точнее, о том, что потусторонние цели религии не имеют и не могут иметь никакого отношения к интересам и морали общества. Это все так же на удивление остроумно и злободневно и сегодня, однако закончить разговор о Гольбахе хотелось бы его анализом понятий о божестве во второй части его работы.
«Если бы у людей хватило мужества обратиться к источнику взглядов, глубочайшим образом запечатленных в их мозгу; если бы они отдали себе точный отчет в причинах, заставляющих их относиться к этим взглядам с уважением как к чему-то священному; если бы они решились хладнокровно проанализировать мотивы своих надежд и опасений, то они нашли бы, что предметы или идеи, способные сильнейшим образом влиять на них, часто не обладают никакой реальностью, представляя собой просто лишенные смысла слова, призраки, созданные невежеством и видоизмененные больным воображением»[101], — пишет великий просветитель. Это существо нашего с вами разговора: если взглянуть на самое основание религиозных взглядов, строго и безразлично ко всей мелодраматической ауре разговоров о вере, окажется, что каждый их постулат взят совершенно случайно и не означает ничего конкретного.
Человеку дан лишь один-единственный эффективный способ познания — экспериментальный.
«Человек от рождения наделен лишь способностью испытывать более или менее сильные ощущения в соответствии со своей индивидуальной организацией; он не знает ни одной из действующих на него сил; руководствуясь ощущениями, он мало-помалу открывает их различные качества, обучается судить о них, привыкает к ним и в соответствии с их воздействием на него связывает с ними различные идеи; последние оказываются истинными или ложными в зависимости от того, хорошо или плохо устроены его органы и способны ли они производить надежные повторные опыты»[102].
Все, противоположное этому способу, не является источником знания вообще. Богословие и платонизм представляют собой не знание, а мифы, а причина мифа — отсутствие знания. Именно Гольбах начал говорить о религиозном мифе как о способе первобытных людей объяснить действительность. Это хорошо знакомое нам сегодня объяснение, с которым мы сталкиваемся еще в школе, на самом деле было довольно смелым и остроумным для своего времени. Позже антропологические исследования современных диких народов дали более широкое представление о мифах. Мифы, если верить антропологам вроде Эванса-Причарда, имеют множество функций, это не только объяснение, но и способ запоминания поведенческих привычек, ведь архаичные народы описывают в мифах ритуалы, а при помощи ритуалов учатся навыкам предков. Ритуал жертвоприношения — это не только способ воздействовать на бога, но и способ снятия внутривидовой агрессии, как об этом писал Рене Жирар. Структурно-антропологическое исследование мифа крайне интересно, но мне хотелось бы сейчас вернуться к проблеме метафизики.
Кажется, один из корней религии заключается в том, что мы непроизвольно приписываем событиям «замысел», то есть принципы, свойственные нашему поведению. Полагаю, наш мозг просто переносит на обстоятельства и предметы те навыки, которые помогают нам эффективно воздействовать друг на друга: убеждать, запугивать, умолять. Отлично известно, что архаичным народам свойственно «кормить» и «наказывать» свои идолы, шимпанзе свойственно «угрожать» раздражающему их дождю, а нам самим, к примеру, ругаться на «ударивший нас» молоток. Эта ошибка наравне с параноидальным свойством нашего мозга во всех событиях искать замысел, а также с коммуникативной ошибкой, в силу которой мы определяем «интеллектуальность» и «человечность» как способности к общению с нами (от молитв предкам и общения с домашними животными до теста Алана Тьюринга, исследований китообразных Тимоти Лири и проекта SETI Карла Сагана), порождает наши мифы и в более широком смысле определяет устройство нашего воображения.
«Первая богословская система вначале заставила человека бояться и почитать стихии, материальные и грубые предметы; затем он стал поклоняться существам, управляющим стихиями, — могущественным гениям, гениям низшего порядка, героям или людям, одаренным великими доблестями. В ходе дальнейших размышлений он решил упростить эту систему, подчинив всю природу одному-единственному агенту — верховному разуму, духу, мировой душе, приводящей в движение эту природу и ее части. Восходя от одной причины к другой, люди в конце концов перестали различать что бы то ни было, и в этом-то мраке они поместили своего бога; в этих темных безднах их встревоженное воображение продолжает фабриковать химеры, которые будут страшить людей до тех пор, пока познание природы не освободит их от веры в эти призраки — предметы их постоянного и бессмысленного поклонения.
Если мы захотим понять сущность наших представлений о божестве, то должны будем признать, что словом „бог“ люди всегда обозначают наиболее скрытую, далекую и неизвестную причину наблюдаемых ими явлений; они употребляют это слово лишь в тех случаях, когда перестают разбираться в механизме естественных и известных им причин; утратив из виду последовательность и связь этих причин, они прекращают свои поиски; чтобы покончить с затруднениями, называют богом последнюю причину, т. е. ту, которая находится за гранью всех известных им причин; таким образом, они дают лишь туманное название некоторой неизвестной причине, перед которой останавливаются под влиянием лености мысли или ограниченности своих познаний»[103].
Верующие люди ищут религиозное объяснение не только воображаемым ими метафизическим принципам или экстраординарным событиям, но и самым обыкновенным явлениям. Это было верно в XVIII веке, и это по-прежнему верно и сейчас. Практически каждый аргумент Гольбаха, от антропологических или культурологических до естественно-научных, получил значительное подкрепление за прошедшие столетия, и любая дискуссия собственно об атеизме построена на том логическом основании, которое заложено в «Системе природы». Рассуждение Гольбаха о научных знаниях еще раз возвращает нас к противопоставлению логики Аристотеля и Юма. Мысль, что «бог является причиной» любого конкретного события, существует только постольку, поскольку подобная логика была изложена в «Метафизике», и все это не имеет отношения к научной причинности, как это блестяще показал Юм, и к научной логике, как это показал Бэкон. Подобно «первопричине» Аристотеля христианский бог в дискуссии о религии — это лишь «сюжетное устройство» (plot device) религиозного мифа, занимающее место логических пробелов.
Что касается платоновской логики блага и отсутствия блага, Гольбах так же замечательно обнаруживает, что человек как бы мыслит свое благополучие самим собой разумеющимся порядком вещей, но страдания — нарушением этого порядка. Это именно тот дефект логики, который характерен и для Платона, и для христианства, и всей современной проблематики религий. Сами по себе вещи не являются благими в том же смысле, в каком они являются протяженными. Мы оцениваем их в силу наших частных интересов. При этом мир будто бы в долгу перед нами и нашими интересами, и всякое отступление от привычного и удобного нам порядка вещей есть зло, нарушение космического характера. Инфантильность, антропоцентризм и несостоятельность такой логики очевидны. И уже совершенно не важно, что является источником подобного зла: несовершенство материи, ее неспособность соответствовать нашему умозрению или мстительность и другие сантименты вымышленных сверхъестественных существ, которым следует приносить жертвы. В том и в другом случаях следует спросить прямо: а что такого само собой разумеющегося в нашем умозрении о благе? В чем его происхождение? Является ли оно неким началом космоса, как у Платона, или нашей частной реакцией на раздражители? Я никогда не видел удовлетворительного или честного ответа на такой прямолинейный или простой вопрос.
Мы принимаем феномены, порождающие положительные реакции, как данность, но тратим силы на поиск причин бедствий. Этот же аргумент касается не только платоновского представления о благе самом по себе, но и знаменитого сегодня «антропного принципа»: «Упорно усматривая во всем только себя самого, человек никогда не замечал всеобъемлющей природы, ничтожную часть которой он составляет». Оценочно нагруженная онтология Платона нелепа. Оценочные характеристики не имеют отношения к порядку вещей.
Другим следствием подобного представления о божестве является религиозное «общение» с этим божеством. Я вижу в подобном «общении» коммуникативную ошибку мозга. Мы пытаемся умолять обстоятельства, угрожать им или наказывать их точно так же, как мы умоляем, угрожаем или наказываем себе подобных. Даже вполне рациональные люди способны злиться на предметы, которые «причинили» им боль: кто не ругался на молоток, угодивший по пальцу вместо гвоздя? Видимо, это непроизвольное следствие устройства нашего мозга, поскольку наш мозг в ходе эволюции нашего вида приспосабливался в первую очередь к функции общения, социализации, от которой настолько зависят наши выживание и репродукция.
Наконец, воображение скрытых за событиями замыслов или мотивов сверхъестественных существ начисто затуманивает наше понимание природы. Чем больше мы тратим сил на суеверия, тем меньше способны наблюдать и предсказывать естественное развитие событий. Это же, кстати, справедливо и в отношении социально-философских мифов, вроде мифа Хантингтона о «столкновении цивилизаций» или мифа Маркса о «законах истории»: чем больше мы ищем в конкретных событиях скрытые нефальсифицируемые принципы, тем меньше понимаем, какие конкретные события приводят к конкретным последствиям, и для политиков это может стать причиной трагических ошибок. Тут я хотел бы снова подчеркнуть: между религией и другими типами заблуждений нет четкой разницы.
Справедливо и обратное: чем лучше мы понимаем научный метод и отдельные эмпирические закономерности, тем меньше нам интересны суеверия, метафизика и идеологии. Мы не отрицаем эти фикции мозга, поскольку отрицание всегда эмоционально нагружено и всегда лишено надежных оснований. Отрицание — это крайняя мера. Если у нас есть надежные основания — наши знания и опыт, — мы не отрицаем то, в чем не видим смысла. Мы можем спокойно и последовательно проанализировать миф, обнаружить его структуру, его происхождение и его произвольно взятые основания, и подобный анализ даже может быть интересным и полезным.
В этом случае миф, будь то миф философский, религиозный или идеологический, для нас как засушенное насекомое. Предмет исследования, экспонат коллекции, содержимое архива.
Итак, метафизика есть лишь глубокомысленное незнание. Ее основания, как и основания суеверий первобытных племен — отсутствие знания. Между богословием и архаичным мифом нет принципиальной разницы. Теолог не знает ничего, кроме истории своего мифа, рассмотренной некритично и поверхностно.
«В дальнейшем метафизики, проведшие такое тонкое различие между природой и ее собственной силой, не переставали трудиться над тем, чтобы снабдить эту силу тысячью непонятных качеств. Так как сила является просто модусом и поэтому ее нельзя увидеть, то они сделали из нее дух, разум, бестелесное существо, т. е. субстанцию, совершенно отличную от всего того, что мы знаем. Они не понимали того, что все их открытия, равно как и сочиненные ими слова, служили только маской фактического незнания и вся их мнимая наука сводилась к тому, чтобы путем тысячи экивоков высказать лишь то, что они не могут понять, как действует природа. Мы всегда заблуждаемся, когда не изучаем природы и хотим выйти за ее пределы; после таких попыток мы бываем вскоре вынуждены вернуться к ней или же подставить непонятные слова на место вещей, которые знали бы гораздо лучше, если бы хотели изучать их без предрассудков»[104].
Гольбах совершенно точно видит проблему метафизики: все эти понятия, вроде духа или божества, лишены оснований. Предпосылки для метафизических выводов взяты произвольно. Метафизические предложения не сообщают нам никакого знания. Общие рассуждения о качествах бога не содержат никакого знания. Более того, конкретные качества бога, которые ему приписывают богословы, — это человеческие качества. Рассуждение о божественном замысле имеет в виду человеческую рациональность, что вдвойне забавно, если учесть, как плохо мы еще понимаем принципы собственной интеллектуальности. Гольбах и Монтень совершенно правы, когда говорят, что в основании христианства лежит антропоцентризм. Это справедливо для апофатического богословия, ведь бог Григория Паламы все равно есть, как это писал еще неоплатоник Плотин, благо само по себе. Даже в диалоге «Парменид» Платона скрывается все тот же антропоцентризм, ведь делать оценочное суждение в пользу бесконечного, а не конечности — вполне в духе смертного существа, каким является человек.
Таким образом, Гольбах видит в идее бога две составляющие:
1. Объяснение феноменов реальности, причин которых мы не знаем, — от первобытного мифа до античной метафизики;
2. Оценочно нагруженный образ «блага», в действительности внутренне противоречивый и берущий за образец тиранию.
Вот что в конце концов говорит Поль Анри Гольбах о божестве, и это кажется совершенно точной, последовательной и исчерпывающей характеристикой:
«Во всех странах люди поклонялись странным, несправедливым, кровожадным, неумолимым богам, права которых они никогда не осмеливались подвергать сомнению. Эти боги повсюду были жестоки, распутны, пристрастны; они походили на тех разнузданных тиранов, которые безнаказанно издеваются над своими злополучными подданными, слишком слабыми или слепыми, чтобы оказать им сопротивление и избавиться от гнетущего их ига. Такому же отвратительному богу заставляют нас поклоняться и ныне; бог христиан подобно богам греков и римлян наказывает нас в этом мире и будет наказывать в загробном за проступки, имеющие своим источником полученную нами от него природу. Подобно опьяненному своей властью государю, этот бог щеголяет своим могуществом и, по-видимому, поглощен лишь детским удовольствием показать, что он господин всего сущего и не подчинен никаким законам. Он наказывает нас за то, что мы не знаем его непостижимой сущности и загадочной воли. Он наказывает нас за прегрешения наших отцов; от его деспотических капризов на веки веков зависит наша судьба, в зависимости от его роковых повелений мы помимо нашей воли становимся его друзьями или врагами: он делает нас свободными лишь ради варварского удовольствия казнить нас за неизбежное злоупотребление свободой, вызываемое нашими страстями или заблуждениями. Наконец, теология показывает нам, что люди всегда подвергаются наказаниям за свои неизбежные, необходимые проступки, будучи как бы жалкими игрушками в руках злого и тиранического божества»[105].
В целом «Система природы…» Гольбаха — масштабное, последовательное и выдающееся сочинение, рассматривающее целый ряд важнейших вопросов о религии, от вопросов происхождения религии до вопросов соотношения религии и морали. Сочинение не потеряло своей актуальности, его аргументы против религии по-прежнему вполне злободневны. Любая современная дискуссия об атеизме так или иначе затрагивает несколько вопросов, рассмотренных в «Системе природы…». Насколько мы говорим о религии сегодня в терминах Платона и Аристотеля, настолько же наши рассуждения об атеизме обязаны Гольбаху, хотя, разумеется, прогресс наук за последние столетия ставит современных публицистов, говорящих об атеизме, в значительно более выгодные условия, чем те, в которых писали авторы Просвещения.
Однако хочу отметить: атеизм эпохи Просвещения — это прямое следствие прогресса естественных наук. Ламетри, Кондорсе, Гольбах — эмпирики, подобно Юму или Локку. История становления науки, преодоления метафизики и религии не закончилась в эпоху Великой французской революции.
4. О познании и заблуждении. Как научный метод добился самостоятельности и превосходства
В эпоху Просвещения естествознание стало альтернативой догматическому философствованию, метафизическим спекуляциям и религии. Но роль науки на этом не заканчивается! Со временем наука стала чем-то гораздо большим, нежели просто ветвью философии и просто прикладными навыками. Один из самых важных тезисов данной книги заключается в том, что наука — это вовсе не альтернатива античной философии или религии, это особое качество знания, которое вообще лишает смысла любое религиозное противостояние. Подобные драматичные перемены приносит переход от эмпиризма Нового времени к аналитической философии XX века.
Переходным звеном между классическим эмпиризмом Нового времени, в том числе эмпиризмом Дэвида Юма, и современной аналитической философией, сопутствующей науке, стала работа известнейшего физика и философа Эрнста Маха «Познание и заблуждение». Я хотел бы сказать о ней пару слов потому, что в этом сочинении прекрасно излагаются принципы экспериментального познания.
Мах сводит познавательные способности к операциям мозга, совершаемым над содержимым памяти. Чувственные раздражители влияют на наш мозг потому, что в нашей памяти они связаны с опытом прошлого. Именно благодаря опыту прошлого, то есть воспоминаниям, мы умеем предсказывать новые события. В этом Мах развивает и доводит до совершенства мысль Юма. Мах очень важен и интересен для нашего разговора тем, что приводит замечательную модель редукции психической жизни человека к работе памяти:
«Итак, нет изолированных чувств, желаний, мышления. Ощущение, являющееся одновременно процессом физическим и психическим, составляет основу и всей нашей психической жизни. <…>
Внимательное наблюдение в себе процессов, которые мы называем соображением, решением, волей, знакомит нас с совокупностью очень простых фактов. Возьмем какое-нибудь чувственное переживание. Мы встречаем, например, своего друга, и он приглашает нас посетить его, отправиться с ним на его квартиру. Это переживание вызывает в нас разнообразные воспоминания. Последние оживают последовательно одно за другим, взаимно сменяясь и вытесняя друг друга. Мы вспоминаем остроумную беседу нашего друга, пианино, стоящее в его комнате, вспоминаем его превосходную игру на этом пианино. Но вот мы вспоминаем также, что сегодня вторник и что в этот день нашего друга обыкновенно посещает один сварливый господин. Мы с благодарностью отклоняем приглашение нашего друга и удаляемся. Каким бы ни оказалось наше решение, как в самых простых, так и в самых сложных случаях, оказавшие свое действие воспоминания таким же образом определяют наши движения, вызывая те же самые движения приближения и удаления, как соответствующие чувственные переживания, следами которых они являются. Не от нас зависит, какие воспоминания оживут и какие одержат победу. В наших произвольных действиях мы не менее автоматы, чем простейшие организмы»[106].
Решение задач Мах описывает как мысленный перебор содержания воспоминаний:
«Другой тип потока представлений образует разрешение какой-нибудь загадки, геометрической или технической задачи, научной проблемы, осуществление художественного замысла и т. д., то есть движение представлений с определенной целью. Здесь отыскивается нечто новое, в данный момент известное лишь отчасти. Такой поток представлений, в котором не теряется из виду более или менее определенная цель, мы называем размышлением. <…>
Отыскиваемое в нашем размышлении представление должно удовлетворить известным условиям. Оно должно разрешить загадку или проблему, сделать возможной известную конструкцию. Условия известны, а само представление — нет»[107].
Эти рассуждения, гипотезы об устройстве интеллекта остроумны и современны. Но важным для нашего разговора является то, что подобная логика — полная противоположность метафизической религиозной антропологии, в первую очередь — жизненно важного для христианства представления о свободе воли. Приводя объяснение решения естественно-научной или геометрической задачи простым перебором, лишь с последующей фиксацией в формуле или правиле, Мах прекрасно показывает и то, как устроен интеллект, и то, как метафизическое представление о рациональных законах Вселенной противопоставлено эмпиризму и научному методу.
Мысль Маха о том, что «сущность всякого решения проблемы в экспериментировании мыслями, воспоминаниями» — развитие логики Юма о получении нового знания из опыта. Что более важно, это важная догадка о природе интеллекта и интеллектуальных способностей: решение интеллектуальных задач есть не созерцание вечных идей, а комбинаторика содержимого чувственной памяти. Более того, Эрнст Мах излагает передовую по меркам своего времени нейробиологическую гипотезу, когда говорит о том, что выпадение функции какой-нибудь части коры мозга влечет за собой психические нарушения, что, в свою очередь, подкрепляет рядом замечательных примеров из современной ему медицины. В частности, его внимание привлекают нарушения функций мозга и поведения и заболевания вроде апоплексии или афазии, и в особенности люди с амнезией вследствие черепно-мозговых травм[108]. Эти удивительные примеры показывают, что человеческая индивидуальность — это прежде всего наши воспоминания, а память имеет органическую природу.
Но самым главным для нашего разговора является логически следующая из нейробиологической гипотезы мысль Маха о том, что под «человеческой волей» мы понимаем предсказуемое функционирование мозга.
«То, что мы называем волей, есть лишь особая форма вторжения временно приобретенных ассоциаций в раньше образованный устойчивый механизм тела. В условиях жизни несложных бывает почти достаточно одних прирожденных механизмов тела, чтобы обеспечить содействие всех частей последнего сохранению жизни. Но когда условия жизни более или менее сильно изменяются во времени и пространстве, одних рефлекторных механизмов оказывается недостаточно. Является необходимость в известной свободе размаха их функций, в расширении их пределов и возможности изменения их в этих пределах от случая к случаю. Эти, правда небольшие, изменения осуществляются ассоциацией, в которой выражается относительная устойчивость, ограниченная изменчивость условий жизни. Видоизменение рефлективных процессов, определенное доходящими до сознания следами воспоминания, мы называем волей. Без рефлекса и инстинкта нет и видоизменений их, нет и воли»[109].
Все это важно потому, что теория научного познания, эпистемология, которая начала свой путь в работах эмпириков Нового времени, тесно связана с определенными представлениями о человеческой природе и интеллекте. Принимая плоды науки, такие как современная медицина или информационные технологии, мы принимаем научный метод. Принимая научный метод, мы принимаем научные данные о человеческой природе, включая наследственность и устройство мозга. Я не вполне согласен с Ричардом Докинзом в том, что эволюционная биология — это главный научный вызов религии. Религиозные апологеты могут себе позволить риторику современных католиков, которые признают животное происхождение человеческого тела, но настаивают на божественном происхождении души. Но от нейробиологии, получения доступа к содержанию нейронной памяти и открытий в области искусственного интеллекта религии нет укрытия. Новое направление в исследовании религиозности, нейротеология, как ее называет Эндрю Ньюберг, открывает секреты святая святых: природу так называемого религиозного опыта. Если нет метафизической «свободы воли» и нет неделимой, способной достигнуть «бессмертия» «индивидуальности», то нет и содержания у любого мыслимого религиозного мифа. Если религиозный опыт — это лишь состояние мозга, подобное результату воздействия наркотиков, такое состояние не может быть источником истины, лишь источником сильных эмоциональных переживаний.
Способности людей к абстрактному мышлению, воображению, выработке понятий дали человеческому виду преимущества. Но именно эти способности нашего мозга могут привести нас к саморазрушению. Чрезмерное увлечение абстракциями и воображением, такое как метафизическая философия, религия и эзотерика, радикальные идеологии или эскапизм, — это своего рода психическое нарушение или зависимость, подобная наркомании. «Развитие представлений сначала сопровождается преимуществами для органической и в особенности для растительной жизни. Но когда представления приобретают слишком большой перевес над чувственной жизнью, это может порой оказаться даже вредным для жизни органической. Душа превращается тогда в паразита тела — паразита, пожирающего, как выразился где-то Гербарт, масло жизни»[110].
Богатство способностей нашего мозга полезно нам только тогда, когда служит нашим прагматическим целям. В конце концов, сознательная деятельность — это не единственные реакции, свойственные человеческому организму: «Все процессы жизни индивидуума суть реакции в интересах ее сохранения, и изменения в представлениях составляют только часть этих реакций. Существование известного вида живых существ показывает, что приспособления его, действующие в направлении его сохранения, удаются в достаточно преобладающем числе, чтобы обеспечить его дальнейшее существование. Что в физической и психической жизни бывают также реакции, которые не содействуют сохранению жизни, которые с точки зрения приспособления приходится признать неудачными, доказывает повседневное наблюдение. Физические и психические реакции определяются принципом вероятности. Приносят ли реакции пользу или вред, в особенности оказываются ли налицо биологически полезные или вводящие в заблуждение представления, в обоих случаях лежат в их основе одни и те же физические и психические процессы»[111].
Итак, религию с позиции теории познания и нейробиологии можно рассматривать как дисфункцию человеческой способности к воображению. Религия — это набор не имеющих практического или эмпирического смысла преувеличений. «If you can dream — and not make dreams your master; If you can think — and not make thoughts your aim, — писал Киплинг. — Умей мечтать, но не позволяй воображению быть твоим господином». То же касается построения умозрительных конструкций в противоположность фактической действительности, будь то античная метафизика, дальневосточная эзотерика, марксизм, постмодернизм, городская легенда или теория заговора: «Когда мы смешиваем представления или понятия с фактами, мы более бедное, служащее определенным целям, отождествляем с более богатым и даже неистощимым»[112].
«Экспериментальная наука построена совершенно иначе. Мы занимаемся физикой, когда исключаем вариации наблюдающего субъекта, удаляя их при помощи поправок или абстрагируя их каким-нибудь другим образом. Мы сравниваем физические тела или процессы друг с другом, так что дело сводится только к равенству и неравенству в реакции ощущения; особенность же ощущения не имеет уже значения для найденного отношения, выраженного в таких равенствах»[113].
Итак, метафизика есть наиболее абстрактные (и наименее содержательные) представления, оторванные от первоначального опыта, где «представлением» мы называем архив чувственных данных нашего мозга. Наука использует понятийный аппарат и символическое выражение данных в целях экономии сил. Научные данные интерсубъективны, эксперимент может быть повторен независимо от наблюдателя, а отношения равенства и неравенства значений одинаковы для любого человека. Рассуждения античных авторов мы не можем назвать знанием, но конкретные экспериментальные данные — это, безусловно, новое знание. Практическое значение имеют только факты, а представления, понятия и теории важны постольку, поскольку позволяют предсказывать новые факты. Религия представляет собой множество представлений, утративших всякую связь с чувственными данными, совершенно абстрактных и совершенно пустых и бесполезных. При этом абстрактное мышление не является проблемой само по себе. Оно позволяет экономить силы, если применяется правильно — такова роль математики.
«…достаточно одного взгляда на алгебру и математический язык знаков вообще, чтобы убедиться, что сосредоточение внимания на мышлении, как таковом, символическое изображение абстрактных форм мыслительных процессов тоже имеет свою ценность. Тому, кто без этой помощи не может выполнить соответствующих мыслительных процессов, эти средства не принесут, конечно, пользы. Но когда дело идет о целых рядах умственных операций, в которых часто повторяются одни и те же или аналогичные мыслительные процессы, символическое осуществление их приносит значительное облегчение умственной работы и экономию энергии для применения ее в более важных новых случаях, с которыми невозможно справиться символически. Действительно, математики в своем математическом языке развили весьма ценную для своих целей логическую символику»[114].
При этом Мах говорит далеко не только о «представлениях», потому что в итоге научное знание — это знание, выраженное в языке. «Приспособления мыслей, предпринимаемые индивидуумом в собственном интересе, могут происходить при содействии языка, но не связаны исключительно с ним. Но для того, чтобы этот процесс оказался полезным для общества, результат его должен найти словесное выражение в понятиях и суждениях»[115], — Эрнст Мах подходит вплотную к лингвистическому повороту, который строго и логично отделил сферу философии (аналитической философии науки) от сферы гипотез естественных наук: теперь мы говорим не об интроспективных «представлениях», а о вполне объективном предмете анализа — предложениях, пропозициях. Именно аналитическая философия в работах Фреге, Рассела, Карнапа, Айера, Поппера строго и однозначно отделила естественно-научное знание и знание вообще от бессмысленных предложений, от метафизики.
5. Сила, покончившая с метафизикой. Аналитическая философия
Все, о чем было сказано выше, свидетельствует об одном: к упадку религии привела история становления логики и науки. Существование религии — это исключительно философская проблема, то есть проблема употребления понятий и логики. Архаичные верования существовали до Платона, но именно Платон и подобные ему авторы придали религии конкретную форму. Архаичные верования — это легенды, а развитая религия — это метафизика. Главным для меня в разговоре о религии является то, что религия существует лишь постольку, поскольку человеком могут быть заданы не имеющие смысла вопросы, на которые затем даются совершенно случайные ответы, и все это вместе позиционируется как истина. В противовес метафизике научное знание представляет собой лишь способ описания и предсказания конкретных фактов. Но каким образом отличить одно от другого? Ученые и философы Нового времени и Просвещения создали стандарт научного познания, который позволил нам эффективно получать новое знание, которое, в свою очередь, изменило нашу жизнь (отмечу, в англосаксонской традиции логическая философия, математика и естественные науки неразрывно связаны). Но была ли критика метафизики и религии такими авторами, как Бэкон, Юм, Гольбах и Мах, достаточной?
После Эрнста Маха силами таких авторов, как Бертран Рассел, Фридрих Фреге и Людвиг Витгенштейн, были заложены основания аналитической философии, которая получила свое наибольшее развитие в трудах Рудольфа Карнапа, Альфреда Айера и Карла Поппера. Современный атеизм, в том числе в трудах последователя Гильберта Райла и Альфреда Айера и соратника Ричарда Докинза Дэниела Деннета, является одним из следствий антиметафизической программы в аналитической философии. Разумеется, аналитика непосредственно опирается на эмпиризм Нового времени и неоспоримые успехи естественных наук, но в первую очередь сосредоточена на конкретной и эксклюзивной задаче — логическом анализе конкретных утверждений. Подобный метод, во-первых, не вмешивается в компетенцию естественных наук, поскольку имеет дело только с логическими характеристиками предложений, а во-вторых, позволяет подразделить утверждения на дескриптивные, теоретические, оценочные и метафизические. Это простое, ясное и строгое решение позволяет решить проблему религии и метафизики окончательно. Один только знаменитейший аргумент Карла Поппера о фальсификации достоин всей славы категорического силлогизма Аристотеля. Этот аргумент настолько прост, что может быть высказан вне контекста проблемы полноты индукции, с которой связан, и при этом позволяет безупречным образом отделить предложения, которые могут пройти проверку опытом, от предложений, сформулированных так, что их нельзя опровергнуть. Последние и являются основанием, сутью и содержанием каждой мыслимой религии в истории, но кроме религий лежат в основании и политической демагогии, и даже обычного мошенничества.
Прогресс логики и естественных наук подводит нас к простой мысли о том, что то, что в принципе не может быть окончательно проверено, является совершенной спекуляцией и злоупотреблением нашим вниманием. Рассуждения христианских священников и мусульманских имамов относятся к жанру метафизики. Решение проблемы метафизики особенно важно потому, что невозможно полностью и правильно описать атеизм, если ограничиться перечислением того, что было и что не было доказано научным путем. Одних данных естественных наук недостаточно, чтобы понять, что собой представляет религия.
Примером прекрасной работы, позволяющей начать знакомство с аналитической философией, является «Язык, истина и логика» Альфреда Айера. Некоторое утверждение имеет фактический смысл, если ясно, какие наблюдения при определенных условиях привели бы к принятию этого утверждения как истинного или ложного. Это единственная стратегия, которая позволяет успешно анализировать метафизические утверждения. Аналитическая философия XX века добавляет нечто новое к аргументам эмпиризма Нового времени, которые я перечислил раньше, поскольку эти аргументы при всей их откровенности не являются окончательным доводом против метафизики:
«Один из способов подвергнуть критике метафизика, утверждающего, что он обладает знанием о реальности, трансцендентной миру явлений, — это исследовать, из каких посылок выводятся его пропозиции. Разве он, как и другой человек, не должен начинать с очевидности своих ощущений? И если это так, то какой общезначимый процесс рассуждения способен привести его к концепции трансцендентной реальности?… Он сказал бы, что наделен даром интеллектуального созерцания, сообщающего ему способность знать факты, которые нельзя знать посредством чувственного опыта. И даже если можно было бы показать, что он основывается на эмпирических посылках и что поэтому его затея с внеэмпирическим миром логически неоправданна, то из этого не следует, что сделанные им утверждения относительно этого внеэмпирического мира не могут быть истинными. Ибо факта, что заключение не следует из предполагаемой посылки, недостаточно для демонстрации того, что заключение ложно. Следовательно, нельзя ниспровергнуть систему трансцендентальной метафизики, просто критикуя тот способ, которым она возникает. Скорее требуется критика природы охватываемых ею актуальных высказываний»[116].
Логика Айера заключается в том, что проблема метафизики — это не проблема фактов, поскольку само отрицание некоего сверхъестественного мира есть утверждение, выходящее за рамки опыта. (В этом отношении аргументация Канта против трансцендентного знания сама по себе является метафизической.) Поэтому, кстати говоря, обычно и говорится апологетами религий, что отрицание существования бога — это религиозное высказывание (предмет веры). Однако логика естественной науки и познания идет гораздо дальше.
Аргументация Айера против метафизики вообще не утверждает ничего сверх опыта. Более того, она говорит только о том, что нам всем отлично известно: о логике, словах и предложениях.
«Критерий, который мы используем для проверки подлинности высказываний, кажущихся высказываниями о фактах, — это критерий верифицируемости. Мы говорим, что предложение фактуально значимо для любого заданного человека, если, и только если, он знает, как верифицировать пропозицию (здесь и далее пропозиция — это суждение, предложение), которую он намерен выразить, то есть если он знает, какие наблюдения при определенных условиях привели бы его к принятию этой пропозиции как истинной или к отбрасыванию ее как ложной. Если, с другой стороны, предполагаемая пропозиция такова, что допущение ее истинности или ложности совместимо с любым допущением, как бы оно ни относилось к природе его будущего опыта, тогда в той степени, в которой она его интересует, эта пропозиция, если она не тавтология, является просто псевдопропозицией. Выражающее ее предложение может быть для него эмоционально значимым; однако оно не имеет настоящего значения»[117].
Нужно понимать, что имеются в виду теоретическая верифицируемость (а в дальнейшем и фальсифицируемость у Поппера). Вопрос не в том, какое предложение может быть проверено на практике, при помощи существующих приборов. Вопрос в том, какое предложение может быть проверено в принципе, в силу своего логического устройства. К примеру, как пишет Айер: «Простой и известный пример такой пропозиции — это пропозиция о существовании гор на обратной стороне Луны. Еще не изобретена (время написания книги) ракета, которая могла бы доставить меня на обратную сторону Луны, поэтому я не способен решить этот вопрос реальным наблюдением. Но я ведь знаю, какие наблюдения решили бы его для меня, если бы, что теоретически возможно, я был бы в состоянии их провести. Поэтому я говорю, что данная пропозиция верифицируема — если и не на практике, то в принципе и, соответственно, является значимой. С другой стороны, метафизическая псевдопропозиция вроде „Абсолют принимает участие в эволюции и прогрессе, но сам к ним не способен“ не является проверяемой даже в принципе. Поскольку нельзя представить наблюдение, которое позволяло бы определить, принимает участие Абсолют в эволюции и прогрессе или же нет»[118].
Мне вспоминается широко известный «чайник Рассела», но в действительности это как раз неудачный пример, поскольку утверждение о затерянном где-то в космосе чайнике — проверяемое. Точнее, оно сформулировано таким образом, чтобы исключить проверку, но не во всех случаях.
Кроме этого, критерий верификации Айера сталкивается с той же проблемой полноты индукции, которая была свойственна еще для Бэкона: пропозиция, выражающая общий закон, не может быть подтверждена конечным множеством случаев. Альфред Айер был знаком с аргументом Карла Поппера, но не соглашался с ним. Вместо этого Айер сводит понятие верификации (обоснования) к вопросу о том, соответствовали ли какие-либо наблюдения определению истинности или ложности суждения.
Короче говоря, вопрос в том, можно ли представить себе какую-либо эмпирическую ситуацию, которая разрешила бы спор о конкретном утверждении. Честно говоря, логике Айера (равно как и логике всех логических позитивистов, включая Карнапа, Шлика и т. п.) не хватает как раз простоты аргумента Поппера. Но здесь важным является совершенно другое: Айер совершенно верно ставит проблему, хотя его решение не кажется наилучшим из возможных.
Проблема, которую логические позитивисты обнаружили, называется проблемой демаркации. Она заключается в том, чтобы отделить имеющие истинностное значение, то есть способные являться истиной или ложью предложения от предложений, которые не являются ни тем, ни другим, причем провести эту границу необходимо независимо от содержания таких предложений, на основании их логических качеств.
Иногда оба противоположных мнения о какой-то проблеме не являются ни истиной, ни ложью, поскольку вообще никак не соотносятся с опытом. В таком случае сама проблема является бессмысленной и ставить вопрос о ее решении является напрасным. Айер приводит замечательный пример о конфликте «идеализма» и «реализма»: условные стороны конфликта решают вопрос о том, является ли картина «совокупностью идей в представлении бога» или она «объективно реальна»? Ни то, ни другое утверждение нельзя соотнести с опытом, и каждое из них затрагивает метафизические проблемы «объективной реальности», «вещей самих по себе», которые существуют лишь постольку, поскольку мы определенным образом пользуемся нашим языком. Единственное, что можно осмысленно сказать, — описать конкретную картину в дескриптивных терминах протяженности, веса, формы и тому подобного. Разумеется, есть еще эстетическая или оценочная составляющая проблемы, но она так же не имеет отношения к фактам, о чем придется сказать немного ниже. Другой проблемой является знаменитая проблема Канта о Бытии.
В некоторых языках (но не в русском языке) предложения вида «предмет есть» и «предмет есть такой-то» похожи, однако на деле единственное их сходство заключается в том, что после подлежащего (субъекта предложения) следует непереходный глагол «есть». В предложениях настоящего времени русского языка не используется глагол, связующий подлежащее и сказуемое (как английский глагол to be в форме is или латинский esse в форме est). Предложение «я есть человек» звучит неестественно, чуть чаще используются предложения вида «я являюсь человеком», но «явление» уже ближе к «феномену». Проблема «Бытия» — это проблема латыни, романских и германских языков. Если на одном из таких языков утверждается, что «такой-то предмет есть вымышленный», то его вымышленный характер как бы связан с существованием в некотором качестве. Подобная проблема словоупотребления связана с более общей проблемой: суеверием, согласно которому все слова, которые мы используем, указывают на нечто реальное, а все предложения, которые построены по правилам грамматики, имеют смысл. При этом метафизика — это не художественный вымысел. Художественная литература является в общем случае ложью. Метафизик не собирается лгать и не собирается говорить бессмыслицу, когда берется за свое дело.
Вообще, анализ языка, предложений и словоупотребления — это и есть, по мнению аналитических философов, предмет философии. Задача, как я уже говорил, эксклюзивная, но при этом вполне прагматическая. Проблема метафизики — не единственная из проблем аналитической философии. Аналитическая философия может быть тесно связана с проблемой научного метода и математики, юриспруденции и филологии, истории и антропологии. Принципы естественных наук и проблема интерпретации конкретных феноменов, таких как коллапс волновой функции или существование запутанных частиц, принципы законотворчества и истолкования норм права, проблема природы математического знания и доказательства теорем, равно как и проблемы эстетики, этики и политики — могут вполне успешно и последовательно решаться в рамках аналитического метода. Критический рационализм Поппера открывает не только способ демаркации науки и метафизики, но и может позволить разделять открытые критике политические решения от категоричных идеологем. Было бы неверно сводить аналитическую философию только к позитивизму и проблемам метода экспериментальных наук. Альтернативный аналитической философии постмодернизм, на мой взгляд, зашел в тупик спекуляций и бессмыслицы, как об этом замечательно писали физики Ален Сокал и Жан Брикмон в сочинении «Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна».
Я говорю обо всем этом потому, что Айер уделяет особое внимание вопросу роли философии (по крайней мере, аналитической философии): эта роль заключается в прояснении высказываний, поиске способа переформулировать конкретное высказывание. Иногда это просто, если достаточно воспользоваться словарем и найти синонимы использованных понятий. Но иногда некоторые предложения необходимо перевести в другие предложения, которые не содержат ни исходных понятий, ни синонимов. В сущности, прояснение непонятного предложения — это выявление того, в каких ситуациях такое непонятное предложение употребляется. Почему это важно? Предложения о человеческой индивидуальности, сознании, душе и судьбе используют метафизические понятия, которые, как помните, пришли из платонизма. Но мы можем понять, что именно имеют в виду те люди, которые используют такие предложения: говорят ли они о поведении, о состоянии мозга, о содержании памяти?
Апологеты религий часто утверждают, что мы не можем обойтись без религиозных понятий, в особенности когда говорим о человеческой природе. Мы говорим о сознании, интенциях и воле, употребляем понятие «психология», произошедшее от платоновского «псюхе», но если переформулировать все подобные предложения в терминах бихевиоризма и физикализма, окажется, что мы ничем не обязаны ни Платону, ни отцам христианской Церкви. Мы говорим «об идеях», когда описываем память и речь. Память проще всего описать в терминах математики, назвав ее кодом — правилом, определяющим соотношение двух множеств. Одно из множеств содержит данные органов чувств, подобные сигналам датчиков, а второе множество содержит структуры мозга, кодирующие память. Воспоминание, соответственно, можно описать как декодирование, то есть сообщение в «сознание» аналогов данных органов чувств, реконструированных на основании структур мозга. Здесь много неясностей, в частности о каких именно структурах идет речь (уровень групп нейронов, отдельных нейронов или молекулярная структура вроде молекул РНК?), или что именно представляет собой «сознание», работу каких именно участков коры головного мозга, но общий принцип перевода «классических» предложений о человеческой природе на язык науки — понятен.
Я полагаю, что анализ предложений нашей культуры, при помощи которых мы описываем себя и наше существование, позволил бы нам прояснить, что именно мы сообщаем о себе, избегая бессмысленных терминов вроде «духовности», попытка прямой расшифровки которых приводит нас в замкнутый круг ничего не значащих понятий, подобный дурной норме плохо написанного закона.
Действуя подобным образом, анализируя предложения обыденного языка, литературы и религии, мы можем свести все фразы, которыми пользуемся, к фактам и конкретным данным (пропозициями опыта, протокольными предложениями или сингулярными высказываниями, как их иногда называют). Я полагаю, что именно отсутствие подобной ясности, неспособность людей оценить собственную речь и мысли и порождает «религиозную дискуссию». Люди попросту теряются, когда в ход идут религиозно-метафизические понятия вроде духовных скреп, Нравственности С Большой Буквы, а апологеты и пропагандисты пользуются этой растерянностью так же, как цыгане. Что, в итоге, есть мораль и нравственность, если не набор правил поведения, имеющих исключительно прагматические цели? Должны ли мы замирать перед Историей, Победой, Духовностью, Священным, или эти слова скрывают гораздо более мрачные и двусмысленные вещи, вроде войны, страха, преступности или человеческих жертвоприношений?
Подобное обращение философии к языку называют «лингвистическим поворотом». Проблемой эмпиризма Нового времени был его излишний психологизм, а психология интроспекции спекулятивна и построена на ненадежных основаниях. Рассуждения о психологии эксперимента замечательны, но могут быть лишь большой ошибкой. Когда мы сводим проблему познания до логики предложений и употребления понятий в том или ином контексте, мы сразу же получаем конкретный предмет исследования, не менее строгого, чем математика или юриспруденция. И именно лингвистический поворот дает нам ответ на вопрос о том, что такое религия, причем ответ, построенный не на наших домыслах о чем-то сверхъестественном вроде материи как таковой и идеального, как это было принято в советском «историческом материализме», а лишь на строгом анализе конкретных символов.
И именно здесь начинается современный атеизм, точнее, то, что Айер и Деннет называли «теологическим нонкогнитивизмом». Но об употреблении терминов (и политических ярлыков вроде Brights) я скажу чуть дальше. Пока перед нами самая главная проблема — проблема фальсификации.
6. Окончательное решение. Знаменитый критерий фальсификации Карла Поппера






