Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность Бикбов Александр
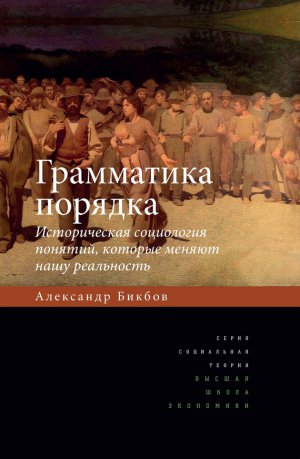
Введение. Метод исторической социологии понятий
Настало время прояснить понятия. Означающие их слова ясны или кажутся таковыми. Проблема заключается не в семантике, а в центрах силы, отношения между которыми имеют учредительный характер для нашего языка, как и для самой реальности. Со времен просветителей известно, что институты – это материализованные понятия. Но верно и обратное. Эмиль Дюркгейм с Марселем Моссом, Эмиль Бенвенист, Райнхарт Козеллек, Джордж Лакофф и другие исследователи различными способами продемонстрировали, что понятия – это социальные институты[1]. Данная интуиция столь же продуктивна в интеллектуальном отношении, сколь опасна в политическом. Господствующий сегодня исторический и политический оппортунизм, подкрепленный скоростью социальных изменений, часто склоняет нас видеть в понятиях просто слова: они имеют смысл, но мы используем их так, словно те избавлены от принудительной силы факта. Как следствие, из публичной речи, будь она политической или академической, непрерывно ускользает реальность, которой понятия придают форму и окончательность. Между тем язык, компрометирующий понятия, – это прежде всего язык без истории, которая, как повторял Пьер Бурдье, и есть подлинное коллективное бессознательное.
Подобное положение дел вовсе не означает, будто наш язык предельно свободен для рефлексии о настоящем. Напротив, отказываясь иметь дело со своей исторической определенностью, он погрязает в прошлом, реальном или воображаемом, не способный совладать с силой факта. Реактуализация истории-бессознательного в зоне рефлексивной работы с настоящим может сопровождаться сегодня такими усилиями и рисками, которые делают успех предприятия маловероятным. При этом публичное использование понятий редко обходит стороной «большую» событийную историю в ее традиционном и зачастую мифологизированном изложении. Подобных аллюзий как раз достаточно, а порой и больше необходимого. Наша публичная речь крайне нерефлексивна в первую очередь в отношении исхода даже недавних социальных столкновений, которые определяют победителей и проигравших на годы вперед, – тех, что создают социальный порядок в собственном смысле слова. Погруженные в пространство актуальной публичной речи, мы живем в иллюзорном мире открытого настоящего и любых возможных исходов. Тогда как в понятиях, которыми мы пользуемся как просто словами, нередко уже содержится эскиз нашего будущего, а отчасти – и указание мест, которые нам в нем определены.
То, что «мертвые хватают живых», – лишь одна и давняя проблема. Другая состоит в том, как мы этого не замечаем. Внимание к понятиям оправданно не только ради ретроспективной регистрации их роли в настоящем и освобождения от груза прошлого. Не менее важна их проективная потенция, т. е. способность понятий создавать будущее, доопределяя реальность в форме институтов. На обширном материале европейской истории Козеллек с коллегами показывает, что использование слов как понятий самым радикальным образом меняет будущее и само переживание времени. Этот кардинальный политический факт имеет следствия для реальности, как и для методологии ее исследования. В своем пределе исследование понятий совпадает с раскодированием генезиса реальности. Его ожидаемый результат – вскрытие той разметки, которая, выражаясь ученым языком XIX в., нечувствительно присутствует в реальности, встроенная в ее восприятие и оценку ее потенций, и сообщает элементам реальности смысл и ценность. Исследование позволяет отслоить от реальности понятийную сетку, ключевые элементы которой сформированы когда-то ранее, вероятно, с другими целями и, очевидно, в иных социальных условиях. Прошлое, запечатленное в узлах и ячейках этой сетки, не диктует нам восприятия актуальности с неизбежностью приговора. Ее элементы прагматически переприсваиваются и калибруются вслед за смещениями и разрывами в силовых полях, которые мы и склонны отождествлять с «самой реальностью». Однако история обнаруживает себя не только в прямом диктате неотменимых условий: ранее установленных границ, групп родства и бесспорных очевидностей. Исторически определенные формы опосредуют любой разрыв, который создает следующую, прежде немыслимую разметку реальности, т. е., в конечном счете, саму известную и понятную нам реальность. Значит, исследование понятий – это прояснение и подготовка условий такого разрыва.
Понятие и его смысл
Понятийные структуры, подвергнутые историко-социальному анализу, в отличие от экономических показателей и даже политической догматики, способны дать более точное понимание специфики политического и социального режима послесоветской России и СССР, как и познавательных возможностей и профессиональной организации социальных наук в СССР и после. Чтобы приблизиться к такому пониманию, необходим метод, для начала позволяющий выделить понятия, в которых порядок обнаруживает себя в наиболее ясной и действенной форме, – т. е. ключевые социальные и политические категории. Вслед за этим такой метод должен обеспечить устойчивые результаты при фиксации смысла понятий, не испытывающего критической зависимости от произвола исследователя и при том не сводящегося к разновидности энциклопедической статьи. Наконец, метод должен раскрывать непроизвольное отношение между двумя типами социальных структур: понятийными и теми, что не могут воспроизводиться вне языка, но к языку не сводятся, – т. е. между смысловым и силовым измерениями социальной практики.
Таким образом, социальному исследованию понятий предпосланы три кардинальных методологических вопроса: 1) Что такое понятие и какие понятия следует избрать предметом исследования? 2) Как определять смыслы понятия и фиксировать их в систематической форме? 3) Как возвращать понятие в реальность, т. е. прослеживать его действие на непонятийные социальные структуры?
Два первых вопроса давно и активно обсуждаются разработчиками конкурирующих версий истории понятий и истории идей[2]. Ответы на них представлены у исследователей, обращавшихся к социальному действию языка и производящему характеру понятий: от Райнхарта Козеллека и Квентина Скиннера, вместе с коллегами и последователями работающих с периодами большой длительности, через Ролана Барта и Джорджа Лакоффа, сосредоточившихся на актуальности социального порядка, к исследователям, которые, как и российские авторы нескольких сборников, с начала 2000-х годов дополнили историю понятий изучением периодов средней длительности[3]. Однако не все эти ответы достаточно эксплицитны и не все они удовлетворяют задачам исторической социологии. Кроме того, третий вопрос, хотя декларативно озвучивается в рамках той же истории понятий, не может быть в действительности решен без обращения к исследовательскому арсеналу социологии. Поэтому здесь я обозначу собственные методологические предпосылки исследования, которое представлено в данной книге. Это не будет исчерпывающим изложением метода. Не желая разбивать текст книги на теоретические и исторические главы, я буду возвращаться к отдельным предпосылкам и допущениям по мере работы с материалом, тем самым наряду с кратким наброском во введении предлагая «заземленную» теорию.
Прежде чем развернуть ряд посылок и исследовательских операций, следует сделать важное замечание. Если с самого начала очертить поле исследования, сосредоточившись на определении понятия как элементарного семантического или социального факта, это не даст никакого понимания действий, которые исследователю необходимо совершить, чтобы выделить ключевые понятия из потока публичной речи, выявить социальные коллизии при наделении их смыслом и ценностью, установить роль понятия в регламентации практик. Поэтому я сразу предложу операциональное определение понятия: не что есть понятие, а как можно изучать понятия социологически.
1. Социальную «работу» понятий следует искать в измерении, отличном от истории слов. В рамках историко-социологического исследования меня в первую очередь интересует место понятия в социальном порядке, а не историческая траектория лексем от общества к обществу, из одной языковой среды в другую или от одних авторов к другим. Само по себе описание историко-географической траектории – важная исследовательская задача, которую на российском материале решает ряд авторов сборников «Персональность…» и «Понятия о России…»[4]. Однако для целей исторической социологии важнее описать и объяснить, как данное понятие – вне зависимости от траектории его географического движения – «работает» в актуальных социальных практиках и межпозиционной борьбе. Знание географической траектории понятия может быть полезным в случае, если оно позволяет точнее объяснить особенности использования, т. е. придания понятию смысла здесь и теперь. Так, уделяя внимание осаждению смыслов в историческом поле понятия «средний класс», я обращаюсь к англо– и франкоязычным источникам (см. гл. I наст. изд.). Это делается для того, чтобы прояснить активные и тупиковые генетические линии понятия и уточнить способы его определения в России сегодня. Однако я не вполне достигаю дальней цели, объяснения социальной «работы» понятия, оставаясь преимущественно в границах политического и интеллектуального круга производителей его смыслов и лишь на материале самых недавних событий (2011–2012 гг.) проверяя, включается ли оно в практики непрофессионалов. Если большая социологическая задача исследования – объяснить, как понятие направляет самый широкий спектр практик, как его смыслы рассеиваются и оседают в эмпирическом разнообразии взаимодействий, предлагаемое в настоящей книге исследование имеет лишь подготовительный характер.
В главах, посвященных исторической организации социологии и социальных наук, я возвращаюсь к связям понятия с географией. Здесь речь идет уже не о понятиях, которые, подобно «среднему классу», производятся социальными учеными о мире, а о самом понятии «социология». Хотя географические пути понятия объективируют в первую очередь политические отношения между обществом-донором и обществом-реципиентом, за первым шагом анализа, отсылающим к языковой географической карте понятий, следует второй, который направлен уже не на географическую историю, а на территориальную логику заимствованных категорий. Как и понятие «средний класс», которое остается исключительно экстерриториальным в русской научной речи XIX и начала XX в. (т. е. за редкими исключениями не используется авторами для описания «своего» социального порядка), аналогичным статусом обладает понятие «социология». В начале XX в. ни институционально, ни лингвистически русская социология не может быть материализована в ином пространстве, нежели Париж. Но есть и противоположные примеры. В главе V я анализирую превращение науки и научности в доктринальное основание советского режима и прихожу к прямо противоположной констатации. Хотя понятие «прогресс» попадает в русский язык из европейских, преимущественно французских источников, а «научно-технический прогресс» вводится в словарь международных центров экспертизы, вероятно, раньше, чем в официальный советский словарь, символическая ценность этой категории в демонстрации различий между социализмом и капитализмом настолько велика, что Советский Союз послевоенного периода превращается в образцовую иллюстрацию «научно-технического прогресса», признанную и на международной сцене. В данном случае географическая история понятия полностью переопределяется его территориальной логикой.
2. Перед реконструкцией «работы» понятий следует определиться со списком тех из них, «работа» которых вносит наибольший вклад в субъективные схемы практик: их воспроизводство гарантирует порядок, в пределе они и являются самим социальным порядком[5]. Различные версии истории понятий и исторической семантики, естественно, не предлагают одного испытанного приема в формировании первичного списка. Козеллек в некотором смысле дает понять: вы сами увидите, когда перед вами – базовое понятие. Это приемлемо для исторического труда, ориентированного на составление обширного лексикона, но недостаточно для историко-социологического исследования, сфокусированного на изучении практик. Среди основных причин здесь можно назвать не только трудности такого подхода, плохо согласующиеся с требованием минимального обоснования в социологии, но и сбои лингвистического порядка. Создатели лексиконов, которые описывают социальный порядок на периодах большой длительности, тяготеют к выбору в качестве ключевых понятий изолированных лексических единиц: «труд», «власть», «государство», «общество», «класс» и т. д.[6] Это позволяет поддерживать консистентность лексикона, несмотря на сдвиги в социальных условиях воспроизводства системы языка. Однако периоды средней и малой длительности демонстрируют нам решающее отличие от этой картины. Среди наиболее действенно работающих понятий – по крайней мере, в российском случае – мы обнаруживаем составные лексические конструкции. Если это «класс», то «рабочий» или «средний», если «прогресс», то «научно-технический», если «гуманизм», то «социалистический» и т. д. В таких обстоятельствах попытки некоторых российских авторов механически копировать европейские исторические лексиконы, не соблюдая удвоенной бдительности в отношении социальных условий оборота понятий и исторической дистанции при реконструкции их смысла, дают весьма проблематичные результаты[7]. В действительности выявить, какие понятия лучше «работают», и означает дать ответ на вопрос, что есть ключевое историческое понятие в данный период. На интервалах, ограниченных десятилетиями или, самое долгое, столетием-полутора, социальные понятия, в которых объективируются осцилляции и сдвиги социального порядка, имеют форму лексических сочетаний.
В общем виде ключевые понятия – это такие конструкции, которые в ходе масштабных сдвигов социальных и политических структур выполняют функции операторов сдвига. Например, «классовая война» операционализирует смысл «пролетарского государства» в первые два десятилетия после революции 1917 г., «научно-технический прогресс» и «всесторонне развитая личность» – характер режима «развитого социализма» в 1960– 1980-е годы, «средний класс» – смысл послесоветского перехода к «демократии». Как отслеживать систематические возмущения, которые такие понятия вносят в ближайший контекст высших определений социального порядка и политических режимов (таких как «социализм», «капитализм», «демократия»)? Существует несколько показателей, позволяющих отбирать понятия на более твердых основаниях, нежели интуиция участников событий или держателей исторического архива.
Это изменения в словаре официальной государственной речи, в частности, публичных обращений высших государственных руководителей к населению и к политическому аппарату; материалы политических дебатов и экспертных дискуссий ввиду принятия новых законов, выработки перспективных планов и политических проектов; рабочая («серая») литература, издаваемая ограниченным тиражом для внутреннего использования правительственными комиссиями, техническими и финансовыми подразделениями органов власти, разнообразными вспомогательными структурами. За пределами корпуса официальной политической или официально лицензированной экспертной речи это статистика распространения отдельных понятий в заглавиях публикаций или их примерная оценка, которая может основываться на появлении или исчезновении отдельных библиографических категорий в высокоэтатизированных библиотечных классификаторах, отражающих символическую ценность этих понятий. Еще одним показателем служит активизация интеллектуальных дебатов вокруг того или иного понятия или темы, которая через идейную контроверзу вносит вклад в историческое поле понятия и дополняет его новыми элементами, доступными для повторной активации десятилетия спустя, в том числе в иных национальных и политических контекстах[8]. Наконец, это факты перевода доктринальных понятий в технические, такие как перенос понятий «прогресс» или «фундаментальная наука» 1960-х годов с высоких политических трибун в номенклатуру государственного бюджета. То есть закрепление отдельных понятий в той институциональной форме, которая уже относительно нейтральна к последующим политическим катаклизмам. В начале 1990-х годов «научно-технический прогресс» перестает выполнять функцию ключевого оператора, или понятия-посредника, в определении государственного режима социализма и плановой экономики. Однако понятия «прогресс» и «фундаментальная наука» по сей день сохраняются в структуре российского государственного бюджета.
3. Оставляя в стороне реконструкцию историко-географической траектории понятий, социологическое исследование признает актуальность другого вопроса, оживляющего дебаты между английской и немецкой школами истории понятий. Это вопрос: кто и что производит понятия? Очевидно, что ответ на него не может быть слишком простым. Но что можно сделать сразу – это отказаться от традиционно филологической и в значительной мере архаичной установки, которая предполагает исследование «авторского и интенционального механизма в конструировании социальной реальности, осмысленной в языке»[9]. Участники проекта «Понятия о России», к счастью, не следуют презумпции индивидуального авторства понятий и, отвечая на вопрос «кто?», указывают в первую очередь на имперское правительство. Введение этой инстанции в описание периода (XVIII–XIX вв.), когда участию государства в производстве социального порядка несвойственны более современные нам монопольные формы, требует дополнительных пояснений и уточнений. Альтернативу этому составляет ряд материалов проекта «Персональность». Они демонстрируют ключевую роль в становлении семантического поля понятия «личность» интеллектуальных групп и центров того же периода, которые не имеют прямой связи с государственным аппаратом. Именно в работах и дебатах участников этих групп и центров приобретают эталонную форму некоторые смыслы, которые повторно активируются при масштабных политических сдвигах в послевоенном СССР и в ходе демонтажа советского режима. Так или иначе, фактическое обращение к коллективным инстанциям наряду с текстами индивидуальных авторов важно, поскольку сближает методологии истории и социологии понятий. Оба проекта предлагают важные элементы для дальнейшего изучения не географической, а социальной траектории понятий. На основе данных, которые вводятся в настоящей книге, к государственным органам и интеллектуальным группам в XX в. следует также прибавить экспертные инстанции, в первую очередь научные и образовательные институты, а также СМИ, которые становятся основными «изготовителями» конкурирующих смыслов: часть последних государственный аппарат институциализирует в качестве политических универсалий.
Даже если в отдельных случаях можно проследить вклад тех или иных инстанций и участников в итоговую конструкцию понятия, следует исходить из того, что продукт подобных конструкторских усилий соотносим не с индивидуальной авторской интенцией или результирующим вектором нескольких интенций, а с практиками, локализованными в различных, в первую очередь профессиональных, институциях по производству смыслов. В этой перспективе понятие выступает анонимным и коллективным продуктом уже на отрезке его лексического генезиса. Такой его характер лишь закрепляется в ходе последующей циркуляции по каналам уполномоченной речи. Рутинные академические публикации, ведомственная «серая» литература, оформление технических классификаторов позволяют наблюдать неприглядную в своей серийности социальную жизнь понятий, которая избавлена от благородных оттенков истории идей, часто обязанной своим звучанием крайне узкой селекции авторитетных источников из мира философии, художественной литературы, образцовой политической риторики. Понятие приобретает характер ключевого через множество повторов и копирований, зачастую нерефлексивных, порой механических. Такое положение дел прекрасно иллюстрирует сегодня социальная траектория основных политических категорий. Перекочевывая из авангардных художественных и маргинальных академических публикаций в черновики безымянных спичрайтеров, которые дополняют их результатами диффузных заимствований и несистематизированного чтения, отдельные понятия становятся предметом публичного высказывания политических руководителей после того, как текст выступлений проходит их личную правку или редакцию их секретарей; будучи переозвучены и заново контекстуализированы журналистами, исходные лексические конструкции снова попадают в заглавия академических и экспертных, уже серийных публикаций. Именно в таком анонимизирующем публичном обороте единицы исторического публичного словаря окончательно избавляются от следов исходного авторства и становятся общими понятиями в собственном смысле, подобно популярному музыкальному мотиву или удачному анекдоту. Сам процесс продвижения лексической конструкции от одной инстанции к другой, в ходе которого происходит насыщение и переопределение ее смыслового поля, перепроизводит ее как понятие, которое находит свое место в символической архитектуре порядка.
4. Сознательное включение в исследование широкого круга социальных инстанций по производству понятий, который в пределе смыкается с набором профессиональных, биографических, политических условий производства и циркуляции смыслов, представляет собой серьезный разрыв с господствующими версиями истории понятий и истории идей. В частности, Квентин Скиннер отрицает важность изучения «социального контекста» авторского высказывания, усматривая в нем источник огрублений и ошибок при интерпретации авторского замысла[10]. Райнхарт Козеллек отчасти склонен рассматривать реальность социальных институтов как производную от смысла понятий, когда приглашает видеть в отдельных базовых понятиях такую производящую потенцию, которая определяет ход социальной истории[11]. Отличительная характеристика исторической социологии понятий, опыт которой я предлагаю в настоящей книге, заключается в том, чтобы вовсе отказаться от мыслительной фигуры «социальный контекст», будто бы комплементарной смыслу или даже замыслу, заключенному в понятии.
Социология, отправным горизонтом которой служит социальная, т. е. коллективная и объективная реальность, позволяет исследовательски и операционально определять смысл понятия следующим образом: смысл – это то, как данное понятие используется в коллективных контроверзах и в процессах институциализации. Не больше и не меньше. Вне социальных взаимодействий, которые направляются теми или иными понятиями, невозможно установить какой-либо смысл. И если какой-то исторический смысл нам непосредственно доступен или очевиден, это оказывается возможным лишь потому, что условия нашего существования сохраняют сходство или подобие с ранее действовавшими. Часто у нас нет возможности с достаточной полнотой восстановить эмпирическое содержание взаимодействий. Однако следует максимально близко придерживаться этой посылки. Понимание – лишь следствие взаимодействий, которые производят субъективность. Такое операциональное определение понятия ближе всего к предложенному Пьером Бурдье «практическому смыслу», который одновременно является практическим чувством, т. е. тем смыслом, которым вещи и понятия «естественно» наделены для участников взаимодействий, в условиях возможности, определяемых объективными социальными структурами[12].
По этой причине «индивидуальный автор» Скиннера, интенционально генерирующий смыслы, равно как «базовое понятие» Козеллека, генерирующее рамочные условия реальности, в качестве центральной методологической фигуры должны уступить место иной формуле: гомологии, или соответствию, между семантическим и социальным пространствами данного общества в данный период, которые взяты сами по себе, безотносительно к авторству и идейным рамкам. Такая смена методологического фокуса имеет по меньшей мере два кардинальных следствия, отделяющих историческую социологию понятий от исторической семантики и истории идей.
Во-первых, смыслообразование отныне рассматривается как практика среди прочих, т. е. как социальная практика. В этом случае для ее объяснения в целом иррелевантно представление об исходном замысле или авторской интенции так же, как оно бесполезно при объяснении других элементов социальной реальности suigeneris. Следуя логике социологического подозрения, мы всегда можем достаточно точно локализовать подобный замысел, обращенный на значимое историческое понятие, в наборе объективных возможностей, биографических склонностей, характере борьбы, которую автор высказывания ведет в своей профессиональной среде или на политической сцене и т. д. Исходная авторская интенция, или смысл, который автор приписывает понятийной конструкции, будут здесь так или иначе детерминированы социальными, т. е. коллективными и объективными условиями самой возможности того или иного понятия. Бесконечная спираль «авторский замысел или объективные условия» вменяет исследованию ложный вопрос. Поэтому смысл понятия в историко-социологической работе следует исходно рассматривать как продукт и продуктивное основание социальной реальности. И смысл понятий, и смысл действий уже наличествует в эмпирической истории, зарегистрированный в текстах и иных результатах социальной практики. Нам следует изучать и описывать их как данные.
Во-вторых, анализ понятий, их семантического контекста, генерируемого отношениями с другими понятиями, исторического поля отдельных категорий, продуктивных и тупиковых (для каждого отдельного периода в разных языковых общностях) генеалогических линий исторической семантики имеет значение не сам по себе, не как акт реконструкции понятийного архива. Все исследование так или иначе имеет своим дальним горизонтом прояснение того, как понятия направляют практики. Достаточным для такой работы можно признать весьма ограниченный набор понятий, которые предоставляют доступ к ранее ненаблюдаемым и неочевидным свойствам порядка. Составление исчерпывающего словарного списка, эта во многом предельная амбиция истории понятий или истории идей, вступает в конфликт с задачами исторической социологии, поскольку почти неизбежно, а порой и декларативно разрывает главную искомую связь – между семантическим и силовым измерениями порядка. Конечная цель исторической социологии понятий – не произвести исчерпывающий лексикон ключевых социальных и политических универсалий каждого периода, а глубже проникнуть в работу социальных механизмов, описав, как понятия выполняют «работу» узловых элементов социального порядка. Здесь основным ответом на вопрос «кто или что производит понятия?» служит анализ связи между институциональными (и институционализирующими) практиками и семантическими контекстами, которые формируются вокруг отдельных понятий, выполняющих роль социальных и политических универсалий в ходе работы инстанций освящения и распространения, таких как научные центры, государственный аппарат или СМИ.
5. В связи со сказанным историко-социологическое исследование вносит еще одну существенную поправку в методологию работы, предложенную Райнхартом Козеллеком. Козеллек предлагает различать в семантическом поле понятий Нового времени область опыта и горизонт ожиданий. Не отрицая эвристичности этого различия, историческая социология оперирует не только и не столько областью исторического опыта, осажденного в семантике понятия, сколько эмпирическим референтом понятия, который наделяется достаточно узким и специальным значением. На периодах малой и средней длительности эмпирическим референтом таких понятий, как «государство», «наука», «свобода слова» и др., выступает не опыт гражданства, исследований или публичного высказывания, а институты государства (например, министерство экономики или полиция), науки (академии наук и университеты), журналистики (редакции СМИ). Иными словами, эмпирический референт в данном случае, во всем спектре значений лексического термина – это прежде всего коллективные инстанции, которые гарантируют само социальное существование и воспроизводство понятия. Такие инстанции, как машины по производству смыслов, также служат источником проектных компонент понятия, которые нормативно отсылают к желаемому или возможному будущему.
Признание исторической социологией множественности инстанций, т. е. коллективного и анонимного «авторства» понятий, не гарантирует нас от искажений перспективы, которые определяются локальной спецификой гуманитарных и социальных исследований. В частности, за пределами истории на уки и науковедения российские исследователи редко обращаются к интеллектуальным центрам как источникам производства языковой и социальной реальности. Если в случае естественнонаучных дисциплин это еще может согласоваться со здравым смыслом, куда труднее оказывается признать, что глубокое воздействие на реальность способны оказывать социальные и гуманитарные дисциплины. В современном российском обществе, как и в позднесоветском, эта немыслимость прямо соотносится с убеждением «нас никто не слушает», которое в академических стенах подкрепляется слабостью структур коллегиального самоуправления[13]. Но, хотя академические социологи и их коллеги из смежных дисциплин слабо регламентируют условия собственной профессиональной жизни, результаты их систематической деятельности, пускай самые компромиссные в содержательном отношении, вносят решающий вклад в придание реальности ее воспринимаемой и узнаваемой формы. Происходит это по мере интеграции академической экспертизы в государственное управление. Уже в 1960-е годы, включившись в экспертный корпус государственного аппарата, социологи, психологи, философы не просто воспроизводят в академическом регистре понятия, звучащие с высоких государственных трибун. Через публичные дискуссии и вал публикаций они активно участвуют в придании новых смыслов политическим понятиям. В форме докладов и аналитических записок академические эксперты поставляют первичный речевой материал для публичного политического высказывания, а затем закрепляют политически освященные смыслы понятий в доктринальных и исследовательских публикациях. Результатом этого двойного переноса становится институциализация нетривиальных понятийных связей, которые сообщают новый смысл кардинальным политическим универсалиям. Именно так в административный и академический оборот 1960-х годов вводятся прежде невообразимые комбинации: «научно-технический прогресс» и «личность», «научно-технический прогресс» и «свободное время»[14], – которые неявным образом перехватывают более ранние милитаризованные определения политической универсалии «социализм» и переводят ее в мирный, отчасти «буржуазный» контекст.
Демонтаж режима «научного социализма» и становление центров внеаппаратной и негосударственной экспертизы как конкурирующей, если не доминирующей формы интеллектуального участия в государственном управлении, вносит структурные изменения в этот процесс, но отнюдь не отменяет его. Даже то, что социологи, экономисты, политологи говорят сегодня об обществе торопливо или недобросовестно, придает смысл текущему балансу сил, который закреплен в понятиях «средний класс», «трудовые ресурсы», «бедные», «электорат», «элиты», «производительность» и т. д. В этих обстоятельствах перестают действовать в иных случаях решающие различия между образцовым теоретическим высказыванием и рутинной аппаратной речью, высотами интеллектуальной изобретательности и нищетой политического сервилизма. Академические ученые и университетские преподаватели говорят то, что говорят. И весь корпус публичной речи, более не нуждающийся в предварительном государственном лицензировании, может быть использован и используется политически post factum. Вклад научных и образовательных институтов в производство политических понятий, со всей механикой интеллектуальных страховочных механизмов, которые заранее встроены в их публичный оборот, делает вдвойне опасными ограничения, которые диктует историческая семантика понятий. По меткому замечанию Пьера Бурдье, «всякий анализ идеологий в узком смысле как легитимирующих дискурсов, не включающий в себя анализ соответствующих институциональных механизмов, рискует стать не более чем добавочным вкладом в эффективность этих идеологий»[15]. Демистифицирующая цель историко-социологического исследования понятий состоит в том, чтобы соотнести эту публичную речь с условиями ее производства, которые снабжают такую речь способностью размечать реальность, придавая последней актуальный и перспективный смысл.
Работа с материалом: деления и приемы
Если понятия объективируют историю в форме текстового архива, как и в невидимой власти над настоящим и будущим, историко-социологическое исследование становится наиболее действенным способом описывать согласованные между собой лингвистические и политические эффекты «работы» понятий. Сохранение лексики прежнего периода в публичном обороте настоящего обязано воспроизводству социальных структур точно так же, как исчезновение из публичного оборота прежде ключевых универсалий, а смещение ранее господствующих категорий на периферию понятийной сетки сопоставимо с миграцией к ее центру узкоспециализированных или маргинальных смысловых единиц. Когда подобные семантические события распространяются на масштаб всей понятийной сетки, захватывая множество ее узлов одновременно, они вступают в прямую связь с социальным порядком, обеспечивая его консервацию или преобразования. В подобных случаях мы можем быть уверены, что семантика публичной речи синхронизирована с масштабными сдвигами в до– и непонятийных социальных структурах. Порой связь между смысловыми и силовыми структурами артикулируется явным и рефлексивным образом, как в случае революционной необходимости. Но чаще эта связь не так очевидна в каждый отдельный момент и требует специального исследования.
В противоположность ранним подходам, сосредоточенным на выделении «твердого ядра» семантики понятий и дальнейших операциях с этим ядром, предлагаемый в данной книге подход основан на анализе различий между текстами и позициями, где определяется смысл понятий. В качестве точек отсчета я беру группы текстов, схожие в функциональном отношении и расположенные на достаточной хронологической дистанции одна от другой, что позволяет фиксировать значимые семантические различия[16]. При этом среди текстов, принадлежащих одному периоду, я уделяю особое внимание тем, которые объективируют различные, в пределе противоборствующие позиции, претендующие на придание понятию смысла, или резюмируют результаты такой борьбы. Это имеет принципиальное значение, когда мы наблюдаем, как при помощи понятий создаются или разрушаются институты, укрепляются альянсы и обостряются конфликты, совершается мобилизация социальных групп. Здесь смысл социального действия оказывается неотделим от ценности, которую приписывают понятию, включенному в это действие. Возвратное движение между понятиями текстов, которые призваны направлять практику, и практикой, которая институциализирует понятия, составляет элементарную рабочую схему историко-социологического исследования. Далее я поясню, как некоторые методологические установки, вписанные в эту схему, реализуются в исследовательских приемах.
1. Смысл и ценность понятия не могут быть установлены вне семантического контекста, которым его снабжают другие понятия, находящиеся с ним в наиболее устойчивой узуальной связи. Любое понятие связано с другими, и эта связь, понятая как текущая конфигурация понятийной сети в синхронном срезе, образует семантические гнезда, с которыми имеет дело практический деятель или исследователь. Чтобы сделать более понятным этот принцип, уместно напомнить о соссюровском определении знака в системе, который актуален также в отношении отдельных социальных понятий: «В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет»[17]. Приступая к работе с тем или иным понятием, мы должны отдавать себе отчет, что беремся за один край понятийной сетки, и интересующее нас понятие тянет за собой те, с которыми оно на тот момент наиболее тесно связано, они, в свою очередь, создают дальнейшие натяжения всей смысловой сети.
Если операционализировать практикуемый мною анализ семантики в терминах существующих подходов, он близок к модели ассоциативного тезауруса[18], хотя и отличается от нее прежде всего способом измерения. Для исследований по реконструкции ассоциативного словаря естественного языка характерна статистическая обработка совместных вхождений (связей) терминов, представленных у его носителей. Анализ семантики социальных и политических понятий в настоящей книге с технической точки зрения представляет собой «ручную» и выборочную обработку контекстообразующих связей в опубликованных текстовых источниках[19]. В целом базовый лингвистический инструмент исторической социологии понятий – это выявление устойчивых ассоциаций между ключевыми понятиями и отслеживание периодов, когда такие контексты обновляются, т. е. когда в устойчивые отношения с изучаемым понятием вступают новые термины.
2. Понятие, которое означивает не только ограниченный исторический опыт или проект, но относительно открытую к изменениям конфигурацию практик (прежде всего институциализированных), за счет эффекта семантического гнезда генерирует множество вторичных смыслов, не сводящихся к изолированным словарным формам. Среди этих вторичных смыслов особо следует выделять коннотации, которые через контекст употребления указывают на социальную ценность понятия. Так, функциональное различие между конструкциями «яркая личность» или «всесторонне развитая личность» и «темная личность» заключается в первую очередь в символической ценности, которая приписывается термину «личность» в каждом из случаев. И если каждая из таких конструкций вписана в воспроизводство господствующих позиций в конкретный период, например, когда в публичной речи государственных деятелей и журналистов в 1930-е годы слово «личность» с регулярностью коннотируется отрицательно, можно сделать вывод о социальной девальвации соответствующего понятия (см. гл. IV наст. изд.). Не следует забывать, что понятия, выделенные исследователем из их семантических гнезд, всегда хранят на себе отпечаток исследовательского произвола. Именно поэтому в целях корректной реконструкции смысла понятий важно связное описание семантических и социальных параметров их воспроизводства. С семантической точки зрения, как бы ни была велика взаимная подвижность отдельных элементов каждого такого гнезда, относительную устойчивость фиксируемого исследователем смысла обеспечивает постоянство словарных ассоциаций. С точки зрения социальной механики устойчивые семантические связи с большей вероятностью будут обнаруживаться там, где эта связь поддерживается институционально, т. е. там, где понятие «работает» как основа институциализированной практики.
Выбирая между реконструированным смыслом или словарным термином понятия, на первом этапе работы необходимо следовать за термином, прослеживая его генезис и превращения в различных социальных контекстах. Так, если «социалистический гуманизм» в 1930-е годы определяется через классовую ненависть, а в 1950-е – через недопущение новой войны (см. гл. III наст. изд.), то в первую очередь нас должны интересовать смысловые разрывы, которые присутствуют в контексте лексического термина «гуманизм», а не устойчивый понятийный смысл «классовой ненависти», который практически лишается собственного лексического выражения в послевоенный период. Если термин меняет смысл или понятие закрепляется в иной словарной конфигурации, следует рассматривать это как часть истории понятия, которая может прерываться при сохранении словарной формы, и наоборот. Поскольку смысл и ценность понятия не рассматриваются вне практик, которые их учреждают и в производство которых они включены, социологический анализ, сопровождающий семантический, позволяет прослеживать «приключения» понятий почти без потерь, характерных при составлении одного только текстуального (семантического) лексикона.
3. Приведенное ранее определение смысла понятия через взаимодействие имеет важное следствие. Семантический контекст понятия может быть в конечном счете раскодирован как продукт учреждающих социальных взаимодействий между различными позициями (группами, институциями) носителей и посредников. Здесь имеет смысл обратить внимание на два конкурирующих подхода к категоризирующей лексике, или историческим понятиям как единицам социального действия. В рамках методологий Райнхарта Козеллека и Квентина Скиннера понятия рассматриваются как смыслообразующие и генерирующие социальное действие единицы, чья принудительная сила в большей мере обязана естественному языку, чем историческим конфигурациям «социального контекста». В версии социолингвистики Пьера Бурдье понятия описываются как элементы уполномоченной речи, т. е. смысл и значение понятия определяются в первую очередь тем, какую социальную позицию занимает публично высказывающийся, а рецепция его речи зависит от того, кем и как он был уполномочен на высказывание[20]. Тем самым, поляризуя модели каждой из двух методологий, можно обобщить их следующим образом. Первая модель допускает, что смысл понятия генерирует новые отношения сил в социальной реальности и создает или изменяет саму публичную сцену социального действия. Тогда как вторая указывает, каким образом силовые отношения определяют выбор и смысл понятий, которые в тот или иной момент, синхронизированный с текущим состоянием баланса сил, или иерархизированным набором позиций, вводятся на публичную сцену.
Если эти два набора исходных допущений выступают конкурентами в теоретическом отношении, то в ходе историко-социологического исследования они фиксируют разные этапы исследовательской процедуры. Генеративный характер исторических понятий, на который обращает внимание Козеллек, позволяет отбирать из текстового корпуса те лексические конструкции, которые обладают наибольшей проектной «силой» или потенцией, выраженной в том числе и количественно. Например, в указанном ранее виде вала тематических публикаций в самых разнообразных профессиональных секторах, в форме стратегических классификаторов: административных, экономических, библиографических, торговых и т. д. Внимание к социальным и властным характеристикам носителей понятия, которые лежат в основе модели Бурдье, позволяет проследить, в какие силовые отношения изучаемые понятия вписаны в текущий момент и как их смысл связан с силовой структурой уполномоченной речи, в частности, с институциональной организацией публичного высказывания. Такой двойной ход позволяет не только описать захват понятием новых семантических контекстов, но и объяснить социальные условия этой динамики, от институциональных инвестиций в поддержание той или иной конфигурации понятийной сетки до биографической предрасположенности тех или иных участников взаимодействия к использованию отдельных терминов. Среди прочего, двойной шаг анализа позволяет структурно фиксировать «кому выгодно», чтобы та или иная лексема превратилась в ключевое понятие, через актуальный или проектный смысл которого можно влиять на баланс сил. Это в точности отвечает основной задаче исторической социологии понятий, которую я назвал ранее: установление соответствий между расстановкой социальных сил и структурой понятийной сетки, отраженной в ключевых понятиях.
4. Выявление устойчивых контекстообразующих связей в семантике понятий и отказ от рассмотрения лексем в «чистом виде», т. е. вне социальных взаимодействий, ведет к уточнению лексической размерности ключевых понятий. Я уже указывал, что на протяжении последнего российского столетия в качестве понятий наиболее действенно «работают» не изолированные словарные универсалии, а составные лексические конструкции. В политической, научной, журналистской практике присутствуют не «достоинство», а «человеческое достоинство», не «личность», а «гармонически развитая личность», не «прогресс», а «научно-технический прогресс» и т. д. Предваряя результаты исследования, представленные в настоящей книге, я готов сформулировать сильное допущение об общей структуре российского понятийного словаря. Плохо «работая» изолированно в разметке реальности, лексические единицы в качестве исторических понятий размечают реальность (в актуальности и проекте), только когда вступают в устойчивые отношения с другими понятиями, образуя синтагмы. Это справедливо для терминов «личность», «прогресс», «достоинство», обладающих относительно долгой российской историей. Это верно и для более «молодых» в российском политическом и культурном горизонте понятий, таких как «демократия», которые нуждаются в дополнительных квалификациях, чтобы генерировать более ощутимые эффекты реальности: используется ли в разных случаях для универсалии «демократия» квалифицирующий нормативный признак «российская», «мировая» или «суверенная». Схожую картину раскрывает семантико-социальное поле русского понятия «средний класс», реальность которого видится крайне проблематичной даже горячим апологетам, пока заемный термин не дополняется квалифицирующими признаками, такими как признак «российский» – он не просто локализует «класс» географически, а отсылает к набору «особых» социальных свойств[21].
Необходимость в уточняющих квалификациях, которые делают понятие «работающим», с большой вероятностью объясняется длительным понятийным трансфером, который происходит в виде импорта не только терминов, но и политических институций, частичного и компромиссного на всем своем протяжении[22]. Конечно, российский случай не исключителен, и схожие свойства понятийной сетки мы, с большой вероятностью, обнаружим в других обществах с аналогичной практикой. Наличие внешних эталонных форм, которые становятся предметом трансфера, выступает источником основополагающего смыслового и ценностного напряжения, пока степень, форма и успех реализации проектов в обществах-донорах систематически идеализируются в обществах-реципиентах. Идеализация закрепляет в смысловом поле понятий иерархию между полноценными заемными образцами «цивилизованных» норм и неполноценными местными реалиями. Если в рамках развернутого высказывания такое напряжение традиционно выражается в явном противопоставлении «российского» (наделяемого негативной символической ценностью) и «цивилизованного» (с позитивной ценностью)[23], то в свернутом виде то же противопоставление содержится уже в лексической форме понятий. Конструкции «российский средний класс», «суверенная демократия», «социалистический гуманизм» и даже «всесторонне развитая личность» отчетливо коннотируют несовпадение локальных версий реальности с заимствуемыми проектными категориями «средний класс», «демократия», «гуманизм», «личность». Такую схему трансфера, которая воспроизводит регулярную асимметрию между образцовыми понятиями и «не вполне подходящей» реальностью, трудно квалифицировать иначе как самоколонизацию. С содержательной точки зрения продуктивной здесь будет параллель с исследованиями Николая Плотникова, который обнаруживает в основании российских государственных реформ, начиная с XVIII в., метафорическое представление о российском обществе как «tabula rasa»[24]. Регулярное нормативное преобразование местной «бесформенной материи», форма для которой каждый раз заново заимствуется в институтах Западной Европы, является достаточно точным выражением перманентной самоколонизации[25].
Если реальность соответствует понятиям лишь с квалифицирующими оговорками и решающая оговорка обозначена в самой словарной форме, то дополнительные квалификации делают сцепление с реальностью более или менее приемлемым. При этом нет сомнений, что действительным источником сохраняющегося зазора служат не отношения между понятием и реальностью, а сама практика переноса понятий – в том числе лингвистическая, но в первую очередь политическая. Трансфер понятий с квалифицирующим признаком производит структурный эффект, во многом противоположный натурализации, как ее определяет Ролан Барт[26]. В отличие от натурализации, которая превращает историческое в природное в интересах господства, стирая заложенные в понятии различия и противоречия и тем самым существенно затрудняя его критику, прием квалификации неявно и непрерывно ставит под сомнение реальность, стоящую за понятием, а в случае, когда подобным образом сконструирован целый ряд ключевых универсалий, – реальность самого общества. На деле квалифицирующая конструкция ключевых понятий, свойственная трансферу колониального типа, выполняет двойную социальную функцию. Она сообщает приемлемый (временный и компромиссный) характер понятию при его переносе и адаптации в действующей понятийной сетке, что позволяет тому «работать» как форме восприятия реальности. И она же оставляет открытым отходной путь для политических и экспертных инстанций в случае масштабных консервативных сдвигов в балансе сил, которые в России (и не только) сопровождаются систематической критикой «Запада», куда генетически отсылает ряд заимствований, чье происхождение не окончательно стерто процессом их использования. Принимая во внимание социальную модель понятийного трансфера, в историко-социологическом исследовании следует обращать особое внимание на лексическую конструкцию понятий и извлекать из нее так много политического, как это возможно.
5. Отдельного пояснения в рамках настоящей работы, вероятно, заслуживает само определение политического. В предельном отношении ключевые понятия настолько политические, насколько они являются общими. Дело в том, что любое понятие превращается в ключевое историческое, лишь став предметом уполномоченной речи и работы по универсализации и институциализации. В поле социальной практики это означает, что понятие пропускают через свою речь профессионалы от политики, число его употреблений растет в языке СМИ, адресующихся к большинству, оно используется в мобилизующей речи не только в профессиональной политике или во взаимодействиях между политическими делегатами и мобилизованным большинством, но и, например, в борьбе между научными группами, литературными альянсами и т. д. Именно таким образом стратегические узлы понятийной сетки советского общества сквозным образом скрепляются и коннотируются понятийными парами «личное – коллективное», «чистое – практическое», «абстрактное – классовое» и рядом подобных, которые представляют собой одновременно формы мышления, конкурирующие карьерные стратегии, научные категории, мотивы политических кампаний и репрессий, а в отдельных случаях – условие жизни и смерти политических и научных противников[27]. Во всех случаях понятия аккумулируют в своем смысловом поле прагматику межпозиционной борьбы, которая неразрывно связана с балансом социальных сил.
Властные эффекты этой прагматики возвращают нас к отождествлению Эмилем Бенвенистом понятия и института. Практикуемый мною метод не чужд бенвенистовскому радикализму: ключевое понятие, которое мы рассматриваем не как изолированный элемент культурного словаря, а как raison d'tre административного учреждения или полюс практической оппозиции, управляющий борьбой между фракциями противников, – и есть институт. Пьер Бурдье, в чьих исследованиях наряду с аппаратом социологии задействованы инструменты социолингвистики, также уделяет исключительное внимание категориям и классификациям, понимаемым как языковые и мыслительные различия, которые непосредственно упорядочивают практики[28]. Такие различия, лежащие в основе производства социальных групп и взятые в качестве исходной переменной исследования, позволяют зафиксировать разнообразие речевых и силовых действий, которые материализуют смысл. Например, понятие «средний класс», которое является одновременно семантической и социальной категорией, находит определение в перечне критериев социологического или маркетингового исследования (по уровню доходов и образования, характеру занятости, типу потребления), в показателе численности из системы государственной статистики, в императиве поддержания общественной стабильности из уст страстного публициста или государственного деятеля, в несогласии с высоким налогом на прибыль из публичной речи политического представителя, в самохарактеристике члена правления частного банка на митинге протеста и т. д.[29] Эти определения могут отсылать к некоторым общим основаниям и интеллектуальным операциям или игнорировать друг друга. В пространстве конкурирующих политических идеологий «средний класс» наделяется миссией по мирному спасению общества от межклассового насилия и революции. В пространстве стилей жизни тот же «средний класс» кристаллизуется на стыке потребительских влечений и экспертизы повседневности: в форме регулятива стиля жизни, который нишевые СМИ транслируют аудитории своих разборчивых читателей. Важно, что каждый из этих способов противопоставляет «средний класс» чему-либо или кому-либо еще, пускай и не всегда в явной форме, практически вводя такое смысловое различие (если мы анализируем современный российский случай, то в пределе – дистанцию по отношению к «советскому»), которое одновременно служит перформативным способом деления людей на группы.
Использование таких различий в качестве единиц анализа отменяет жесткую методологическую границу между понятием, классификацией, категорией и институтом. В решающем для исторической социологии измерении все они возвращают исследователя к смыслу, который доопределяет и упорядочивает силовые линии социальных взаимодействий. В настоящей книге разнообразие форм, в которых выражены эти различия, рассмотрено как элемент общего пространства, где социальная и хронологическая дистанция, отделяющая введение в публичный оборот понятия от создания института, а создание института – от использования технической классификации, может быть неощутимой. Такое понимание позволяет уйти, среди прочего, от бесперспективных противопоставлений, навязываемых «теоретической социологией» и гуманитарной публицистикой: норма или реальность, порядок или изменения, культура или власть, эмпирическое или априорное, микроуровень или макроуровень и т. д. В исследовании, внимательном к практическим различиям, подобные смысловые суррогаты мгновенно вытесняются работой по реконструкции явных и свернутых текстуальных оппозиций, которые в изучаемый период используются непосредственными участниками взаимодействий. А также выявлением таких контекстов, где производится декларативный или неявный разрыв со смыслами понятия предшествующего периода и где новые контекстообразующие связи между понятиями позволяют обнаружить присутствие новых социальных позиций или смену отношений между существующими. Именно в этих точках история понятий становится наиболее политической. Через обращение к социальным условиям таких разрывов мы получаем возможность прояснить, как функционирует и как меняется социальный порядок.
Раздел первый. Генеалогия нового порядка
Что сегодня в России наиболее осязаемо маркирует 25-летний разрыв с прежним политическим и социальным порядком? Обилие городских кафе и вывески на латинице, свободный оборот международных валют и поездки за границу, поиск работы через собеседования и манера одеваться? Несомненно. Обширно рассеянные и регулярно воспроизводимые, эти признаки складываются в стилистические ансамбли: способы организации времени, привычек, желаний, – которые придают новому порядку характер неустранимой данности. За осязаемыми ансамблями регулярных обыденных взаимодействий, где приобретает или подтверждает свое эмпирическое содержание современность, проступают менее очевидные структуры – порядок в собственном смысле слова. Некоторые из этих структур еще не обладают собственной понятийной формой, которую им, возможно, предстоит получить в будущем. Иные, напротив, предстают результатом осуществления проетных форм – результатом, который всегда расходится с проектом, хотя никогда не разрывает с ним окончательно, имея его своим регулятивом, ориентиром или, по меньшей мере, требованием безопасности.
Не является ли большинство очевидных для нас форм актуального порядка воплощением проекта или серии связанных между собой проектов? Это было бы слишком сильным утверждением в платоновском духе. Не способны ли мы видеть порядок вместо констелляции случайностей именно потому, что реальность отвечает заранее введенной понятийной разметке? Целый ряд исследователей, в том числе далеких от истории понятий, отвечают на этот вопрос утвердительно[30]. Проблема эмпирического разрыва проекта с реальностью, т. е. анализ отношений, в которые вступают между собой смысловые и силовые порядки, – один из учредительных моментов социологического исследования. Он присутствует и в этом разделе книги, и в книге в целом. Однако эмпирические рассеивания на границах и стыках символического порядка – не главный ее предмет. Я предлагаю эскиз работы по установлению тех исходных границ и делений, которые в качестве ориентиров и регулятивов направляют производство реальности. Вернее, ту ее часть, которая не предшествует проекту, а включена в создание проекта или следует за ним. Аргумент в пользу такого подхода состоит в том, что генеалогия актуального порядка еще недостаточно ясна и изучена даже в своей проектно-нормативной части. И первой задачей в этих условиях становится предварительное прояснение и систематизация тех предпосланных форм, в которых мы, нередко сами того не замечая, мыслим реальность своего общества и строим планы в ее отношении.
I. Структура проекта: «средний класс» для «демократии»
В ряду таких понятий-проектов особое место принадлежит понятию «демократия». Имеется немного политических универсалий, настолько отчетливо соединяющих в себе логики торжественного доктринального перформатива и будничной процедурной констатации. Вероятно, ранее таким свойством обладал «научно-технический прогресс», перипетиям которого посвящены две другие главы этой книги. В последние десятилетия циклы политической борьбы и синхронизированной с ними политической журналистики изобилуют возвратами к значению понятия «демократия» с целью пересмотреть и переприсвоить его в интересах фракций-победителей. Квалификация любого политического режима, который должен определяться по отношению к демократии, отражает сегодня господствующий характер этой универсалии, т. е. ее неустранимость из политических классификаций. Гибридные конструкции, подобные «суверенной демократии», которые используются во всем мире далеко за пределами России, служат прекрасной тому иллюстрацией: от «исламских демократий» Ближнего Востока до критикуемых проектов «ограниченной демократии» во Франции. Однако без понятий-посредников, которые контекстуально определяют смысл универсалии, невозможна ни ее семантическая перенастройка, ни предваряющая ее фиксация особого места и ценности в сетке политических категорий. Эксплуатируемое предельно активно, а потому неуловимо текучее в публичной речи понятие «демократия» должно быть оснащено менее броской прагматической «изнанкой», благодаря которой заинтересованные манипуляции над ним могут быть упорядочены, а само оно может быть ограждено от чрезмерной девальвации.
В господствующем сегодня экономическом способе определять социальный мир, как и во всем корпусе высказываний об экономике и по экономическим вопросам, таким понятием-посредником служит «[частная] собственность». В России 1990-х годов она тесно увязывается с успехом демократических и рыночных реформ и с этого момента утверждается в центре сетки политических и социальных категорий. Егор Гайдар, один из ключевых проектировщиков нового экономического и политического порядка, называет «уникальные проблемы, которых, пожалуй, не было у других стран», относя к ним «формирование среднего класса, осознание обществом и государством идеи легитимности частной собственности»[31]. Тремя веками ранее интеллектуальная и политическая работа с этим понятием в некоторых европейских контекстах приводит к признанию собственности предварительным условием личности[32]. Не вполне очевидное следствие такой работы в российских 1990-х – ее перенос в контекст борьбы с «пережитками» социализма: частная собственность признается спасительной против государственного «иждивенчества», производящей на свет нового «хозяина» (страны, земли, дома) по факту одного только юридического оформления[33].
Следуя экономической линии в генеалогии российской демократии, можно предположить, что она ведет нас к таким социальным категориям, как «предприниматели» или даже «богатые». Однако это допущение будет неверным. Контекст универсалий, которые занимают центральное место в категориальной сетке, демонстрирует большую семантическую и историческую вариативность. То же развернутое высказывание, которое признает собственность высшей добродетелью нового (проектируемого) порядка, может присваивать негативную ценность собственникам. Именно это мы в явном виде наблюдаем у некоторых авторов начала 1990-х годов, от наивных теоретиков социальной утопии после СССР до критиков-реалистов, которые видят опасность для демократии в укреплении «богатых», чьи ряды пополняются новыми предпринимателями и старыми директорами приватизируемых предприятий, в том числе когда собственность передается «государственно-капиталистическим концернам, номенклатурным государственным и партийным работникам, сросшимся с ними мафиози»[34]. В конце десятилетия связь крупной собственности с демократией в России подвергают сомнению даже либеральные центристы, которые склонны противопоставлять ее малой собственности и критиковать механику возникновения крупных состояний в условиях государственной коррупции[35].
Не став «священной», как того требовали радикальные экономисты-реформаторы и политически близкие им публицисты, через некоторое время «собственность» приобретает более скромный технический статус, закрепившись в административных, кадастровых, фискальных классификаторах. Однако и сегодня нормативное соединение демократии с частной собственностью воспроизводится в целой серии контекстов, вплоть до самых неожиданных. Например, в экзаменационных заданиях по обществоведению, которые играют не последнюю роль в политической социализации старшеклассников. Здесь мы сталкиваемся с триадой «собственности», «личности» и «демократии», которая отсылает нас к духу Джона Локка. При подготовке к экзаменам среди неоконченных суждений, к которым следует подобрать верное окончание, мы можем обнаружить и такое: «Экономические основы гражданского общества предполагают следующее…» Верный ответ гласит: «частная собственность выступает в качестве экономической основы независимости личности»[36]. В тех же подготовительных материалах к экзамену обоснованием связи гражданского общества и демократии служат слова Ральфа Дарендорфа: «Фактически гражданское общество – общий знаменатель демократии и эффективной рыночной экономики»[37]. Иными словами, даже если безусловность этой связи ставится под сомнение специалистами, еще долгое время она сохраняет обязательный характер при адресации речи к куда менее искушенной публике.
Оставив в стороне чистые нормативные контексты, мы легко обнаружим, что в политическом и академическом секторах «собственность» встречается в определении понятия «демократия» вместе с целым рядом других понятий-посредников. В начале 1990-х годов их связь, как в случае «собственности», может быть выражена эксплицитно и служит точкой приложения усилий со стороны социологов, экономистов, политологов и, не в последнюю очередь, журналистов. Примеры артикулированной экспертной критики крупной собственности дают нам подсказку в поисках менее двусмысленного понятия-посредника среди социальных категорий. Учитывая, что «богатые» могут нести угрозу для нового порядка, а «бедные» дважды стигматизированы своей неудачливостью и «иждивенческой» связью с советским режимом, авторы целого ряда текстов прочно ассоциируют успех демократии с теми, кто в их глазах олицетворяет спасительную середину социальных иерархий. В двух поворотных точках истории нового российского порядка, в начале 1990-х и в начале 2010-х годов, социальные гарантии «демократии» встречаются в плотной связке с понятием «средний класс». Согласно серийно тиражируемому определению, «в странах с развитой рыночной экономикой и демократическим политическим строем [средний класс]… выполняет ряд функций, важнейшей из которых является функция социального “стабилизатора” общества»[38]. С существованием, активностью и численностью этой социальной категории в различных сегментах публичной речи связывается успех «демократической модернизации общества», поддержание «демократических ценностей», демократизация политического режима.
Русский XIX век: географическая граница как смысловая
До любого детального анализа высказываний 1990-х годов о среднем классе следует уточнить происхождение того понятийного конструктора, который в них задействован. Прежде всего имеют ли они связь с дореволюционной российской историей понятия? Историк Михаил Велижев возводит ее к сочинению Сергея Уварова[39], написанному по-французски, где «средний класс» отождествляется с «третьим сословием» как моральной и политической силой. Такой смысл во многом обязан выборочному заимствованию французских интеллектуальных образцов, которые не закрепляются в русских понятийных соответствиях. Спорадический перенос, который продолжается в более поздних публикациях, написанных уже по-русски, в середине XIX в. инкапсулирует понятие во французском контексте. С некоторыми оговорками это справедливо для всей доминирующей линии российской политической и социальной мысли, на преемственность с которой порой претендует академическое и журналистское высказывание 1990-х. Например, в «Очерках вопросов практической философии» Петра Лаврова (1859) понятие «средний класс» употребляется всего один раз – в переводе цитаты французского автора. В «Письмах из Франции и Италии» Александра Герцена (1847–1852) «среднего класса» нет, но симптоматично используется понятие «классы»: в контексте европейских событий. В его же сборнике «Былое и думы» (1868), где речь идет о российских реалиях, «классы» либо отсутствуют, либо прямо отождествляются с «сословиями»[40].
Для рубежного периода начала XX в. также не характерен особый интерес к «среднему классу». В «Общем ходе всемирной истории» Николая Кареева (1903), где предложен эскиз социальной иерархии, встречаются «имущие классы» и даже «культурный класс»; но этим трансисторическая модель социальной структуры ограничивается, явственно тяготея к образцам европейского Старого порядка. «Средний класс» не встречается ни в одном из текстов сборника «Вехи» (1909) – в отличие от основополагающего «образованного класса» интеллигенции, которому присвоена высокая проектная ценность. Интерес к «демократическому движению» и «торжеству эгалитаризма» у Питирима Сорокина в «Преступлении и каре» (1914)[41] не притягивает в тот же текст «средний класс»: понятие появляется в трудах социолога уже в американский период. То есть даже в работе молодого ученого-прогрессиста, хронологически близкой к революции 1917 г., «средний класс» не становится понятием-посредником «демократии» и «эгалитаризма».
Важное исключение из этой системы умолчаний составляет, на первый взгляд, радикальная критическая ветвь, представленная Николаем Чернышевским и русскими марксистами. В «Капитале и труде» Чернышевского (1859) мы находим «средний класс» в значении, близком к французской «буржуазии»: это «банкиры, купцы и мануфактуристы», а также «антрепренеры… заводчики и фермеры». Более того, здесь категория получает некоторую проектную ценность. Расположенный между «высшим классом» и «простым народом», «средний класс еще не совершенно уничтожил всякую самобытность в высшем сословии и не совершенно поглотил его в себе… с каждым годом во всех странах средний класс торжествует экономические победы и часто наносит политические поражения своему сопернику»[42]. Европейское сходство оказывается неслучайным: как и во многих других случаях, речь идет не о России; контекст употребления понятия ограничен авторским разбором английской политэкономической теории. Тот же принцип управляет появлением «среднего класса» в небольших текстах Георгия Плеханова «Столетие великой революции» (1889) или «Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории» (1895).
Не менее показательны в этом отношении тексты Владимира Ленина. В работе «Развитие капитализма в России» (1899) среди социальных категорий, вовлеченных в становление нового экономического порядка при распаде традиционного крестьянского уклада, он упоминает «новые общественные классы, по необходимости стремящиеся к связи, к объединению, к активному участию во всей экономической (и не одной экономической) жизни государства и всего мира». Такой социальный тип ассоциируется с промежуточной категорией фабричного крестьянина, который представляет собой «особый класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, отличающийся от него другим строем жизни, другим строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей, как материальных, так и духовных». Однако «особый класс» постоянно ускользает от окончательного превращения в понятие, несмотря на то что, наряду с «классом рабочих» и «буржуазией», в итоговую социальную типологию автор вводит такие менее очевидные классовые категории, как «зажиточные мелкие хозяева» и «бедные мелкие хозяева»[43].
Отдельную категорию текстов составляют труды исследователей, активно оперирующих материалом большой истории. К их числу относится обширный историко-правовой труд Бориса Чичерина «Курс государственной науки» (1894), где вводится понятие «средние классы». Более того, оно представлено в целом ряде ключевых проектных контекстов: «посредствующим звеном между богатыми и бедными может быть только средний класс», «за редкими исключениями, научное и литературное движение исходит от средних классов», «средние классы… не имеют ни времени, ни охоты посвящать себя общественной деятельности», при этом «преимущественно перед всеми другими, являются представителями общего права»[44]. Особенность текста состоит в том, что в общей историософской схеме, предложенной на его страницах, не проводится различий между обществами и географическими регионами, т. е. дана история человечества. При этом в культурных и политических отсылках неизменно доминируют имена европейских деятелей, что по умолчанию сообщает истории мира очевидный европоцентризм. Сходная логика характерна уже для более ранних исторических работ. В трудах Николая Устрялова (1837–1841), Тимофея Грановского (1849–1850), где вводятся «средние классы», история России помещена в контекст европейской истории. И именно в этой сравнительной перспективе новое понятие получает смысл, прямо отсылая к эталонной структуре европейских обществ[45].
В плотно насыщенном социальными категориями исследовании «Экономический строй России» исторического социолога Максима Ковалевского (1900)[46] мы обнаруживаем целую серию социальных понятий, отношения и соответствия между которыми, впрочем, не прояснены: «низшие классы», «ремесленники», «буржуазия», «крестьяне», «сельская буржуазия», «крупная городская буржуазия», «капиталисты», «дворяне», «духовенство», «промышленный и торговый класс», «торговое сословие», «коммерсанты», «предприниматели», «рабочие», «мещане», «мелкое сословие» и даже «сельское и городское среднее сословие» или просто «среднее сословие». Последнее контекстуально наиболее близко к «среднему классу»: слой собственников, не принадлежащий ни к дворянству или духовенству, ни к «низшим классам». Однако именно в этом тексте понятие не получает никакого проектного смысла, т. е. не связывается с прогрессом, демократией и т. д., и растворяется в череде синонимов и замен. В другом труде Ковалевский использует «классы» и «сословия» как полные синонимы, в том числе когда говорит о «среднем» или «третьем»: «Что касается третьего сословия, состоявшего из городских и сельских обывателей, то оно пользовалось единственной привилегией – платить налоги, от которых высшие классы были освобождены»[47]. В целом сравнительные или историософские работы историков, вероятно, играют кардинальную роль в переносе классовых моделей в российский публичный оборот. Однако даже если в таком переносе задействованы «средние классы», понятие сохраняет плотную связь с европейским миром и исчезает при устранении этой точки отсчета.
Таким образом, во всем корпусе текстов, не исключая марксистские, понятие «среднего класса» остается отчетливо экстерриториальным. Оно фиксирует опыт европейского мира и четко маркирует границу между ним и Россией[48]. Учитывая показательное отсутствие у понятия какой-либо символической ценности, неразрывно связанное с его крайне спорадическим употреблением, мы можем сделать важный вывод. Даже в тех случаях, когда авторы пользуются, казалось бы, одним и тем же понятием «класс» применительно к обоим мирам, на каждый из них они проецируют принципиально разные социальные типологии. Очередной яркой иллюстрацией этому становится подробное исследование Василия Ключевского «История сословий в России» (1886), где «средний класс» отсутствует, а понятия «класс» и «сословие» используются как частично взаимозаменяемые: «Сословиями мы называем классы, на которые делится общество по правам и обязанностям»[49]. Говоря о классах как о разрядах внутри сословий, Ключевский пользуется понятием как инструментом административной и научной, а не социальной в современном ему смысле типологии. По фискальному и политическому положению он выделяет «вооруженный класс», «служилый класс», «класс бояр», «класс приказчиков», «класс богадельных людей», «свободные классы» и т. д.
Ограничиваясь в своем анализе периодом до первой половины XVIII в., Ключевский оставляет шанс для более современных альтернатив. Возможно, в интеллектуальной и политической понятийной сетке конца XIX в. формируется непрямой словарный эквивалент «среднего класса»? Не выполняют ли эту функцию «разночинцы», «третье сословие», «средний слой» или даже «третий элемент», появляющийся в публичном обороте на рубеже веков?
Некоторые из этих альтернатив обладают отчетливым проектным потенциалом, но попадают в первую очередь не в сетку социальных и экономических делений, а в рамки явственно политических оппозиций. Это относится к «третьему элементу», который становится обозначением для наемных земских служащих, участвующих в местных учреждениях наряду с правительством и земством. Такая узкая и, казалось бы, техническая категория признается изобретателем понятия «большой политической опасностью для существующего государственного строя»[50]. Десятилетием позже отдельные авторы связывают с ним надежды на смену политического строя в пользу конституционного (Там же). «Среднее сословие», на первый взгляд, лучше всего подходит на роль понятия-проекта, эквивалентного «среднему классу». Однако его смысл далек от привычного нам, который формируется в результате нескольких переопределений. Историческая ирония заключается уже в том, что иллюзорна сама традиционность сословного строя в России. Понятие «сословия», термина церковного происхождения, спроецированного на все общество, становится таким же новшеством для второй половины русского XVIII века, как «классы» – для второй половины XIX. В своем исследовании Ингрид Ширле показывает, что до 1760-х годов в России «сословий» попросту не существует, а социальные категории за пределами полюсов двухчастной модели недооформленны и очень подвижны. Изобретение «сословий», или «родов», в терминологии государственного акта, которым они учреждаются, – это проектный ответ на «нехватку третьего сословия», которая дисквалифицирует Россию перед лицом европейских обществ в век Просвещения[51]. В подобных обстоятельствах «третье сословие», безусловно, предстает ключевым понятием-проектом, хронологически углубляя ту перспективу, где даже в административной практике отсутствует устойчивая сетка социальных делений. Однако в проектном характере этого понятия предшествующего периода заключена и его проблематичность для последующего. В первую очередь оно отражает иерархию прав и привилегий при Старом порядке, нередко наследуемых. Тогда как понятие «класса» во второй половине XIX – начале XX в. отчетливо вписывается в один контекст с собственностью, личностью и политическим влиянием.
Менее официальный «средний слой» появляется в целом ряде контекстов этого периода, в том числе в примечаниях работы Ленина о развитии капитализма, где он поясняет его как «разночинцев, интеллигенцию» и квалифицирует следующим образом: «так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России»[52]. Казалось бы, единый контекст капитализма располагает высказывание к поиску соответствий между «средним слоем» разночинцев и европейским «средним классом» через экономическую и цивилизационную активность обоих. Однако, как и в «Вехах», оппозиция, полюс которой маркирует эта категория, в первую очередь – культурная и отчасти политическая. У Ленина она противопоставляется быту, «близкому к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с “добросовестным ребяческим развратом” “господ”»[53]. У Чернышевского «средний класс», «средний слой» и «среднее сословие» – простые синонимы в указанном контексте разбора английской политэкономии. Во введении к «Экономическому строю России», адресованному французской публике, Ковалевский говорит о «деревенском третьем сословии, стоящем за частную собственность», чьему возникновению хотели бы воспрепятствовать «горячие защитники русского “мира” и периодических переделов»[54]. Кажется, наконец, найдено искомое понятие-проект, которое контекстуально привязано к универсалии собственности, при этом будучи частью, во-первых, цивилизационной контроверзы, во-вторых, контекста глобального капитализма. Однако и это «сословие», которому лучше подходит квалификация класса, встроено автором в демонстрацию аналогии между современными ему российскими дебатами и европейской экономической мыслью XVI–XVII вв.
Остается ли «средний класс» призраком в пространстве русской публичной речи? Очевидно, что более точный поиск соответствий или разрывов с европейским словарем требует более детального исследования, начало которому уже положено. Но сейчас можно выдвинуть гипотезу, которая вряд ли будет всерьез поколеблена более тщательной проработкой текстов и контекстов русской социальной мысли XIX – начала XX в. Даже если в этом корпусе публичной речи в некоторый момент появляется «третий элемент», наделенный всеми признаками социальной категории-проекта, такой, например, как «интеллигенция», вся понятийная сетка и система оппозиций, в которую она встроена, блокирует ее отождествление со смысловым ядром «среднего класса» европейских обществ. И господствующие реформистские, и более радикальные революционные ожидания оставляют «средний класс» по ту сторону европейской границы и описывают российское общество и проецируемые на него изменения по преимуществу либо в сословных терминах, либо, в случае осознанного разрыва с ними – в бинарных противопоставлениях «имущих» и «неимущих», «образованных» и «темных». Как понятие-проект, а зачастую и как простое словарное вхождение, «средний класс» почти не представлен в интеллектуальной и политической речи второй половины русского XIX века.
Это означает, что данный период не может быть горизонтом заимствования для российской политической риторики 1990-х годов, социологической литературы и школьных учебников, где прочно обосновывается «средний класс». Новый тип речи об обществе, который заполняет публичную сцену в момент отказа от советского проекта, отсылает к совсем иным понятийным образцам, нежели сословные схемы Старой Европы или культурно-этический конструкт «интеллигенции». Их во многом формируют перевод и популяризация англоязычных текстов 1950–1960-х годов, где «средний класс» определяется через объективную структуру занятости, образования и доходов. Но как тогда в эти по видимости нейтральные описательные модели проникают нормативные и проектные смыслы, подобные «функции стабилизатора»? Прояснить эту двойную конструкцию 1990-х позволяет обращение к длительной международной истории понятия, из которой в различных комбинациях заимствуются элементы, не всегда связанные между собой изначально[55]. Особая роль принадлежит здесь французскому горизонту заимствований. Но в семантическом, как и в социальном измерении это совсем другая история.
Политическая предыстория «среднего класса»: собственность и умеренность[56]
Некоторые элементы понятийного конструктора «среднего класса» вводятся уже более полутора веков назад, иные дополняют и переопределяют их в послевоенные десятилетия XX в. Сделав несколько широких хронологических шагов в обратном направлении, мы без труда локализуем контекст, в котором «средний класс» обретает первоначальный смысл: французский XIX век, озабоченный угрозой очередной революции. Одним из первых, кто обнаруживает существование «среднего класса» и его политических добродетелей, обязанных собственности, становится Алексис де Токвиль в своем знаменитом труде «Демократия в Америке» (1835–1840)[57]. Как я уже указывал, некоторые исторические исследования возводят, если не сводят, категорию «среднего класса» к революционному «третьему сословию» Франции[58]. Попытка установить преемственность, безусловно, не беспочвенна в исторической ретроспективе и может иметь своим посредующим звеном понятия, подобные «классу разночинцев»[59]. Однако она полностью расходится со схемой конструирования самой категории в текстах XIX в., в отличие от только что рассмотренного русского XIX века. Труды Токвиля и более поздних авторов часто содержат отчетливое противопоставление между обществом, которое включает растущий «средний класс», и сословным порядком Старого Света. Иначе говоря, понятие «средний класс» в речи целого ряда французских политических мыслителей отмечает не политическую или социальную преемственность, а разрыв, причем разрыв двойной: с монархическим режимом, с одной стороны, и с революционным настроем (третьего сословия) – с другой. Этот разрыв становится первым элементом смысловой конструкции нового понятия-проекта.
В момент написания текста Токвилем режим демократии, как и само понятие, все еще предстает политической новинкой во Франции. Не меньшей неожиданностью оказывается общественное устройство, в котором «нет более расы бедняков… и расы богачей; люди ежедневно выбиваются из гущи народных масс и беспрестанно туда же возвращаются»[60]. Токвиль проводит блестящий сеанс показательного сравнения двух социальных порядков, вместе с образом трудолюбивой Аркадии вводя в оборот новые нормативные универсалии. В обществе без жесткого разделения на господ и слуг обширный средний класс отличает «упорное и цепкое чувство собственности» людей, «живущих в приятном достатке, равно далеком как от роскоши, так и от нищеты». Именно потому «в демократических обществах большинству граждан представляется не вполне ясным, что они могли бы приобрести в результате революции, но они ежеминутно так или иначе осознают, чего они могут из-за нее лишиться». Указывая на прямую связь между социальным спокойствием и численностью класса средних собственников, Токвиль прямо противопоставляет широкую гражданскую солидарность в Соединенных Штатах узкой внутрикорпоративной солидарности в европейских обществах, приглашая своего французского читателя распространить «сказанное… об одном классе на весь народ в целом», чтобы оценить преимущества демократии среднего класса[61].
В истории европейских дебатов невозможно обойти стороной английский контекст понятия. Из исследования Вармана Дрора следует, что и в британских интеллектуальных и политических дебатах «средний класс» получает новое звучание и возросшую символическую ценность именно при обсуждении итогов Французской революции. Причем происходит это раньше, чем в самой Франции, а именно, в течение двух-трех лет после 1789 г.[62] Английские авторы 1790-х годов занимают позицию в споре о причинах Французской революции в зависимости от своей политической чувствительности. В силу этого пространство высказываний содержит полярные оценки роли «среднего класса»: от указаний на то, что именно он стал виновником разрушения порядка (Эдмунд Берк), до сожалений, с которыми перекликается более поздний тезис Токвиля, о том, что причиной революции было отсутствие во Франции среднего класса, посредующего между «богатыми и бедными»[63]. В дискуссиях, проходящих в Британии 1790-х, как и позже во Франции, мы находим близкие указания на особую добродетельность среднего класса и средних сословий. Однако в отличие от французской риторики сдерживания революции, в английской прогрессистски настроенные авторы делают упор на стремление к свободе и противодействие тирании, которые возможны благодаря «образованности, достоинству, моральным принципам, правдивости» среднего класса, впрочем, без обращения к демократии как альтернативе тирании[64]. Иными словами, введение «среднего класса» в контекст Французской революции получает различный смысл во Франции и Англии, по крайней мере, для отдельных фракций авторов. Во Франции это понятие наделяется ценностью в надежде на предотвращение крайности революционного катаклизма, в Англии ряд авторов делают то же самое, рассчитывая предотвратить другую крайность – деспотическую монополию.
Сходная с Токвилем логика обнаруживается тремя десятилетиями позже в контексте, который не отсылает напрямую ни к демократии, ни к среднему классу. Однако он так же прочно связывает малую и среднюю собственность с будущим общества, движущегося по пути свободы и процветания. Такую формулу предлагает один из ключевых исторических деятелей, утверждающих республиканское правление во Франции. В 1874 г. Леон Гамбетта провозглашает: «Любая собственность, что создается – это гражданин, который рождается. Ибо собственность, которую нам представляют как врага, в наших глазах – это высший и подготовительный знак моральной и материальной эмансипации индивида»[65]. В республиканской традиции Франции эта линия отнюдь не маргинальна. Почти веком ранее Конституционная ассамблея включает право собственности в список прав человека, а Сент-Жюст объявляет: «Собственность патриотов священна»[66]. И хотя в данном случае не собственность определяет гражданина, а гражданин – собственность, Гамбетта лишь обращает этот революционный республиканизм вспять, придавая ему мирную форму: собственность делает гражданина возможным. Крайне соблазнительно видеть прямое структурное соответствие между двумя словарями, предложенными в двух различных политических контекстах – «демократия – средний класс» и «республика – гражданин-собственник». Вероятно, более основательный анализ неразрывно интеллектуальной и политической истории Франции позволит обнаружить те связи и посредующие звенья, которые делают это соответствие неслучайным. Уже при точечных сопоставлениях можно обнаружить некоторые смысловые параллели поверх политических расхождений.
Так, почти одновременно с публикацией «Демократии в Америке» появляются тексты, посвященные средним классам в самой Франции. К их числу относится книга Эдуарда Аллеца «О новой демократии, или о нравах и могуществе средних классов во Франции»[67]. Последние признаются современным явлением, «поскольку в Античности эти самые классы не существовали. Сыны науки и труда, они родились вчера и приведут в мир новую форму правления – ту, что я называю новой демократией или, еще лучше, поликратией [правлением множества]»[68]. Здесь «средние классы» также маркируют разрыв между двумя историческими эпохами. Однако попытка говорить о современном автору явлении, парадоксальным образом и в отличие от Токвиля, замыкается не на опыт социальных неравенств и императив их смягчения, а на сословные категории Старого порядка, где «средний класс» прямо отождествляется с «третьим сословием»: «Существование и величие у разных наций этого сословия, которое зовется третьим и которое, примыкая к аристократии в просвещенности и богатстве, к демократии – по рождению и численности, достаточно сильны, чтобы заместить первую и удовлетворить вторую»[69]. Объяснение этому – политическая позиция автора. В противоположность Гамбетта, который видит в средней частной собственности инструмент освобождения индивида и утверждение Республики, Аллец усматривает в ней же опору для монархии. Однако политическое расхождение не опровергает логики двойного разрыва, ведущего к стабильности: в обоих случаях средний собственник признается опорой режима, не расположенной к его революционной дезорганизации.
И все же новаторские политические и социальные понятия, которые мы встречаем у Токвиля, наиболее последовательно переносятся на местные реалии не там, где индивидуальная свобода гражданина усматривается в его обеспеченности, как и не там, где таковая призвана благоприятствовать реставрации короны, а там, где она снова сталкивается с соблазнами и угрозами дестабилизации порядка – на сей раз со стороны социализма и анархизма. В одной из брошюр, посвященной вопросу средних классов и демократии во Франции (1868), анонимный автор определяет средние классы как слой рабочих, расположенный между двумя крайностями: высшим слоем рабочих-идеологов социализма и низшим слоем «невежественной и грубой черни… бессознательного врага прогресса и свободы труда, не признающей иного закона, кроме силы. Варварский элемент, который, как хотелось бы верить, растворился в современной цивилизации, если [недавние] события… не являли бы его вечно готовым к повторному участию в промышленных кризисах или уличных беспорядках»[70]. Между двумя крайностями, каждая из которых по-своему разрушительна, средний класс наделяется такими восхваляемыми чертами, как «наиболее рассудительный, сильнее прочих привязанный к своим обязанностям, обзаводящийся семьей и намеренный экономить, безразличный к политическим вопросам, которые не затрагивают напрямую его интересов… В конечном счете, порядочное население, которое завоевывается добрым примером» (Ibid.). Такая конструкция имеет осязаемые сходства с доктриной «золотой середины» (juste milieu) начала 1830-х годов, только избавленной от монархической апологетики.
В тот момент «демократия» все еще предстает спорным понятием для целого ряда могущественных политических фракций, и автор берет на себя задачу доказать, что этот режим не следует отождествлять с простым «подавлением просвещенных классов грубой силой численности»[71]. Надежду на созидательную роль демократии, с характерным для нее расширением круга участия в общественных приобретениях, он связывает, помимо прочего, с «постепенным исчезновением пролетариата, этой последней разновидности крепостничества» и «браком по расчету между буржуазией и народом». При этом, напоминает автор, «не позволим себе забыть, что демократия должна иметь иную цель, нежели заместить деспотизм верхов тиранией низов, и что над верховенством народа есть верховенство разума, справедливости и права»[72].
Более нам привычную и исторически устойчивую генеалогию «средних классов» предлагает в тот же период прямой политический оппонент анонимного автора: исследователь, анархист и парламентарий Пьер Жозеф Прудон. В одном из последних сочинений, опубликованном сразу после его смерти и посвященном рабочему классу (1865), Прудон связывает средний класс с идеалом единой гражданской нации, который сближается с картиной американского общества у Токвиля: «Что в первую очередь отличало французскую нацию по выходе из горнила Революции и что делало ее на протяжении почти полувека образцовой нацией – это тот дух равенства, то стремление к уравниванию, которые, казалось еще недавно, растворят всю капиталистическую аристократию и всех наемных тружеников в едином классе, который мы со всей справедливостью назвали средним классом»[73]. Как и у Аллеца, рождение «среднего класса» здесь датировано новой эпохой. Так же как анонимный автор, Прудон находит, что для «рабочей демократии и среднего класса их спасение – в их альянсе». Противопоставляя этот идеал усилению «капиталистической и промышленной верхушки [fodalit]» и ряду экономических сдвигов, в результате которых средний класс был «в конечном счете замещен бюрократией, высшей буржуазией и наемными тружениками», Прудон констатирует «упадок среднего класса»[74], как если бы этот класс уже существовал во французском обществе середины XIX в.
Тут мы без труда обнаруживаем противоречие между Токвилем, который не наблюдает средних классов в Европе своего времени, и Прудоном, который четверть века спустя признает время Токвиля периодом расцвета французского среднего класса. Эмпирическая двусмысленность этой категории, которую Токвиль связывает с лучшим будущим Франции и которая у Прудона, «казалось», обретала реальность, но так ее и не обрела, указывает на ее характер понятия-проекта во французском XIX веке. Нормативность высказывания Прудона подкрепляется целым рядом свойств текста, включая парафизическую метафорику «среднего», в данном случае применимую к человеческим возможностям, но часто встречающуюся в позднейшей апологии среднего класса: «Как и в термометре, и для разума, и для силы, у нас имеются крайние значения и среднее»[75]. В целом при всех политических расхождениях французские авторы 1860-х годов сходятся в нормативном определении среднего класса как категории, способной воплотить в себе преимущества общественного прогресса.
Что не менее любопытно, признание инструментального характера демократии среднего класса в утверждении прогресса, верховенства права, «брака по расчету» между антагонистическими социальными силами, который развитие демократических институций ведет к «исцелению от невежества, нищеты и деморализации неимущих классов»[76], обнаруживает удивительное созвучие с куда более поздними, в частности, российскими образцами социальной риторики. Последняя предписывает образованным классам с растущим благосостоянием «исполнить важнейшую для обеспечения прогрессивного развития функцию социального стабилизатора, смягчающего силовые действия классов-оппонентов, препятствующего лобовым столкновениям их политических представителей»[77]. Более чем веком позже политическая умеренность среднего класса во влиятельной публикации политолога Владимира Пантина (Умова) наделяется автоом той же ценностью перед лицом опасных крайностей, которую мы находим у французского анонима 1860-х: «Он не приемлет и никогда не согласится с приоритетом каких-либо целей, направленных на удовлетворение классовых – буржуазных или рабочих – интересов; в этом смысле он скорее ориентируется на интересы нации-государства. Средний класс поддерживает либерализм, он содействует модернизаторской линии, причем, будучи прогрессистом по натуре, отвергает эгалитаризм и разумно относится к трудовому вкладу, ценности и компетенции каждого индивида»[78]. Это те элементы понятийного конструктора, которые присутствуют в семантическом поле французского понятия XIX в. и реактивируются при повторном обращении к нему в совсем ином политическом контексте.
Между этими двумя типами высказывания: французским конца 1860-х (и даже токвилевским 1840 г.) и российским начала 1990-х – отсутствует прямая генетическая связь[79]. Более уместно говорить о сходстве способов определять ключевое понятие при структурном сходстве условий, в которых формируется нормативное высказывание. Когда искомая категория еще отсутствует в общепринятой сетке социальных делений, при описании среднего класса доминирует нормативный универсалистский язык гармонизации общественного целого – язык, носителем которого поначалу выступает образованный политический истеблишмент в предреспубликанской Франции и академический истеблишмент в послесоветской России. Однако проектная речь о несуществующей (в национальном контексте) универсалии воспроизводится лишь до момента, пока ее референтом служит желательное будущее. В период, когда проект обретает реальность, характер публичного высказывания о нем кардинально меняется.
Это хорошо демонстрирует последующая политическая история Франции, где в 1920–1930-х годах универсалистский словарь гармонической миссии средних классов сменяется партикуляристским словарем их кризиса. Мотивы «упадка среднего класса», угрозы его пролетаризации, в ряду прочих озвученные еще Прудоном, и даже его уничтожения становятся здесь центральными. Это происходит, когда умозрительная социальная конструкция, используемая в интеллектуальных проектах, уступает место политически мобилизованной группе, публично и широко выступающей от собственного имени. Ее представители, прямо утверждающие свою принадлежность к средним классам, вовсе не пользуются риторикой «процветания» и говорят лишь о необходимой «защите средних классов»[80]. Причем сами они уже не принадлежат к высшему политическому и академическому истеблишменту. Это та самая «Франция лавочников, ремесленников, мелких земельных собственников», которая активно сопротивляется введению социальной защиты для наемных работников и реорганизации всей социальной структуры вокруг наемного труда[81]. В их речи, наряду с мотивами «кризиса среднего класса», мобилизация сопровождается открытой критикой той высокой символической ценности, которую государство присваивает «рабочему» под давлением проф союзов наемных работников.
Оценить, кто на пике мобилизации 1930-х годов говорит о среднем классе и от его лица во Франции, можно несколькими способами[82]. Один из наиболее простых заключается в том, чтобы обратиться к спискам представителей Всеобщей конфедерации профсоюзов средних классов, учрежденной в конце 1930-х и производящей наиболее заметные публичные высказывания по теме. В исполнительное бюро Конфедерации входят представители от профсоюзов сельскохозяйственников, ремесленников (таксисты), управленцев, торговли (мясники), малой и средней промышленности (производители и распространители газа и электричества), либеральных профессий (медики)[83]. Рамочные категории «труд» и «капитал», как и тезис об их глобальном столкновении, сохраняются в публичной речи, производимой этим органом. Однако свое определение средний класс, как и его беды, получают через куда более материальные понятия-посредники, такие как «покупательная способность», «доходы», «сбережения», «профессия», «закупочные цены» или «пролетаризация», «инфляция» (Ibid.).
Новый тип публичной речи содержит важный элемент, который отсутствует в более ранних моделях высказывания. Это прямая адресация средних классов к государству, на которое политические представители из Конфедерации возлагают ответственность за проблемы, такие как губительные налоги, инфляция или цены на зерно, но также надежду на разумную политику поддержания средних классов, в частности, снижение налогового бремени. Исторически «средние классы» становятся предметом интереса отдельных фракций государственных администраторов и целых регионов уже на рубеже веков. Среди прочего, работа по конструированию этой категории происходит в рамках международных конгрессов, первый из которых проходит в бельгийском городе Льеже в 1903 г.[84] Конгрессы проводятся под эгидой Международного института изучения проблем средних классов, со штаб-квартирой в Брюсселе, который не имеет государственного или межгосударственного статуса. Однако в их работе и связанной с Институтом Ассоциации защиты средних классов (учреждена в 1907 г.) принимают участие министры, региональные чиновники и депутаты разных стран, выступая в стратегическом альянсе с предпринимателями и исследователями по вопросам налогообложения, в частности, пропаганды опасности прогрессивного налога[85], торговли, образования и т. д. О важном значении, которое конгрессам придают принимающие их регионы, позволяют судить обширные списки приветственных выступлений, которые адресуют участникам высшие городские и государственные администраторы. Со своей стороны участники конгрессов могут прямо адресовать государству призывы «создавать и развивать в торговле, промышленности и сельском хозяйстве независимые и здоровые средние классы»[86].
Но практический диалог с государственными органами начинается, когда «средние классы» превращаются из кабинетной категории, или класса на бумаге, пользуясь термином Пьера Бурдье, в реальность, заявляющую о себе в боевом листке и на страницах широкой прессы, в парламентском лобби и иных формах политической мобилизации, вплоть до уличных шествий. Пик мобилизации приходится на период, когда в ответ на неблагоприятную экономическую, в частности налоговую, конъюнктуру активизируются ранее созданные ассоциации и учреждается упомянутая Всеобщая конфедерация. Социологический анализ, который следует за этим пиком, с одной стороны, утверждает трансисторическое и транснациональное существование средних классов[87], с другой – очевидную «всем» проблему их текущего положения, корни которой подвергнуты разбору[88]. Интеллектуальная характеристика роли и функций среднего класса, которая не предшествует его политическому оформлению, а следует за ним, во многом перехватывает кризисную самодиагностику его политических представителей, одновременно с тем заостряя вопрос о строгих критериях и ясных, вплоть до статистических, границах в определении этой категории. Такой тип академического высказывания о среднем классе дополняет парадигму, намеченную его политическим самоописанием. Отныне речь идет не об общественных «силах» или «крайностях»[89], между которыми стиснут искомый класс, но о конгломерате профессиональных позиций, его месте в социальной структуре и национальной экономике. Все вместе это призвано очертить социальную группу, чье положение диктуется как отношениями с другими классами, так и государственной политикой.
Интернационализация «среднего класса»: от стабильности до платежеспособности
Однако и такой способ конца 1930-х годов определять средний класс не транслируется напрямую в более поздние образцы нормативной и экспертной речи. Следующим ключевым моментом в конструировании этой универсалии становится ее изъятие из национальной истории прогресса и помещение в синхронную перспективу международных сравнений, центром которой служит стабильность демократического правления. Это происходит в период холодной войны и в значительной мере определяется политическим противостоянием двух систем. Неудивительно, что решающая роль в создании нового нормативного языка международных сравнений на сей раз принадлежит не французским политическим мыслителям, а американским экспертным центрам. Любой список стран, подлежащих сравнению и оценке, исходно разделяется на две категории – демократии и диктатуры – с различным числом промежуточных форм и вариаций. Именно в контексте политической поляризации режимов категория среднего класса обретает смысл, который, среди прочих, наследует российская «переходная» риторика 1990-х годов. По своим функциям в системе официальной речи эта категория, вероятно, представляет собой зеркальный инвариант «научного планирования» – понятия, которое регулярно используется как diferentia specif ca «социализма» в позднесоветской официальной риторике[90]. Иными словами, с рядом оговорок, научная организация общества так же отличает социализм от капитализма в советской риторике, как состоятельный средний класс – демократию от диктатуры в риторике американской. Во втором случае лишь воспроизведение образцов «устойчивых демократий», включая их социальную структуру, способно гарантировать развитие и процветание обществ. Определение прогресса XIX в., ассоциируемое с ростом участия в общественных приобретениях, не отменяется здесь окончательно. Новая сетка категорий «просто» превращает его в мировой политический процесс, где демократии вкупе с экономическим ростом присваивается собственная и высшая ценность.
Одним из первых развернутых высказываний, с которым вводится новая категориальная сетка, становится статья о социальных условиях демократии американского политолога и внимательного читателя Токвиля, Сеймура Мартина Липсета (1959)[91]. С момента публикации она удерживается в центре плотного кольца ссылок и интерпретаций, которое распространяется далеко за академические границы и определяет характер международного политического комментария в крупных СМИ. Ее ключевой тезис замыкает мировой успех демократии на устойчивый рост благосостояния и образования, который воплощен в образованном и благополучном среднем классе: «Недавние события, включая свержение ряда диктатур, во многом отражают последствия роста среднего класса, роста благосостояния и образования» (p. 102). Специфика текста состоит в том, что формулы, известные нам по более поздним образцам нормативной риторики, предложены здесь в сопровождении фактических иллюстраций. Именно у Липсета мы находим тезис о стабилизирующей политической роли среднего класса: «Обширный средний класс играет смягчающую роль в обуздании конфликтов, поскольку он способен поощрять умеренные и демократические партии и наказывать [голосованием] экстремистские группы» (p. 83). В духе Токвиля «ценности среднего класса» отождествляются с универсальной национальной культурой, которой противостоит «замкнутая культура низшего класса» (Ibid.). А связь между благосостоянием и демократией вписывается в столь привычную нам сегодня геометрическую образность: «Увеличивающееся благосостояние… связано с демократией причинно-следственным отношением через… политическую роль среднего класса, поскольку меняет формулу социальной стратификации, которая смещается от вытянутой пирамиды, с низшим классом в виде широкого основания, к ромбу с растущим средним классом» (Ibid.)[92].
Статья, которая апеллирует к примеру десятков стран, становится одним из первых эталонов той доктрины, которая на протяжении следующих 20 лет доминирует в секторе международной экспертизы – теории модернизации[93]. Операция сравнения в ее интеллектуальном и понятийном поле задает неустранимую связь между ранее независимыми темообразующими категориями: политического прогресса (развития), торжествующей Современности и парламентской демократии. Предлагаемая во множестве версий и вариантов, эта доктрина не ограничивается университетскими журналами и монографиями: она весомо представлена в стенах международных институций, включая финансовые, которые занимаются продвижением демократии в мире. Через серию публичных событий, программ, стипендий они содействуют активному трансферу академических разработок в ведущие СМИ. Вплоть до сегодняшнего дня такие центры влияния могут придерживаться того тезиса, что внешняя политика, направленная на продвижение и поддержание среднего класса в мире, куда более действенна для долговременной безопасности и процветания США, чем масштабное военное присутствие страны на международной сцене[94].
При этом будет большим преувеличением утверждать, что категория среднего класса служит неизменным центром речи, производимой различными экспертными центрами на протяжении всей этой экспансии. Скорее, можно наблюдать обратное: данная социальная категория относительно легко смещается к периферии «модернизационной» понятийной сетки, никогда не теряя связи с «собственностью» или «рынком», но уступая место нераздельно более абстрактным и символически весомым понятиям экспертного словаря, подобным «легитимности», «устойчивому росту», «политическим элитам» и ряду подобных. Именно они доминируют в схемах демократического транзита, которые впоследствии вводятся международными институциями и местными экспертами в публичный оборот самых разных «переходных» обществ, включая Россию начала 1990-х годов. Так, понятийную структуру своего рода «транзитологической библии» Линца и Степана, которая чуть позже резюмирует успехи и неудачи перехода к демократии в мире, составляют такие категории, как «рынок», «суверенное государство», «государственный аппарат», «бюрократические нормы», «гражданское общество», «свобода мнений», «верховенство закона», «электоральное состязание», даже «территории» и этнически определяемые «нации»[95]. «Средний класс» в этом списке параметров попросту отсутствует.
Схожий принцип определяет структуру экспертных докладов, выпускаемых Центром ОЭСР по сотрудничеству со странами с переходной экономикой. Они могут значительно различаться от региона к региону по своему понятийному словарю, при этом социальные категории в них отнюдь не доминируют, и в большинстве случаев категория «среднего класса» игнорируется. «Экономический обзор» 1995 г. по России вводит такие социально релевантные темы, как экономическая политика, развитие рынков, мобильность рынка труда, уровень жизни и социальная защита[96]. Но аналитические и статистические операции производятся здесь над категориями «населения» в целом, «секторами» занятости или географическими «регионами», напоминая этим позднесоветские классификаторы социальной структуры. «Средний класс», который в образцовых высказываниях, подобных работам Липсета, Баррингтона Мура[97] и ряда более поздних авторов, может признаваться мотором модернизационного сдвига, не упоминается вовсе. Немногочисленные доклады ОЭСР, которые полностью посвящены роли «среднего класса» в экономическом развитии, – это куда более позднее исследование «глобального среднего класса» в развивающихся странах (2010) или отчет о Латинской Америке как «регионе средних классов» (2011)[98]. Следует отметить, что именно 2000-е и начало 2010-х становятся периодом активной публичной эксплуатации темы «среднего класса» как глобального феномена международными экспертными центрами: наряду с ОЭСР к их числу относятся Всемирный банк, ООН, Фонд Карнеги и ряд других[99].
Впрочем, в международной конъюнктуре 1990-х годов имеются заметные исключения. Понятие «средний класс» не занимает здесь центр проектной активности, однако входит в кодифицированную официальную речь межгосударственных соглашений, где наделяется высокой символической ценностью. Важнейшим гравитационным центром, который выполняет одновременно осязаемую экономическую и символическую функцию в российском «переходе» 1990-х, выступают административные структуры «единой Европы». Европейский союз, который сам предстает материализованным понятием-проектом, к началу этого периода далеким от завершенной формы, по мере своей институциональной реализации действует как крайне активный агент влияния. Уже в 1990 г. евроинституции открывают программу поддержки рыночных преобразований в СССР, а в 1991 г. переучреждают ее как TACIS – программу «технической помощи» России и странам бывшего Советского Союза. В рамках программы финансируются институциональные реформы по «укоренению демократии и рыночной экономики»[100]. Формы активности амбициозно разнородны: от корректив модели государственного управления и переподготовки сотрудников Сбербанка до открытия нескольких экспериментальных пекарен вдалеке от столиц. Участие инстанций Европейского союза не ограничивается редизайном государственного аппарата и поддержкой пилотных экономических проектов. Одно из главных направлений – это европейская унификация категориальных систем СНГ: законодательства, национальной статистики, систем измерения. Эффекты влияния распространяются и за национальные границы, охватывая международные классификации и рейтинги. Именно структуры Евросоюза выступают источником признания России страной «с переходной экономикой» (1993)[101], как и ряда смежных квалификаций, которые переопределяют место страны в международных иерархиях.
Показателем прямого вклада проектной «единой Европы» в проектный российский «транзит» служит бюджет TACIS. В первые три года существования, с 1991 по 1993 г., он составляет 1,36 млрд экю[102], из них почти 500 млн – российская часть[103]. До 1998 г. на всех территориях бывшего СССР эта цифра вырастает втрое, почти до 3,8 млрд евро, из них на российские проекты в 1991–1998 гг. выделено 1,2 млрд евро[104]. Чтобы оценить масштаб этих европейских вложений, следует сравнить их с показателями российского государственного бюджета. Так, в кризисном 1998 г. эти расходы, если оценивать их по нижней границе, составляют примерный эквивалент государственного финансирования всего общего образования или государственных трат на железные дороги[105].
Каков проектный словарь европейского участия в российских институциональных и категориальных сдвигах? В учредительных документах и информационных брошюрах, выпускаемых под эгидой TACIS, мы снова не обнаруживаем прямого обращения к «среднему классу». В этот период сама модель «единой Европы» операционализируется в универсалиях «граждане», «жители», а также в отдельных профессиональных и образовательных категориях («работники», «студенты», «преподаватели», «свободные профессии» и т. д.), которые вписаны в риторику экономических свобод и кооперации[106]. Точно так же программа, обращенная к обществам бывшего Советского Союза, оперирует понятиями-проектами, которые редко нарушают тематические границы экономики: «экономический рост», «рыночная экономика», «развитие торговли и инвестиций», «приватизация», «сотрудничество в области экономики», «партнерство», «[транспортная и энергетическая] инфраструктура», «благоприятный климат», «экономическая модернизация», «политическая стабильность»[107]. Однако в 1997 г. российское и европейское правительства ратифицируют Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное уже в 1994 г., за которым следует очень интересная по своей терминологии европейская резолюция о будущих отношениях с Россией (1998). В ней мы находим красноречивую артикуляцию связи между политической стабильностью, свободами и рынком: «Стабильность на европейском континенте может быть достигнута в силу успеха экономических и демократических реформ в Российской Федерации, вместе с установлением в ней верховенства права и социальной сплоченности» или «Европейский Союз может сыграть позитивную роль в России, открывая ее рынки и поддерживая свободы». Наряду с этим, среди приоритетов деятельности Европейского союза в России, в документе названа «консолидация процесса демократизации в российском обществе посредством стимулирования центральной роли гражданского общества и появления среднего класса с целью предоставления прочной основы для демократии, верховенства права и уважения прав человека»[108]. Проектная роль, на которую здесь претендует европейская администрация, по своей амбиции сравнима с перспективными планами советского правительства, куда еще накануне исчезновения СССР включается «сбалансированное развитие процессов социальной интеграции и социальной дифференциации в обществе»[109]. Европейская резолюция становится, по сути, возвратом к понятийной модели Липсета на законодательном уровне.
Подобный пример – не единственный в официальном европейском корпусе речи. Двумя годами ранее, в записке о сотрудничестве Евросоюза с ЮАР, мы обнаруживаем схожую схему в контексте «открытия рынков» и «преодоления последствий дискриминации»: «Сотрудничество с малыми и средними предприятиями… открывает, при поддержке правительства, новые, простые и быстрые возможности для создания рабочих мест. Такое сотрудничество, помимо прочего, способствует созданию чернокожего среднего класса»[110]. Озабоченность последствиями экономического удара конца 1990-х годов по «городскому среднему классу» в контексте «устойчивого развития», «стабильности страны» и «укрепления демократии» выражена в другом европейском документе, на сей раз описывающем ситуацию в Индонезии (2000)[111]. Вопрос о том, получает ли эта серия официальных высказываний, и в особенности помощь в «появлении среднего класса» в России, программное и финансовое воплощение, нуждается в отдельном исследовании. Однако уже само присутствие проектной категории в эпицентре институционального транзита указывает нам на ее высокую языковую и социальную ценность, характерную для этого периода.
На следующем хронологическом шаге, в конце 2000-х годов, мы снова обнаруживаем понятие «средний класс» в европейском официальном корпусе речи, обращенном к России. Но здесь оно утрачивает прежнюю доктринальную связь с «демократией». В документе, пересматривающем отношения Европейского союза с Россией десятью годами позже (2008), словарь экономической прибыли доминирует над всеми прочими, а понятие «демократии» не употребляется вовсе[112]. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007)[113]. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007)[114]. Подобный разрыв в понятийной сетке хорошо иллюстрирует изменения, происходящие в структуре самого органа, Европейской комиссии, которая полутора десятилетиями ранее выступала одним из источников радикального сдвига в системе российских политических категорий. Новые отношения между понятиями в официальной речи второй половины 2000-х годов объективируют новую силовую асимметрию, возникающую как между центрами политической и экономической власти в Европейском союзе, так и между европейским и российским государственными аппаратами, все чаще захваченными неолиберальным словарем коммерции, который приносят с собой профессионалы международной экспертизы.
Таким образом, французских политических мыслителей и американские экспертные центры в последние десятилетия дополняет еще один кардинальный источник речи о среднем классе – институты евробюрократии и, более широко, надгосударственные проектные центры. Именно в их стенах понятие «средний класс» парадоксальным образом поначалу усиливает, а затем теряет проектную связь с «демократией». Они редко производят смысловой разрыв сами, чаще заимствуя готовые наработки у коммерчески ориентированных экспертных центров и групп. При этом именно они выступают кардинально значимым местом институциализации нового смысла. Этот момент становится очередным сдвигом в сетке политических категорий по отношению к той конструкции XIX в., которая делала умеренность добродетелью общественного прогресса. Смещение не окончательно, поскольку даже простой рост покупательной способности по-прежнему фигурирует в одних и тех же текстах с экономическим процветанием обществ, европейской культурой и правами человека[115]. При этом контекстуальное сведение с середины 2000-х годов политической свободы к емкости рынков и платежеспособному спросу фиксирует новый смысловой полюс в исторически растянутом и неоднородном континууме понятия. Сегодня любому способу думать и говорить о среднем классе оказывается предпослан ряд альтернатив – предпонятий, которые используются и комбинируются высказывающимися в зависимости от их культурных ресурсов и политической чувствительности. Я не останавливался специально на негативных смыслах «среднего класса», которые также присутствуют в публичной дискуссии по меньшей мере с 1970-х годов, в частности, в анализе успеха гитлеровского проекта[116]. Но, если нас интересует позитивный проектный смысл, эти альтернативы простираются от полюса в понимании среднего класса как ареволюционной, но прогрессивной силы, сдерживающей опасные крайности и властные асимметрии – т. е. как фактора цивилизации; до полюса, на котором средний класс определяется как политически индифферентный сегмент потребительских рынков, где показателем общественной силы служит не более чем покупательная способность.
II. Российский «средний класс»: энергия разрыва и рассеивания
В корпусе российской публичной речи 1990-х годов, как и в целом ряде политически схожих случаев, хронологическая дистанция, которая отделяет академические спекуляции и исследования от экспертной и журналистской вульгаты, минимальна. Экспансия «модернизационного» типа высказывания охватывает почти мгновенно и одновременно все секторы, и граница, разделяющая типы высказывания, изначально крайне зыбка. Этот эффект можно проследить по массиву публикаций в академической и широкой периодике, где соответствие между характером текста и местом публикации превращается в условность. Исторические исследования и публикации архивов сталинского периода находят место на страницах периодической печати: ежемесячных и еженедельных, вплоть до ежедневных изданий, таких как «Московские новости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» или даже «Медицинская газета» и «Строительная газета». В библиографических классификаторах и реферативных изданиях Академии наук появляются разделы «Философские проблемы перестройки»[117]. В социологических публикациях тематический маркер «проблемы перехода» начинает рутинно выполнять функцию подзаголовка в самых разнообразных отраслях исследований, от традиционно позднесоветской «мотивации труда» до снова едва узаконенного «изучения общественного мнения»[118]. В целом тематика «перехода» быстро вписывается в академическую понятийную разметку, которая все еще отсылает к незыблемости прежнего порядка, например, в заглавии раздела «Общество как система»[119].
Однако во всех стилистических вихрях и смешениях некоторые не вполне очевидные деления сохраняются, маркируя различия между старыми и новыми изданиями, научными и публичными институциями. Траектория понятия «средний класс» в пространстве публичного высказывания красноречиво иллюстрирует действие этой неявной социальной механики проекта, которая (и именно она) постепенно придает понятию форму, наделяя его смыслом и ценностью. Исследовательские тексты способны наиболее обоснованно связать эту категорию с реальностью, т. е. указать на соответствие проекта наблюдаемым общественным тенденциям. Однако до первых академических публикаций о «среднем классе» в 1989–1990 гг. понятие появляется на страницах широкой прессы, озвученное публицистами и политиками[120]. К этим газетным текстам явно или неявно отсылают статьи, публикуемые затем новыми, меж– и внеинституциональными, социальными и гуманитарными журналами, которые учреждаются в 1991–1993 гг.[121] И лишь затем, с конца 1990-х годов, понятие завоевывает академическую периодику, становится предметом маркетинговой и экспертной работы «деловых» СМИ. Два кризиса, финансовый 1998 г. и политический 2011–2012 гг., сближают проектный «средний класс» с реальностью более осязаемо, чем когда-либо. Но, в отличие от французских 1930-х годов, в каждый из этих моментов на публичной сцене не появляется мобилизованной группы, которая представляла бы «средний класс» политически. Поэтому понятие-проект так и остается медийным ожиданием с неизменно высокой символической ценностью. В этих перипетиях публичной речи имеются своя логика и своя история, которые и определяют структуру российского поля понятия.
На периферии новой понятийной сетки (начало 1990-х годов)
Слияние жанров в российской публичной речи рубежа 1980-х и 1990-х годов напоминает о французском XIX веке, с характерными для него фигурами историков-трибунов и ученых-министров, и служит идеальной лабораторией для кристаллизации проектного смысла понятий. Оно же рождает исследовательскую проблему, которая следует из крайней подвижности понятийного контекста. Есть риск попросту не обнаружить достаточно плотного корпуса высказываний, где понятия представлены в их собственной словарной форме. Как следствие, генеалогические линии теряют отчетливость. «Средний класс» не становится исключением. В последующих реконструкциях мы встречаем утверждения, подобные такому: «В соответствии с риторикой начального периода реформ в качестве результата адаптации рассматривалось создание в России среднего класса»[122]. Однако в законодательных актах 1980-х и начала 1990-х, как и в сопутствующей литературе, понятие «средний класс» не встречается. Доминирующей здесь выступает иная проектная категория – «слой собственников». Именно она находится в центре приватизационного поворота 1992–1993 гг. Его «главными целями… являются: формирование широкого слоя частных собственников как экономической основы рыночных отношений; вовлечение в процесс приватизации максимально широких слоев населения…»[123]. Вне узких экономических рамок указов «широкий слой собственников» определен рядом контекстуальных связей, которые сближают его со «средним классом». К ним относятся «самостоятельность» и «стабильность». Однако из контекста «среднего класса» неустранимы по меньшей мере два других ключевых элемента: «[высшее] образование» и «демократия». В том же ряду они не значатся. Поэтому между понятиями «средний класс» и «слой собственников» нет прямого наследования, хотя иллюзорное тождество в их восприятии также следует принимать в расчет при генеалогической реконструкции.
Другой неочевидный сдвиг в отношении исторического поля понятия «средний класс», которое я анализировал в предшествующей главе, состоит в исключении, казалось бы, наиболее очевидного для него контекста. Речь идет о работе с моделями социальной структуры, которые становятся привилегированным объектом работы академической социологии с 1960-х годов. В первой половине 1990-х, описывая социальную стратификацию и неравенства, социологи связывают преобразования «самой социальной природы основных компонентов социальной структуры» не с ожидаемым «средним классом», а с куда более широкой и политизированной категорией – с гражданским обществом. В тот момент именно она, а даже не «слой собственников», выступает функциональным эквивалентом «среднего класса» Липсета – тематическим приоритетом академических «исследований изменения в социальной структуре»[124].
До середины 1990-х конструкторская работа с категорией «средний класс» остается уделом политических публицистов и академических эксцентриков, т. е. тех, кто далек от позднесоветских правил академического разделения труда. Я хочу кратко остановиться на трех биографических случаях: авторах, которые, в известном смысле, нарушают правила игры и уже в начале 1990-х годов обращаются к стигматизированному понятию в академических публикациях. Каждый из примеров по-своему показателен, позволяя более глубоко проникнуть в социальную механику создания и использования понятия.
Первый – это Владимир Пантин (род. в 1954 г.), который в 1993 г. под псевдонимом Владимир Умов публикует цитированную ранее (см. сн. 5 на с. 45 наст. изд.) статью о среднем классе в новом, издающемся лишь третий год журнале «Политические исследования» («Полис»). В статье категории приписывается основополагающий цивилизационный смысл: «Западное общество стало современным (модерновым) лишь после того, как ему удалось создать многочисленный и компетентный средний класс». Сразу за таким утверждением следует констатация, что в России «этого решающего условия “современности” общества… нет». Однако весь последующий текст выстраивается как проект возможного класса-модернизатора и умиротворителя. В некотором смысле это образцовый текст, где автор эксплицирует основные контексты, которые впоследствии используются в воспроизводстве понятия. В 1995 г. В. Пантин защищает кандидатскую диссертацию по политическим наукам на тему «Средние слои в современной России: политическое поведение и ориентации»[125]. В каталоге ИНИОН это самая ранняя публикация в тематическом разделе «Средние классы – Российская Федерация», несмотря на то что в ее заглавии значится более архаичная и академически легитимная на тот момент категория «средние слои».
Кандидатская по политологии – не первая научная степень автора. В 1976 г. он оканчивает химический факультет МГУ и в 1980 г. защищает кандидатскую диссертацию по химии. На полтора года он переходит в новую область, устроившись младшим научным сотрудником Московского института народного хозяйства им. Плеханова (1980–1982). Затем снова меняет профессиональный сектор, работая в Институте иммунологии (1982–1985) и во Всесоюзном гематологическом научном центре (1985–1992). За историческим поворотом в российской политике следует новый поворот его профессиональной биографии: Центр социоестественной истории Российского открытого университета (1992–1993) и Институт экономики Российской Академии наук (1993–1997)[126]. Тем самым в политологию Пантин следует более сложной и менее вероятной траекторией, в отличие от выходцев из смежных дисциплин: философии и экономики, отчасти социологии. Именно такие профессиональные перемещения, вне стен большой Академии, освобождают его от самоцензуры, разделяемой советскими специалистами по социальной структуре. Публикация в новом журнале только усиливает этот эффект новизны. Основанный в 1991 г., как и все учрежденные тогда же издания, которые с переменным успехом претендуют на ведущую роль в интеллектуальном и политическом обновлении, «Полис» заявляет в качестве своей амбиции «научный поиск, интеллектуальный напор, новые методы» и видит своей задачей «стимулировать становление политического сознания и политической культуры, находящейся сейчас в нашей стране в зачаточном состоянии»[127].
В том же 1993 г. «Полис» публикует статью еще одного обладателя не вполне типичной академической траектории, Владимира Пастухова (род. в 1963 г.). Окончив кафедру теории государства и права Киевского университета, в 1985 г. он поступает в аспирантуру юридического факультета, где пишет диссертацию о закономерности развития теории политической власти в СССР. В статье он вводит понятие «средний класс» в контексте понятия «идеология»[128]. Здесь социальная категория определяется как общеевропейская, а ее референт – как «главный носитель базовых либеральных ценностей и национальной идеи в ее наиболее развитом виде как публичных истин»[129]. Развивая в политологическом издании дискуссию, начатую на страницах ежедневной прессы, автор указывает, что в России «прототипом этого среднего класса выступила, разумеется, советская интеллигенция» (с. 23). При этом он характеризует радикальное различие между российской и европейской социальными категориями и релевантными им идеологиями, которое следует из отношений советской интеллигенции с государством-работодателем. Язык статьи не содержит компромиссов с академической риторикой предшествующего периода: это попытка освоения и комбинирования понятий, заимствованных из переводной литературы без посредства канонических «критик буржуазной мысли». Сам автор объясняет стилистику своего высказывания следующим образом: «Я поступил в аспирантуру в октябре 1985 г. и принадлежу к тому счастливому поколению в нашей науке, для которого первые самостоятельные шаги на академическом поприще совпали со вторым потеплением советского политического климата»[130]. Тем самым не столько эксцентрическая профессиональная траектория, сколько большой политический сдвиг, который совпадает с поколенческим, приводит к схожему с Владимиром Пантиным результату – обращению к понятию среднего класса, избавленному от профессиональной самоцензуры.
Наконец, институционально более гладкая, но далекая от линейности академическая траектория – у третьего автора, которая уже в 1991 г. публикует первую академическую статью о среднем классе. Это Людмила Беляева (род. в 1946 г.). В 1968 г. она оканчивает экономический факультет Воронежского университета, в 1976 г. поступает в аспирантуру академического Института философии в Москве и становится его сотрудником. К описанию социальной структуры меняющегося общества она приступает не в Институте социологии, а в том же Институте философии, т. е. снова на некоторой институциональной дистанции от главного центра исследований социальных различий в предшествующий период. В 1991 и 1993 гг. она публикует отдельные обзорные тексты, посвященные «средним слоям»[131]. В 1992 г. отводит этому понятию раздел в обширной и проблематичной фреске «разбуженного» российского общества, вводя его наряду с традиционными классовыми категориями советского периода: рабочим классом, крестьянами и интеллигенцией.
Здесь понятие предстает в полной мере компромиссной конструкцией на пересечении легитимного позднесоветского и переносимого в новый контекст «западного» словаря: «Формирование средних слоев, рождаемых НТР [научно-технической революцией[132] ] и связанных с новыми, рыночными формами хозяйствования, – это начало в преобразовании наемных работников с низким уровнем жизни, полностью зависимых в своей производственной и внепроизводственной деятельности от государства, в активных, относительно самостоятельных и относительно материально не зависимых от государства членов общества»[133]. За такой характеристикой следует неизбежное уточнение: «Понятие “средние слои” разработано в западной литературе». Однако в отличие от статьи 1993 г., которая предлагает выборочный обзор этой литературы, текст 1992 г. выстроен в форме примечательной попытки нормализовать понятийные синонимы «средние слои» – «средний класс» в позднесоветской академической речи, где символическая ценность «требований НТР» иерархически уравнивается с еще недавно стигматизированными «рыночными отношениями».
Текст также наделяет высокой проектной ценностью реформенную категорию «собственники», которые «служат социальной базой гражданского общества, заинтересованы в его стабильности и поступательном развитии»[134]. Следует обратить внимание на появление в том же контексте категории «гражданское общество», которую мы находим у академических социологов. Насыщение текста понятиями, принадлежащими различным хронологическим и дисциплинарным словарям, составляет отличительную особенность компромиссной стратегии высказывания. В свою очередь, в статье 1993 г. проектный смысл «средних классов» артикулируется как в первую очередь политический, в контексте апелляции к государству: «Сейчас средний слой в нашей стране имеется только в потенции, его реальное существование и рост во многом зависят от социальной политики… Формирование среднего слоя общества – это реальный путь преодоления люмпенизации населения и ослабления социальной напряженности. Этот социально-политический аспект сейчас не менее актуален, чем экономический»[135]. По контрасту с текстами двух других авторов эта понятийная комбинация объясняется, очевидно, более длительной, «нормальной» карьерой Л. Беляевой в стенах советской академической институции.
Все три случая, а также упомянутые публицистические образцы демонстрируют высокую дисперсию контекстов, в которых получает первоначальное определение «средний класс». В начале 1990-х годов, на периферии новой категориальной сетки, «средний класс» еще не обладает той относительной кон-систентностью признаков, которую ему сообщают серийные социологические публикации 2000-х. Вместе с тем ключевые элементы контекста, которые с конца 1990-х воспроизводятся как общие места, изначально сформированы именно на этой периферии: высокое образование, благосостояние или, по крайней мере, стремление к таковому, политическая умеренность, структурная или даже осознанная стабилизация правления, относительная независимость от государственной службы, активность в поисках работы и устройства собственной жизни. Эти признаки проясняют российскую генеалогию понятия. В двух названных случаях, у Беляевой и Пантина, неустранимыми элементами в определении «средних слоев» служат «образование» и «демократия», которых мы не находим в контексте понятия «слой собственников». Именно эти недостающие элементы располагают «средний слой» на прямой генеалогической линии со «средним классом». Контекстуальная связь укрепляется также отсылкой к «либеральным ценностям», упоминаемым Пастуховым: для этого периода характерно их прямое отождествление с «демократией».
Не менее показательными становятся лапидарные, если не ритуальные отсылки к «среднему классу» и «среднему слою» в контексте «кризисной» диагностики, предпринятой академическими авторами старшего поколения, которые к тому моменту обладают значительно более высокими и устойчивыми административными позициями[136]. Высказывания о «среднем классе» Николая Лапина (род. в 1931 г.), Овсея Шкаратана (род. в 1931 г.) и Юрия Фигатнера (род. в 1921 г.)[137] роднят отсылки к очевидной социальной ценности, закрепленной за понятием, при минимальной авторской работе с ним. Авторы включают «средний класс» в свои статьи, не соотнося его явным образом ни с одной из их опорных социальных и политических категорий основного текста: «люди труда», «номенклатура», «интеллигенция», «специалисты», «фермеры», «торговцы», «предприниматели», «великий народ», «демократы», «бизнес-элиты», «крупная буржуазия» (Шкаратан и Фигатнер), «эгалитаристы», «прогрессисты», «консумисты» и т. д. (Лапин). Завершая повествование о становлении и распаде советской номенклатуры, Шкаратан и Фигатнер указывают: «…Отсутствие устойчивой институциональной структуры – вот что характерно для сторонников демократического предпринимательства. Социальной опорой здесь являются образованные люди, квалифицированные рабочие, массовая интеллигенция. Все эти группы вполне могут стать ядром грядущего среднего класса»[138]. Схожим образом, представляя результаты исследования ценностей, Лапин отмечает: «Особого внимания заслуживает проблема восстановления среднего слоя как самой массовой группы экономически активных граждан, без которых невозможно саморазвивающееся гражданское общество. Существует социальная база для формирования такого слоя, прежде всего специалисты с высшим и средним специальным образованием, ориентированные на работу в условиях рыночной экономики. Но возможности этого слоя мало востребованы»[139]. Безусловно, эти высказывания не являются версиями одного и того же суждения, и контекст понятия сохраняет тематическую дисперсию, включая «демократическое предпринимательство» в одном случае и «саморазвивающееся гражданское общество» – в другом. Вместе с тем, демонстрируя схожие политические предпочтения, авторы воспроизводят заимствованное понятие-проект в устойчивой связи с «образованием», «демократией» и «рынком». Такого рода консенсус, который связывает авторов разных поколений и профессиональных траекторий, включая трех более молодых, о ком я упоминал ранее, указывает на структурный эффект появления понятия в политически нагруженном публичном высказывании.
Чем объяснить это ценное и почти принудительное вхождение «среднего класса» в социальную «диагностику» и публицистику, которые в начале 1990-х годов конденсируются на реформистском полюсе публичной речи? Очевидно, дело не в последовательной и планомерной институциональной реализации проекта, подобно тому, как это происходит с «Европейским союзом» в тот же период в соседних обществах. Настоятельное использование понятия объясняется практическим смыслом впоследствии тиражируемых фигур проектного контекста: «стабилизирующей функции» и роли новой категории в «снятии напряженности» и «придании устойчивости» российскому обществу. Для непосредственных участников политических дебатов о российском «переходе» в начале 1990-х «стабилизация» и ее ценностная связь с «демократией» и «либерализмом» неотделимы от ожидания большого катаклизма, в пределе революции, как насильственного снятия социальных и политических напряжений. По воспоминаниям Владимира Пантина о контексте написания им статьи:
После событий 1991–1992 гг. мне казалось очень важным нащупать новый субъект развития российского общества, и таким субъектом, способным обеспечить относительно стабильное политическое и экономическое развитие, мне представлялся средний класс… Дискуссия, в которой я принял участие… состояла в том, какие группы населения могут поддержать демократические реформы и какие у них перспективы развития. Как Вы помните, 1993 год чуть было не привел к гражданской войне в России, и в то время эта дискуссия носила отнюдь не только академический характер. Сейчас все видится несколько по-иному, но тогда накал страстей вокруг выбора путей развития российского общества был исключительно велик[140].
Наиболее наблюдательные авторы, которые предлагают рефлексию российской прагматики понятия постфактум, приходят к близким выводам, так квалифицируя интерес к этой социальной категории: «Наша мыслящая общественность живет в обстановке ожидания и страха социального взрыва, бессмысленного и беспощадного бунта… Поэтому идет поиск того среднего класса, который как бы этому помешает»[141]. Частичное историческое сходство, которое я отмечал ранее, при введении «средних классов» во французских 1860-х и российских 1990-х годах, состоит в первую очередь в разделяемом опасении государственного переворота и высвобожденного насилия. В этом горизонте сейсмически неустойчивого будущего, который неявно задает контекст понятия, проект мирного, благополучного «среднего слоя» воплощает в себе надежду на согласие и процветание, сообщая понятию исключительную символическую ценность. Когда к концу 1990-х «средний класс» занимает более устойчивое, в пределе господствующее, положение в понятийной сетке академических и журналистских высказываний о структуре российского общества, понятие во многом сохраняет смысл ответа на политическую опасность «реваншистской» революции в 1993–1996 гг.
При многочисленных сдвигах и смешениях, которые устраняют различия между жанрами публичного высказывания, начало-середина 1990-х годов отмечены институциональной и одновременно познавательной дистанцией, которая отделяет дисциплинарную (социологическую) модель речи о среднем классе от внедисциплинарной и публицистической. Неординарность ранней проекции В. Пантиным, Л. Беляевой или В. Пастуховым понятия «средний класс» на российское общество становится заметной при сопоставлении их текстов с публикациями социологов, длительно занимающихся темой социальной структуры на профессиональных основаниях. Одна из ключевых фигур в этой области – Зинаида Голенкова (род. в 1939 г.). В 1965 г. она оканчивает философский факультет МГУ и работает в академическом Институте социологии с года его основания (1968), в 1980–1990-е годы возглавляя сектор исследований социальной структуры. Ее первые публикации, посвященные вопросам классовой структуры, датируются 1970-ми годами. Но, когда в 1991–1993 гг. институционально более эксцентричные авторы делают основной темой своих статей «средний класс», ее публикации центрированы на уже упомянутой категории «гражданского общества».
Введение «гражданского общества» в контекст социальной стратификации может включать указания на решающую роль «свободных, экономически независимых, осознающих себя самостоятельными граждан» или вопрос, «почему оказалось «заблокированным» (вытесненным) гражданское общество в России на современном этапе»[142]. То есть стратификационные и политические смыслы соединяются между собой без участия «среднего класса» и отчасти замещают его. Другие академические социологи, работающие в том же тематическом секторе, помещают в центр меняющейся социальной структуры категории «новые бедные», «социально-имущественная дифференциация», «инженерно-техническая интеллигенция», «образованный класс», «предприниматели», «жизненные ориентации», «социальная адаптация», «поколенческие стратегии», «поселенческая структура»[143]. Столь же показательна ранняя (1991) послесоветская социологическая монография об «интеллигенции» – категории, которая в тот же период фигурирует у ряда публицистов в роли «основы будущего среднего класса». В монографии категория «среднего класса» не используется ни в основном тексте, ни в редакторском послесловии З. Голенковой. Авторы озабочены вопросом о том, ближе интеллигенция буржуазии или рабочему классу, и при характеристике социальной структуры оперируют позднесоветскими категориями: «рабочие», «ИТР», «специалисты», «служащие», «пенсионеры»[144].
Что до «среднего класса» в том же сегменте академической речи, понятие встречается прежде всего в контексте «плодотворных наблюдений и теоретических изысканий ведущих западных социологов»[145] и как условное обозначение продолжающегося анкетного обследования «путей и ресурсов формирования новых социальных слоев»[146]. Тематические публикации социологов о среднем классе можно найти в стороне от центральных академических изданий, на периферии дисциплины – например, в бюллетене опросного центра ВЦИОМ, созданного в 1987 г. Здесь «средний класс» предстает утопическим плавильным котлом: он «формируется из всех слоев общества – от рабочих и колхозников до крупных бизнесменов»[147].
Иными словами, социальный проект нового порядка и релевантное ему понятие обходит стороной крупные центры академической социологии. В обращенном к широкой публике тексте один из главных инженеров государственных реформ, Егор Гайдар, утверждает: «Настоящий экономический подъем означает изменение социальной структуры нашего общества, долгожданное развитие среднего класса»[148]. На страницах ежедневной прессы публицисты с историческим образованием продолжают дискуссию о социальных предпосылках демократии: «Сегодня утверждают, что нужен средний класс, являющийся носителем демократии. Я утверждаю, что средний класс у нас был, он уже начал формироваться, хотя процесс шел особым образом»[149]. Социологи же странным образом «опаздывают» внести свой вклад в эту понятийную контроверзу. Незначительное присутствие здесь «среднего класса» проясняется с обращением к истории понятия в советский период, которое я еще предприму. Но показателен уже сам факт: начало Нового порядка датируется концом 1980-х годов или первыми годами 1990-х, предстает академическим социологам в проектной очевидности «рыночных реформ», «гражданского общества» и «частной собственности», не требуя доказательств существования «среднего класса».
Сходство контекста проектных понятий «ответственные граждане», «собственники» и «средний класс», которые в отдельных случаях могут использоваться синонимически (как в статьях Л. Беляевой), позволяют говорить о возможности диффузного общего проекта у авторов по разные стороны институциональных границ. Однако более позднее вхождение «среднего класса» в социологическую речь снабжает его специфическим смыслом. В публикациях З. Голенковой с соавторами «средний класс» и «средние слои» как понятия, релевантные российскому обществу, появляются в конце 1990-х годов, в контексте переноса западных моделей abovo: «Известно, что средний класс в структуре развитых капиталистических стран представляет собой совокупность социальных слоев, занимающих промежуточное положение…»[150]. В ходе такого переноса собственные полномочия на использование понятия оговариваются с предельной осторожностью: «Попытаемся на основе наших данных, которые пока ограничены, приблизиться к рассмотрению данной ситуации»[151]. Ключевые для этой модели вопросы: из каких слоев формируется средний класс, какое положение на рынке труда и в имущественном распределении они занимают, какова их удовлетворенность своим материальным положением, их самоидентификация, какова численность этого слоя в сравнении с неимущими? – исключают важное измерение, которое определяет появление понятия «средний класс» в российской публицистике. Собственно политическое измерение. В отличие от этого, здесь социальная категория конструируется как экономическое следствие государственных реформ, а не как их основное условие. Даже в резюмирующей проектной формуле Зинаиды Голенковой и Елены Игитханян, которая звучит эхом более раннего текста Беляевой, «социально-политические» отношения замещаются «социально-экономическими»: «Экономическое состояние страны и налоговая политика приведут к еще большему обнищанию тех массовых групп, которые призваны историей стать средним классом. Формирование средних классов может произойти только с учетом новых реалий, главным образом, в сфере социально-экономических отношений, структурной перестройки экономики, трансформации социальной политики»[152].
В целом, если введение «среднего класса» в основание политического проекта обнаруживает структурные сходства с контекстом французских 1860-х годов, его социологическое использование отчасти сближается с «кризисным представительством» французских 1930-х. В российском случае оно, однако, избавлено от самоотождествления со «средним классом» самих авторов. Ставка на политическую миссию «средних» в дискуссии о «выборе пути» сообщает категории иллюзорную консистентность: даже когда авторы сомневаются в ее актуальном российском статусе, проект, спроецированный в недалекое будущее, или воображаемый горизонт западных обществ, наделяется высокой нормативной однородностью. В свою очередь, критика экономической политики государства, одним из неудачных следствий которой предстает «средний класс», заставляет сомневаться не только в реальности категории, но и в критериях ее выделения. Десятилетием позже, в коллективной статье с участием З. Голенковой, общая квалификация «среднего класса» звучит столь же скептически: «При всем повышенном интересе к этому феномену со стороны научного сообщества, политических и государственных структур характеристика средних слоев представляется достаточно неопределенной… Средний класс в постсоветской России – это одновременно и реальность, и фантом»[153]. Отвлеченный язык и самые общие характеристики, к которым ex novo прибегают академические социологи, высказываясь о «среднем классе», свидетельствуют о том, что их предельная задача также мало отличается от политически предопределенного нормативного обоснования. Однако логический и хронологический сдвиг, который мы обнаруживаем по отношению к политическому использованию понятия, заставляет допустить наличие посредующего звена. Возможно, модель высказывания, в которой «среднему классу» или «слою» отводится роль мерцающего результата реформ, вторична и заимствует тезисы, озвученные и утвердившиеся в российских дебатах ранее?
Действительно, такое высказывание опирается на предпосланные образцы. Роль деятельного и признанного посредника между двумя пространствами речи, академической социологии и политической публицистики, выполняет экономист-социолог Татьяна Заславская. Я подробно рассматриваю ее академическую траекторию в одной из глав третьего раздела книги. Здесь будет уместно отметить лишь то, что она принимает активное участие в политических дебатах и консультировании высшего советского руководства в конце 1980-х и самом начале 1990-х. Имея двойную дисциплинарную принадлежность, она порой прямо дистанцируется от социологии, и эта дистанция отчасти объясняет ее более решительное обращение к понятию-проекту. Заславская вводит «средний класс», «средний слой» и «срединную часть» в свои тексты в середине 1990-х, во многом заимствуя политическую схематику ранних версий теории модернизации. Однако этот перенос никогда не бывает «чистым». На протяжении десятилетия она предлагает в своих статьях несколько моделей социальной стратификации, где, наряду с простым иерархическим, хотя логически непрозрачным разделением общества на правящую элиту, средний слой, рядовых граждан – базовый слой, нижний слой и десоциализированное дно[154], вводит типологическую смесь из политических предпочтений, способности адаптироваться к реформам, отношения к собственности и т. д.[155]
Понятие «среднего класса» и его функциональных эквивалентов не обладает транзитивностью во всех контекстах. Например, в известной статье Т. Заславской, целью которой автор объявляет «теоретическую и эмпирическую идентификацию слоя предпринимателей», это понятие не используется[156]. В тех текстах, где понятие фигурирует, его контекст оснащен уже привычными для политической дискуссии элементами «независимости», «благоприятного материального положения», «стабильности» и «образования» – «квалификации». Во многом это компиляция характеристик, ранее озвученных в академической и широкой публицистике. Кроме этого, в текст вводится характеристика «потенциалов», которая становится очередной компромиссной конструкцией: между позднесоветским «производственным потенциалом»[157] и переводом категории «ресурсы» из американских источников[158]. В контексте «перехода от посттоталитаризма к политическому плюрализму и демократии и от огосударствленной административно-распределительной к частновладельческой рыночной экономике» понятие «потенциалов» наделяется дополнительным проектным смыслом. Согласно тексту 1995 г., российского «среднего класса» традиционно еще не существует: имеется «протослой», который «является зародышем «среднего слоя» в западном понимании этого термина»[159].
Показательно, что, занимая в конце 1980-х место президентского советника, Заславская, в отличие от Беляевой и Пантина, а также некоторых ранних публицистов, адаптирует тезис о ключевой роли элит, который вписан в ряд версий теории модернизации: «Если верхний слой воплощает целеполагание и волю общества, то средний слой служит носителем энергетического начала и массовой повседневной социально-преобразовательной деятельности»[160]. Иначе говоря, элитистская версия проекта, частью которой становится «средний класс», предполагает отчетливое разделение политического труда: между разработчиками и исполнителями модернизационного прорыва. Именно эта диспозиция служит опорой в построениях академических социологов, которые описывают средний класс в первую очередь как экономический продукт и мобилизационную базу реформ[161]. Они уважительно ссылаются на тексты Заславской, на сей раз следуя правилам интеллектуального разделения труда и не претендуя на пересмотр исходных политических допущений.
В результате подобной цеховой рационализации «переходное» понятие утверждается в новой, более скромной функции, на первый взгляд, никак не меняя контекста, заданного «стабильностью», «образованием», «благополучием» (на фоне проблемного падения уровня жизни) и т. д. Именно здесь проектное понятие-посредник, ранее получающее смысл в контексте «демократии», безупредительных деклараций и теоретических обоснований переводится в термин, производный от контекста «[государственных] реформ». Более точно, смещение от ранних газетных контекстов «среднего класса» к социологическим на протяжении 1990-х годов корректирует историческое поле понятия, закрепляя в нем новый смысл – (дез)адаптации к рыночным реформам.
Средние-буржуазные: политический поворот и советский стигмат (1950-1960-е годы)
Чем объясняется «запаздывание» академической социологии в изобретении новых социальных понятий? Сопротивление «среднему классу» в академической речи и мышлении 1990-х годов, как возможному обобщающему и проектному понятию для послесоветского опыта, восходит к поворотной точке конца 1950-х – начала 1960-х. Именно в этот момент понятия «средние слои» и «средний класс» вводятся в академическую и пропагандистскую речь: одновременно с «гармонически развитой личностью», «научно-техническим прогрессом», «мирным сосуществованием», смысловым и социальным перипетиям которых посвящен следующий раздел книги. В позднесоветской социогонии такие конструкты отчетливо маркируют полюс «социалистического образа жизни», тогда как «средние» располагаются от него на столь же явственной дистанции. Однако относительную, пускай и амбивалентную ценность понятию сообщает уже само его официально лицензированное появление в публичном обороте[162]. Оно же составляет основу для межпозиционной контроверзы в академическом и политическом мирах, одно из проявлений которой я проиллюстрирую подробнее. Административный и культурный поворот, сопровождающийся обновлением словаря публичной речи, контекстуально изменяет определение «социализма», заставляя самых разных авторов корректировать ритуальные приемы и темы, посредством которых генерируется контекст этой политической универсалии.
Функция таких приемов и тем состоит в освещении политического режима через утверждение отличий социализма от буржуазного (капиталистического) общества. Ключевое место в этом ряду принадлежит тематической формуле «классов и классовой борьбы», которая постоянно и на первый взгляд в неизменном виде воспроизводится в советской идеологической работе на всем ее протяжении. Публичные лекции и брошюры, посвященные «природе классов», «классовой борьбе», «теории классов и классовой борьбы», которые адресованы партийному активу и широкой публике, регулярно публикуются с 1920-х годов, в ряде случаев достигая тиражей в 100 тыс. экземпляров[163]. Проектное высказывание основано здесь на оппозиции классов при капитализме, в контексте непрерывно обостряющейся борьбы, и классов при социализме, в контексте мобилизованного единства или социальной однородности – последний характерен для послевоенного периода. Тексты, представляющие собой развернутое изложение этих контекстов, упорядочены в двух тематических измерениях: внешнеполитическом, при состязательном сопоставлении СССР с буржуазным обществом, и внутриполитическом, которое сфокусировано на уничтожении/преодолении буржуазных элементов и пережитков в СССР. Смысловое напряжение и усиление, необходимые для перформативного эффекта, обеспечиваются серией устойчивых понятийных операторов, таких как «ликвидация» – «кооперация», которые выстраиваются вокруг понятия «класса» и комбинируются между собой. Для радикально ортодоксальных версий этого типа речи характерна милитаризованная конструкция «ликвидация эксплуататорских классов», которая понимается в первую очередь экономически[164]. В реформистских, кристаллизующихся в поворотной точке конца 1950-х – начала 1960-х годов, акцент с «ликвидации» смещается на «вовлечение» и «союзничество». Именно в последнем случае в рамках «классовой борьбы» появляются «средние слои»[165].
Я далек от того, чтобы предложить здесь сколько-нибудь исчерпывающий анализ литературы о классовой структуре и о борьбе классов. То, что интересует меня в первую очередь, – это контексты и границы, в которых в публичный оборот вводятся «средние слои» и «средний класс». Какие контексты становятся привилегированным местом появления «средних», каким смыслом и ценностью они снабжают эти понятия, и как при появлении в публичной речи этих терминов за ними закрепляется статус опасных?
Чтобы понять, почему в официальной советской риторике 1920–1940-х годов нет места примиряющим «средним классам», следует обратить внимание на крайне поляризованное и неустойчивое будущее советского режима, которое разительно отличает классовую риторику этого периода от позднесоветской. Не только в 1920-е, но и на протяжении 1930-х годов классовый антагонизм проецируется и на внешнюю политику, описываемую в терминах «враждебного окружения»[166], и на социальную структуру самого нового общества, которая остается ареной непрерывного столкновения полярных сил, где новому неизменно угрожают как презренные «пережитки», так и активные, агрессивные агенты старого порядка[167]. «Эксплоататорские классы ликвидированы, но сопротивление оказывают осколки этих классов», – утверждает одна из брошюр, изданная в 1941 г.[168] Затянувшееся «сопротивление старого», очевидно, превосходит оптимистические оценки начала 1930-х, пускай и не вполне им противореча: «…Классы будут уничтожены, но следы классовых различий еще сохранятся на некоторое время и за пределами второй пятилетки»[169]. Вопрос «кто кого?», озвученный в контексте борьбы старого и нового, капитализма и коммунизма, буржуазии и пролетариата, в равной мере относится и к политическим доктринам, и к формам собственности[170]. «Пока остается мелкотоварный способ производства, остается еще основа возрождения эксплоататорских классов»[171], – подобные высказывания сопровождаются неизменными отсылками к тематическим выступлениям Иосифа Сталина, которые сообщают им бесспорную легитимность.
Следует отметить, что еще в 1923 г. Сталин публикует небольшой текст о «средних слоях» и Октябрьской революции[172], который актуализируется не только в официальных текстах исторического материализма, но и после его смерти, в борьбе против «ревизионистов». В этой публикации, почти заметке, понятие сохраняет ценностную амбивалентность, что делает его потенциально опасным в контексте непримиримой борьбы классов. С одной стороны, средние слои служат «теми серьезными резервами, среди которых класс капиталистов набирает свою армию против пролетариата»; с другой – «пролетариат не может удержать власть без сочувствия, поддержки средних слоев, и прежде всего крестьянства, особенно в такой стране, как наш Союз Республик»[173]. В противоположность исторически господствующему смыслу родственного понятия («средний класс»), «средние слои» определяются здесь не как антитеза революции, а как условие ее успеха. Но принципиально не только это. В развернутом определении понятия, которым становится этот текст, активным действующим началом признается лишь пролетариат, который «сумеет оторвать средние слои… от класса капиталистов», должен «превратить эти слои из резервов капитала в резервы пролетариата», тогда как революция призвана сомкнуть «вокруг пролетариата угнетенные национальности». «Средние слои» не наделяются субъектностью, по крайней мере, сколько-нибудь значимой для революционной логики. История «средних» на деле оказывается историей «борьбы за средние слои», а не их собственным действием на исторической сцене.
Антагонистическая конструкция двух активных «классов», проецируемая в 1920–1940-е годы на все сферы общества, служит схемой социальных взаимодействий, которая переводится в социальную структуру без политических компромиссов, но также, казалось бы, и в контекст далеких от классовых баталий категорий личности, гуманизма или науки, отчего те приобретают неожиданный сегодня смысл[174]. Подобную тотализацию класса как действующей причины самых разных, в пределе любых и всех общественных отношений, обосновывает не только фундаментальное и «чистое» понятие социалистической революции. В ней объективируется куда более актуальный опыт самих авторов: неокончательность, в пределе обратимость смены политического режима и неустойчивость победы партийных фракций, добившихся стратегического превосходства на данный момент. XV съезд ВКП(б) (1927) открывается вопросом о внутрипартийной оппозиции, который вписан в риторику «гигантского напряжения» при строительстве нового общества, «новых революционно-классовых столкновений в международном масштабе» и «организации враждебного блока и провокации против нашего Союза»[175]. Открытие XVII съезда (1934) сопровождается не менее эпическим определением последних лет, «наполненных напряженной борьбой рабочего класса с врагами социализма… и отчаянного сопротивления новому строю со стороны последнего капиталистического класса – кулачества»[176]. Межфракционная борьба и показательные политические процессы против партийных противников продолжаются вплоть до 1938 г.[177] Риторика партийных «ошибок» здесь тесно связана с опасностью поражения социализма, на которое рассчитывают внешние и внутренние враги.
В этих обстоятельствах хрупкий альянс победителей воспринимает победу как состояние, открытое множеству угроз и рисков, а его агоническая речь обращена куда более широкой публике, нежели одним только соратникам и конкурентам в политическом руководстве. Помимо стенограмм съездов и пропагандистских брошюр, выпускаемых многотысячными тиражами, об этом свидетельствует корпус более «мирных» дидактических текстов. Так, статья «Советское государство» в Малой советской энциклопедии (1941) предлагает следующее определение режима: «Советское государство рабочих и крестьян есть диктатура подавляющего и ранее угнетенного большинства над незначительным меньшинством эксплоататоров, остающихся еще в первое время после пролетарской революции»[178].
Дисциплинарный горизонт исторического материализма прямо наследует поляризованной логике «борьбы классов», когда переприсваивает понятия «средних слоев» и «среднего класса», заимствуя последнее из зарубежных публикаций в целях критики. Ключевой догматический текст, лицензированный компендиум принципов исторического материализма (1951), неумолим в отношении стратификационных схем американской социологии и наличия в них «среднего класса»: «Деление капиталистического общества на два враждебных друг другу класса подменяется неопределенным делением людей на “ранги”, чтобы скрыть, замазать коренной классовый антагонизм между буржуазией и пролетариатом»[179]. Показательно, что, в отличие от начала 1990-х годов, в тот момент «средний класс» и «средние слои» принадлежат относительно не связанным между собой контекстам. Наряду с американским «средним классом» здесь же вводится «средний слой», существование которого не может быть чем-либо иным, как пережитком феодализма, пускай «в большинстве капиталистических стран этот слой довольно многочисленен и составляет от 30 до 45 % населения»[180]. Нужно отметить, что если такое определение и пересекается со сталинским, то лишь отчасти. В позднейшей догматической критике эти два понятия сближаются, теряя «феодальный» контекст и окончательно утверждаясь в «капиталистическом». Неизменной остается негативная ценность, которая господствует в определении этих двух понятий в официальной ортодоксии, хотя она неравным образом распределена между «средними слоями» и «средним классом». В последний направлено куда больше доктринальных критических стрел. В 1960–1970-е годы на пересечении дисциплинарных штудий исторического материализма и широкой пропаганды публикуется ряд монографий и диссертаций, где понятие деполитизированного «среднего класса» буржуазной науки, вытесняющее агоническую модель классов, осуждается как «ревизионистское», «несостоятельное» и «лживое»[181].
Таким образом, на рубеже 1950–1960-х годов понятия «средние слои» и «средний класс» снова политизированы вслед за их повторным введением в академическую и публичную дискуссию. Характеризуя переводную монографию Эндрю Гранта о «среднем классе» (1960) как образцовое выражение марксистской линии, автор русского предисловия уточняет: это «не только полемическая и не только научная, но и глубоко политическая работа. Именно такой должна быть книга о средних слоях, ибо сама эта проблема – в первую очередь политическая»[182]. Подтверждая эволюцию состава «средних слоев», от мелких собственников – к «техническим специалистам, людям свободных профессий», куда входят «инженеры и техники, художественная интеллигенция, врачи и учителя и т. д.», виртуоз официальной доктрины Юрий Арбатов[183], по сути, утверждает разрыв с лицензированным Сталиным определением, которое ограничивает средние слои «крестьянством», «мелким трудовым людом» и «угнетенными национальностями»[184]. В рамках такого сдвига «привлечение средних слоев на свою сторону» определяется уже не милитаристским «превращением в резерв пролетариата»[185], но реформистским проектом: «сблизить борьбу средних слоев с рабочим движением»[186]. При этом «средние классы», в отличие от «средних слоев», по-прежнему квалифицируются Арбатовым как «фальсификация врагов марксизма».
В целом десятилетие 1957–1967 создает ощутимую цезуру в отправлении ритуала «классовой борьбы», которая описывается в терминологии двух полярных сил. Различные дисциплины в разной степени эмансипируются от господствующих, бинарных и сталинских схем исторического материализма, и в некоторых случаях мы можем наблюдать осторожное введение «третьей силы». Как и в российском XIX веке, взятом в измерении «среднего класса», история и историки предлагают, вероятно, наиболее отчетливые альтернативы. Главным образом они локализованы в контексте революции: не социалистической 1917 г., но буржуазной 1848 г., на примере которой, среди прочих, Сталин объясняет роль «средних слоев». Специализированная дисциплинарная работа с материалом буржуазных революций требует владения исследовательским корпусом «буржуазной науки», который обеспечивает понятийные и мыслительные альтернативы по отношению к официальной советской догматике. Вместе с этим та же работа требует плотного согласования с доктринальными формулами, более скрупулезного, нежели античные исследования или большинство разделов истории Нового времени, поскольку публичное высказывание о революции в конечном счете замыкается на принципы советского строя. Две публикации могут проиллюстрировать происходящий сдвиг в академическом описании революционной «борьбы классов», который совпадает с большим политическим поворотом. Обе объединяет лишь тема, тогда как они существенно разнятся по содержанию и научному жанру. Тем более показательным на фоне этих различий предстает обращение двух авторов к разным социальным категориям для обозначения «одних и тех же» социальных сил.
В книге, посвященной французской революции 1848 г. и опубликованной к ее столетию, известный университетский историк Наум Застенкер описывает классовую структуру Франции в категориях «крупной» и «мелкой» буржуазии, «рабочего класса», «аристократии», «банкиров», «заводчиков», «ростовщиков» и т. д. Приближая французские реалии XIX в. к восприятию своих читателей, автор даже прибегает к презентистской категории «фермер-кулак»[187]. Однако в его словаре не находится места «среднему классу». Коллизия прогресса как социального компромисса, эскизно очерченная в предыдущей главе, предстает на языке его сторонников Гизо и Прудона как альянс «рабочей демократии и среднего класса». В своем тексте Застенкер переводит эти формулы на язык русских изданий Маркса как преданный либералами «союз мелкой буржуазии с рабочим классом». Наряду с тем, уже в описании революционных событий, он вводит не менее характерные для риторики сталинского периода «народные массы» и «толпы», противопоставленные «правящей буржуазной клике». В конечном счете «революцию совершили пролетариат, мелкая буржуазия и, отчасти, средняя буржуазия, объединенные борьбой против верхушки буржуазии… – финансовой аристократии»[188]. Подобная поляризация социальных сил во Франции в точности отвечает официально одобренной в СССР модели высказывания о социальной структуре буржуазного общества, которой приписывается непрерывный рост напряжений.
Второй текст, посвященный тому же периоду, представляет собой не изложение революционных событий, а разбор их исторических интерпретаций. При всех жанровых отличиях от книги Н. Застенкера, определяющим для его словаря служит тот факт, что книга опубликована двумя десятилетиями позже (1969). В тексте Любови Бендриковой, в ряду отсылок к отцам-основателям мы находим такие суждения: «К. Маркс на опыте революций 1848–1849 гг. подчеркивал важность союза пролетариата с крестьянством и другими средними слоями общества». В доктрине Прудона Бендрикова восстанавливает «средний класс» и «союз среднего класса и пролетариата»[189]. И хотя упоминание «среднего класса» тем или иным французским автором сопровождается переводческой ремаркой в скобках: «по-видимому буржуазия», «очевидно, буржуазия», – при сходстве базовой модели интерпретации с книгой Застенкера возврат во французскую историю имманентного ей понятия-проекта фактически перекомпонует социальную структуру революционных сил в узком сегменте академической науки.
На равной хронологической дистанции между этими двумя публикациями, незадолго до перевода книги Гранта, локализуется событие, которое тесно связывает между собой академический и политический смыслы понятия: дискуссия 1957–1958 гг. о «средних слоях» на историческом факультете МГУ[190]. В 1957 г. арестована группа аспирантов и молодых преподавателей факультета, так называемая группа Краснопевцева, которые создают «ревизионистский» кружок, проводя политические дискуссии, распространяя официально не одобренные работы по советской истории и листовку с требованиями широкой народной и партийной дискуссии, суда над сообщниками Сталина, права на забастовку, усиления роли советов[191]. За арестом группы следуют проверки на факультете, которые актуализируют давние напряжения, в первую очередь между догматически и исследовательски ориентированными фракциями сотрудников. Среди арестованных – двое членов КПСС: Лев Краснопевцев, аспирант кафедры истории КПСС, и Николай Обушенков, молодой преподаватель кафедры новой и новейшей истории. Есть также выпускники других кафедр. На первый взгляд, это дает основания для догматической атаки на весь факультет. Однако пружиной публичного конфликта становится противостояние кафедры истории КПСС, во многом остающейся бастионом сталинской партийной ортодоксии, и кафедры новой и новейшей истории, которая объединяет специалистов по истории зарубежных стран, владеющих иностранными языками.
О том, что иностранный язык – отнюдь не нейтральный культурный навык, свидетельствует убеждение заведующего кафедры истории КПСС Наума Савинченко: «Те, кто знает иностранные языки, – потенциальные шпионы»[192]. И это не простая девиация по отношению к научному здравому смыслу, а выражение основополагающего конфликта между догматической и технической компетентностями в академическом репертуаре. Конфликт находит точное соответствие в политическом напряжении между «детьми XX съезда» и «сталинистами», при том, что последние в тот момент получают преимущество в партбюро факультета[193]. Они инициируют поиск единомышленников Обушенкова и проверку «идейной направленности» работ преподавателей и студентов кафедры, работающей с иностранным материалом. Кроме того, прямой атаке подвергается профессиональный журнал «Вопросы истории», который партийные ортодоксы обвиняют в распространении «ревизионистских идей».
При всех возможных формах, в которых могла получить выражение эта коллизия, ее смысловым стержнем становится именно понятие «средних слоев». Это может выглядеть случайным в событийной канве конфликта, но не в логике «теории классовой борьбы» сталинского периода. В контексте бинарной классовой оппозиции обращение к опасному третьему элементу социальной структуры становится едва ли не квинтэссенцией «ревизионизма» для доктринеров, обязанных этой теории своими местами на кафедрах. Комиссия парткома факультета критически отзывается об одном из дипломов под научным руководством Наума Застенкера, посвященном участию средних слоев в движении Сопротивления во Франции. По мнению критиков, студент и его научный руководитель неверно решают вопрос о составе средних слоев, а значит, о том, кого можно признать союзником рабочего класса. В ответ научный руководитель предлагает организовать дискуссию. В ходе обсуждения наиболее скандальным моментом становится предложение Застенкера включить «кулаков» в состав «средних слоев»[194]. Он и его защитники с кафедры истории нового и новейшего времени, Каролина Мизиано, Ирина Григорьева, Григорий Куранов, остаются в очевидном меньшинстве. По итогам обсуждения сталинское определение признается «лучшим в марксистской литературе», противники обвинены в «ревизии учения о классовой борьбе». За резолюцией следуют санкции: Мизиано и Куранов покидают факультет, отсрочено утверждение на должность Григорьевой, Застенкеру предписано трактовать «средние слои» согласно постановлению партбюро.
Политические напряжения, актуализированные в контексте «средних слоев», не ограничиваются университетскими стенами. Те же конфликтные линии расчерчивает административный аппарат. По свидетельству Владислава Смирнова, отдел науки ЦК КПСС принимает сторону Застенкера, тогда как московский партком подтверждает верность факультетского постановления. Коллизия получает публичное развитие несколько лет спустя, в 1962 г. На Всесоюзном совещании историков академик и заведующий Международным отделом ЦК КПСС Борис Пономарев делает доклад, который ложится в основу партийной резолюции. В докладе Пономарев, по сути, пересматривает итоги дискуссии 1957–1958 гг. Согласно его изложению, «ряд преподавателей пытался осмыслить понятие “средние слои” применительно к условиям развития социалистической революции на ее современном этапе, но они встретили сокрушительный отпор со стороны некоторых кафедр»[195]. Содержательный разрыв со сталинским определением в докладе не артикулирован, акцент сделан скорее на автономии экспертной трактовки «средних» как самостоятельной социальной силы. В начале 1920-х годов Сталин квалифицирует «средние, непролетарские, крестьянские слои всех национальностей и племен» как пассивный реципиент революционных идей[196]. Согласно Пономареву, «жизнь показала необходимость нового подхода к определению “средних слоев”, и компартии, которые работают там, где эти “средние слои” существуют в действительности, отвергли ограничительное толкование, данное Сталиным»[197].
Это официальное высказывание санкционирует последующее обращение к «средним слоям» не только в исторических исследованиях, но и в работах, посвященных современности развивающихся стран[198]. Основным политическим контекстом, который закрепляет за понятием позитивную ценность на рубеже 1950-х и 1960-х годов, становится «союз [с пролетариатом] против монополистического капитала». В содержательном отношении понятие частично синхронизируется с моделью «новых средних классов», заимствуемой как из работ англоязычных левых авторов (Миллс, Грант), так и из более широкого круга источников, препарированных в жанре «критики современной буржуазной теории»[199]. Однако параллель между двумя понятиями, не говоря о прямом терминологическом отождествлении, не должна быть явной, пока «средние классы», будь то «новые» или «старые», стигматизированы политически и доктринально[200]. Эталонный пример такой расщепленной рецепции дает Философская энциклопедия (1967–1970), где «средним слоям» и «теории нового среднего класса» посвящены две самостоятельные и очевидно неравноценные статьи, выстроенные по той же схеме[201].
В куда меньшей степени эффект, произведенный исторической дискуссией о «средних слоях» в зарубежных странах и последующим перекодированием ее итогов, распространяется на социологию. В десятилетие институциализации новой дисциплины (1960-е) и до конца советского периода ее методологические допущения значительно больше обязаны «идейной работе» профессионалов от исторического материализма, особенно в разделе социологической теории[202]. «Средние слои», чье действительное существование в начале 1960-х годов признано официально допустимым в других обществах, остаются фигурой умолчания в обществе победившего социализма. Даже при историческом описании роли «средних слоев» в России и СССР авторы предпочитают благоразумно ограничиваться 1920-ми годами[203]. Но амбивалентность понятия в категориальной сетке, которая образована универсалиями «социализма», «борьбы классов» и «революции», несоизмерима с негативной ценностью «среднего класса», чей контекст составляют «вымыслы буржуазных социологов». Как следствие, понятие содержит куда более очевидную опасность для любых проекций на советское общество.
Все это хорошо объясняет существенно более поздние колебания академических авторов при обращении к «среднему классу» в описании послесоветского общества. По свидетельству Владимира Пантина, автора статьи 1993 г. о «среднем классе»: «“Средние слои” в [заглавии] моей диссертации появились потому, что термин “средний класс” в Институте сравнительной политологии, где я обсуждал диссертацию, встретил сильное сопротивление среди бывших советских марксистов»[204]. Следует помнить, что защита диссертации проходит в 1995 г., через несколько лет после официального исчезновения СССР. На фоне советских перипетий понятийной пары «средних слоев» – «средних классов» ее повторное введение в начале 1990-х годов, которое исходит с периферии академической системы, представляет собой результат очередного политического разрыва. По сути, это третья история понятия, которая начинается заново.
Вместе с этим во всех догматических хитросплетениях, которые с 1950-х годов позволяют отграничивать «средние слои» как союзников рабочего класса от «среднего класса» как вымысла буржуазных социологов, можно видеть, что использование «средних» в позитивном контексте «союза» и «альянса» с пролетариатом отмечает полюс новых исследований в истории, этнографии, экономике, чаще получая место на страницах кандидатских диссертаций и специализированных научных изданий. Второй тип контекстуального определения «среднего класса», отсылающий к искажению истинной картины борьбы между пролетариатом и буржуазией, привязан к полюсу исторического материализма – того типа публичной речи, которому лучше соответствуют докторские диссертации по философии и монографии, издаваемые десятками тысяч экземпляров. В этом отношении два способа тематизации «средних» изоморфны двум другим, казалось бы, отчетливо синонимическим конструкциям: «гармонически развитой личности» и «коммунистического воспитания личности», – которым я посвящаю главу IV. При всем созвучии, эта понятийная пара в 1950-1960-х годах точно так же, как и в случае «средних», объективирует оппозицию между реформистски настроенными исследователями и сталинистски ориентированными виртуозами исторического материализма. В случае обеих практических оппозиций, которые образованы конкурирующими контекстами общего базового понятия, речь идет о противостоянии между полюсами нового профессионализма и старой партийной ортодоксии.
Третья производительная сила «бесклассового общества» (1970-1980-е годы)
В отличие от 1930-х и даже 1950-х годов, 1970-е – период оформления проекта социальной однородности советского общества, который сменяет риторики, плотно пронизанные семантикой классового противостояния. По мере институциализации таких дисциплинарных разделов, как количественная социология и системные исследования, тексты, проблематизирующие капиталистический строй, выделяются в самостоятельный жанровый корпус. Утверждение новых дисциплин в разделении интеллектуального труда ведет ко все более отчетливой кристаллизации советского общества как реальности per se. Такому академически заданному обособлению социальной реальности предшествует политический разрыв с ранними моделями публичной речи. На рубеже 1950-х и 1960-х годов коррекции подвергается международное определение советского проекта, сформулированное в 1920-1930-х годах: социализм признан утвердившимся «в рамках всего мирового социалистического содружества». Это означает его международную демилитаризацию – перевод в рамки «мирного сосуществования» и экономического состязания с прежним непримиримым врагом, капиталистическим миром[205]. Синхронные сдвиги во внутриполитической риторике определяются прежде всего кардинальным исключением из нее внутренних врагов, что позволяет провозгласить «развернутое строительство коммунизма по всему широкому фронту великих работ»[206]. На деле эти сдвиги целиком меняют формулу режима. Ключевое место в оформлении проекта социализма занимают риторические и понятийные конструкции, которые не просто указывают на доктринальные расхождения с 1930-ми годами. Они объективируют иное переживание времени режима. Для позднесоветской официальной и академической речи характерны – если пользоваться грамматической аналогией – конструкции совершенного времени. Построение нового режима, создание нового общества и человека объявлены завершенными, внутренний классовый антагонизм преодоленным, советский строй получает новое официальное (само)обозначение «развитого» или «зрелого социализма», а «советский народ» провозглашен «новой исторической общностью»[207].
Эти тезисы, многократно воспроизведенные корпусом доктринальных комментаторов на протяжении десятилетия, окончательно закрепляются в Конституции 1977 г. Ее текст утверждает существование новой интернациональной советской (т. е. гражданской) нации, которая гарантирована развитием социализма уже не в перманентной борьбе с опасными врагами и «пережитками» прежнего порядка, а «на своей собственной основе»[208]. В развернутом виде эта формула существенно дополняет, если не отрицает более раннюю классовую декларацию СССР как «социалистического государства рабочих и крестьян»[209]. В отличие от Конституции 1936 г., в Конституцию 1977 г. вместе с двумя номинальными классами вводится «народная интеллигенция», и все вместе они образуют «нерушимый союз»[210]. Конституционное признание третьего равноправного и производящего паракласса предлагает радикальную замену бинарной социальной структуры воинствующего социализма.
Помимо прочего, такое признание сопровождается присвоением Коммунистической партии новой функции: теперь она не просто «руководит и направляет», но «придает планомерный научно обоснованный характер его [советского народа] борьбе за победу коммунизма» (ст. 6). В следующих главах книги я показываю, что появление подобных формул в Конституции не случайно и совпадает по времени с превращением научных институций в экспертный аппарат государственного управления[211]. Рост символической ценности категории «интеллигенция», одновременно с ростом позиции Академии наук в государственных иерархиях, дает ключ к более ясному прочтению понятийной сетки позднесоветского социализма. Вместе с целым рядом сопутствующих изменений эти сдвиги не отменяют риторику классовой борьбы окончательно, но растворяют их в понятийном строе «научного управления» – управления обществом и «научно-техническим прогрессом», – которому посвящена отдельная VI глава настоящей книги.
Если «интеллигенция, или служащие» выступают структурной основой «однородности», то в более высоком регистре внутриполитического высказывания формула «новой исторической общности» резюмирует переход от общества антагонистических классов к почти бесклассовому «народу»[212]. Чтобы оценить масштаб произошедшего семантического поворота, будет полезно отвлечься от корпуса официальной речи и обратиться к примеру, лежащему по ту сторону утверждаемой в этой речи доктрины. Текст Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968)[213] принадлежит к числу первых неподцензурных политических манифестов позднесоветского периода, опубликованных за рубежом[214]. Фрагменты, легшие в основу брошюры, исходно предназначены для печати в официальных СМИ, но отвергнуты цензурой. Переработанный и дополненный текст распространяется уже как самиздат. В силу такого двойного статуса документа особенно интересно представление в нем вопроса о социальной структуре советского общества. На деле единственной новацией по отношению к трехчастной схеме, которую мы можем обнаружить в тексте, выступает лапидарное упоминание (в сноске) «особого класса – бюрократической “номенклатурной” элиты» из зарубежных публикаций, в существовании которого автор признает «непонятную… долю истины». В остальном текст отсылает к ортодоксальным категориям «рабочих», «крестьянства» и «интеллигенции», противопоставляет свободную мысль «мещанству» и вводит тезис о схождении социальных противоположностей: «Можно сказать, что наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции»[215].
Оценить сходство социальной структуры из текста Сахарова с официально санкционированной типологией позволяет множество текстов, посвященных теме «социальной однородности». Я воспользуюсь только одним примером, более поздней социологической статьей (1979), которая иллюстрирует социальное сближение рабочих и интеллигенции. Сравнение позволяет убедиться, что оба высказывания выстраиваются на сходных допущениях стирания классовых границ: «В центральной части [схематичной] шкалы займут место пограничные слои рабочего класса (рабочие-интеллигенты) и интеллигенции (интеллигенты-рабочие), в труде которых сочетаются непосредственное воздействие на предмет труда и сложная умственная деятельность. Эти слои в социалистическом обществе характеризуют частное слияние рабочего класса с интеллигенцией»[216]. Специфика второго текста состоит в том, что он служит целям публичной демонстрации на международной сцене преимуществ социалистического образа жизни, т. е. расположен на жанровом полюсе, противоположном сахаровской брошюре.
Ограничивается ли сдвиг в понятийной сетке официальной риторики и социальных наук прибавлением третьего элемента к прежде бинарной классовой структуре и их номинальным слиянием? Если нет, к каким структурным следствиям ведет появление в центре этой сетки понятия «однородность», усиленного «научным управлением»? Вероятно, одним из наиболее заметных и важных эффектов становится тенденция, прямо противоположная слиянию классов до неразличимости: насыщение словаря публичного высказывания дифференцированными техническими категориями, отражающими разнообразие социальных позиций. В ходе экспертной и исследовательской работы, выполняемой преимущественно в рамках недавно учрежденных дисциплин, математической экономики и «конкретных социологических исследований», два с половиной официально признанных класса советского общества: доктринальные рабочие, колхозное крестьянство и прослойка советской интеллигенции, или служащих, – переводятся в технические (в первую очередь, отраслевые) группы на основе показателей распределения доходов, обеспеченности жильем, уровня образования и т. д. В результате в публичный оборот вводятся весьма тонкие социальные деления, вплоть до разбиения отдельными авторами социопрофессиональных категорий на дробные учетные подгруппы: «инженеры-исследователи», «инженеры-технологи», «инженеры-эксплуатационники», «инженеры-руководители» и т. д.[217]
Детализация и возможность научного учета, как следствие введения неполитических параметров в социальную структуру, отвечает требованиям научного обеспечения режима социализма. Но этим мотивы и последствия введения технических типологий не ограничиваются. Новые модели советского общества принципиально совместимы с параметрами описания социальной структуры «буржуазного общества» и призваны политически обосновывать преимущества социализма на универсальном языке международных сравнений[218]. Конечно, у частичной замены политических классовых типологий техническими социопрофессиональными[219] имеются существенные ограничения. Прежде всего использование технических признаков социальной структуры сопровождается жесткой доктринальной критикой как «теорий среднего класса», о которой я упоминал ранее, так и понятий из того же смыслового кластера: «социальной стратификации» и «социальной мобильности». Один из ранних авторов переводит «социальную стратификацию» с явно негативной коннотацией – как «социальное расчленение»[220]. Тем самым даже терминологически здесь заявлена дистанция, отделяющая «буржуазные измышления» от «подлинных» различий и возможностей, свойственных социалистическому обществу. Однако для целей исследования эти понятия вскоре адаптируются в более нейтральном терминологическом переводе. «Мобильность» приобретает у советских социологов терминологическую форму «перемещений» и «подвижности». Терминологическими эквивалентами «стратификации» становятся «социальный состав» и «социальная структура». Низкая символическая ценность закреплена за понятиями в их исходной терминологической форме вплоть до конца 1980-х годов. Термин «социальная стратификация», который сегодня совершенно естественно вписан в академическую и экспертную речь, нормализован лишь в начале 1990-х[221], по всем признакам, встречая меньшее сопротивление, нежели «средний класс».
Следует отметить, что социопрофессиональные типологии, которые в рамках риторики «однородности» размывают отчетливые классовые деления, наиболее последовательно вводятся на узконаучном полюсе исследовательской литературы. Для экспертной (и далеко не всегда публичной) и, тем более, для доктринальной презентации разработок перед лицом государственной администрации социологи и экономисты прибегают к официальным понятиям-посредникам, при помощи которых совершают обратный перевод социопрофессиональных делений в классовые. Такую роль выполняют две кардинальных оппозиции: во-первых, «ручного и умственного труда», во-вторых, «города и деревни»[222]. Именно они функционируют как маркеры классовых различий при социализме. Оперируя статистическими показателями «частичного слияния рабочего класса с интеллигенцией»[223] или «индустриализации сельскохозяйственного труда» как доказательствами проектного движения к бесклассовому обществу[224], экспертная и публичная речь «социальной однородности» выстраивается в форме апологии снижающегося разрыва между этими полюсами. Итогом операций двойного перевода становятся, на первый взгляд, бессодержательные формулы, подобные этой: «С установлением политической власти рабочего класса социальная функция образования… направляется на преодоление классовых различий и достижение социальной однородности обществ»[225].
В целом представление социальной структуры периода «социальной однородности» содержит по меньшей мере три взаимосвязанные и отчасти взаимопереводимые понятийные типологии. Во-первых, это наделенная высшей доктринальной легитимностью трехчленная модель «рабочие – крестьянство – служащие (интеллигенция)», которую мы обнаруживаем на переднем плане официальных выступлений, в корневых рубрикаторах и теоретическом оформлении академической и экспертной речи. Во-вторых, это социопрофессиональные типологии на полюсе описательной статистики и административной экспертизы, которые, в зависимости от прагматики, могут ограничиваться обширными отраслевыми распределениями в статистических справочниках, например числом работников в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле и т. д.[226], или дифференцировать каждую отрасль по характеру труда, к примеру, выделяя «рабочих», «инженерно-технических работников» и «служащих» в промышленности[227]. В-третьих, это исследовательские типологии, основанные на комбинации показателей: профессиональной принадлежности, полученного образования, наличия руководящих функций, – которые позволяют различать, например, «учителей», «инженеров», «работников сферы обслуживания», «квалифицированных рабочих-машиностроителей» и т. д.[228] Типологии третьего типа выстраиваются с учетом их возможного перевода на язык классовых различий (в первую очередь в бинарных терминах «город и деревня», «ручной и умственный труд»), однако очевидно, не в меньшей степени они обязаны языку международных, в частности американских, социологических классификаций. Третий тип полнее прочих согласуется с введением третьей социальной силы в официальное представление социальной структуры СССР. Чаще и детальнее он кодирует внутренние деления паракласса «интеллигенции, или специалистов», нежели двух других классов. Ту же характеристику словаря социальных различий позднесоветского периода можно передать иначе. Следуя за методологическим сдвигом от классовых типологий к социопрофессиональным, который в 1960-1980-е годы характерен для международных социальных наук в целом и совпадает с ростом числа исследований, советские авторы оперируют параклассовыми подкатегориями «бесклассового общества»: «интеллигенции» и «служащих» – там, где в ряде международных публикаций в подобных случаях вводится деполитизированная терминология «среднего класса».
Нормализация «среднего класса» (1990-2000-е годы)
Именно это усложнившееся и остаточно политизированное представление о позднесоветской социальной структуре служит отправной плоскостью для экспериментов с социальными понятиями, к которым с самого конца 1980-х годов прибегают публицисты, а позже и академические авторы. «Упрощенная» схема даже подвергается партийной критике, вместе с «застывшим образом социалистических производственных отношений… лишенным противоречий и динамизма многообразных интересов… различных слоев и групп»[229]. Однако «изобретение» новых социальных категорий, хотя бы частично обеспеченное исследованиями, происходит медленно не только в случае «среднего класса». В целой серии контекстов, имеющих прямую связь с представлением социальной структуры, академические авторы более десятилетия пользуются позднесоветской терминологией, комбинируя официально санкционированный арсенал с неофициальным словарем «курилок». Так, в первые годы реформ социологи активно обсуждают вопросы общественного распределения при переходе к рыночной экономике, когда государство перестает регулировать зарплаты[230]. Понятие «социальной справедливости» смещается на периферию академической речи уже к середине 1990-х годов и нейтрализуется в количественных технических показателях. Но в начале 1990-х оно определяется через целую серию контекстов, которые сообщают ему острую актуальность: либерализация цен, размер пенсий, плохое снабжение продовольствием, дерегуляция оплаты труда, жилищная проблема, денежная реформа и т. д.[231] Опорные социальные понятия, звучащие в этой дискуссии, – слабо структурированные по социологическим меркам категории «работников», «собственников», «партийных управленцев», «пожилых». А ключевые аргументы, такие как указание на согласие или несогласие с реформами, лишения и преимущества перехода, последствия новой социальной политики, в большинстве случаев отсылают к еще более общим понятиям: «народ», «люди» и даже «человек»[232]. Такую модель высказывания о социальных изменениях укрепляет бурно развивающаяся индустрия опросов общественного мнения, в основу которой положено понятие «населения» как такового. Социальные деления здесь заменяются процентными долями числа опрошенных или, в лучшем случае, сводятся к возрастным и географическим[233].
Можно предположить, что подобный отказ от детализации социальных различий обязан растущей эмпирической неопределенности социальной структуры реформируемого общества. Более обоснованный взгляд, однако, будет заключаться в том, что к концу советского периода понятийное видение социальной структуры уже в высшей степени неопределенно под действием официальной доктрины однородности[234]. Верно, что «переход» размывает границы социопрофессиональных групп, введенные социологами и экономистами ранее. Но какое основание это размытие обнажает? Глобальная трехчастная шкала «рабочие – крестьянство – служащие (интеллигенция)» используется преимущественно доктринально, а не административно уже в позднесоветский период[235]. Классовые деления, в 1920-х годах уложенные в простую бинарную схему антагонистических сил, к 1970 г. переведены в общее разделение на город и деревню, ручной и умственный труд. По сути, в поворотной для политического режима точке доктрина социальной однородности раскрывается как социальная неопределенность. Она оформляет контекст ранних послесоветских дебатов о распределительной справедливости, где отсутствуют сколько-нибудь ясные деления на социальные группы. Это делает невозможной коррекцию сверхоптимистичных проектов ближайшего будущего для всего «народа»: они не вписаны в какой-либо реалистичный горизонт предвидения, который уже в момент «перехода» позволял бы проблематизировать отношения между потенциальными выигравшими и проигравшими.
В этом контексте проект социально неоформленного «среднего класса» звучит как одно из обещаний всеобщего благополучия на фоне резкого снижения общих доходов и политической поляризации. Из сказанного ранее можно понять, в какой мере попытки переизобретения новой социальной категории в послесоветской публичной речи поначалу подчиняются политической самоцензуре, а в какой отвечают libido sciendi – влечению к власти, реализованной в форме понятий и типологий. Центры академической экспертизы, основанные в советский период, в целом редко генерируют новые социальные категории. В первой половине 1990-х годов неопротестованному этосу позднесоветских академических институций, который сдерживает это влечение, противопоставлен политический императив стабилизации нового режима, побуждающий публицистов и обладателей нетривиальных академических биографий первыми предлагать спасительный монолит «средний класс». Введение понятия-проекта «среднего класса» поначалу обязано близости его носителей к центрам политической дискуссии.
Другим источником экспертного и академического вдохновения становится запрос со стороны международных фондов и представительств, которые с переменным успехом утверждают новые социальные и политические категории на зыбкой почве «молодой российской демократии». В первой главе я упоминал о масштабной программе Европейского союза, американских и наднациональных центров, которым принадлежит активная роль в реформе институтов и понятий послесоветского периода. Интерес к «среднему классу» как гаранту международной политической и экономической безопасности обозначен этими центрами влияния еще в середине 1990-х. Но поначалу их воздействие на академическую речь о «социальном стабилизаторе» носит опосредованный характер, пока приоритет в программах поддержки остается за собственно политическими понятиями-проектами, такими как «демократия», «гражданское общество» или «рынок». Уже конце 1990-х ряд крупных эмпирических исследований и дискуссий становится результатом их прямого включения в академические обмены, куда они привносят интерес к перспективным социальным категориям пореформенного российского общества. Тем самым результат, которого не достигает партийная критика конца 1980-х, десятилетием позже восполняет международная грантовая система. Понятие «среднего класса», пережившее публицистический проектный пик в первой половине 1990-х, заново вводится в публичную дискуссию как предмет эмпирической диагностики. Здесь можно упомянуть коллективное исследование «Есть ли средний класс в России?» (1998–1999), которое проводится Российским независимым институтом социальных и национальных проблем по заказу московского представительства немецкого Фонда Эберта[236], исследование Германа Дилигенского «Люди среднего класса» (1997–2000), которое обеспечено грантом Фонда Маккартуров[237], коллективное исследование о «стратегиях среднего класса» по гранту Фонда Форда (2000)[238], а также тематические исследования и дискуссии, поддержанные Центром Карнеги, Тайбейско-Московской Комиссией по экономическому и культурному сотрудничеству в РФ (Тайвань)[239] и некоторыми другими инстанциями. Продолжительность иных программ не ограничивается традиционными для таких случаев одним-тремя годами. Например, Фонд Эберта финансирует серию исследований, где теме «среднего класса» отводится одно из ключевых мест, на протяжении десятилетия[240].
Как участие международных центров влияния в российской академической повестке сказывается на смысле и ценности понятия «средний класс»? То, что обращает на себя внимание: это участие ведет к росту общей ценности понятия, но не к гармонизации смыслов у различных исследователей и в отдельных дисциплинарных сегментах. Серия исследований по-прежнему оставляет под вопросом эмпирический статус новой категории, не в последнюю очередь из-за существенного разброса в оценках ее численности, которые решающим образом зависят от избранных критериев. Ранее я уже цитировал академические тексты, изобилующие оговорками о приложимости понятия к российскому обществу. На академическом подъеме эта неопределенность сохраняется. Хотя количественное описание придает категории «больше» существования, растущий позитивизм в ее определении отнюдь не усиливает проектного libido. Со второй половины 1990-х и далее мы с трудом обнаружим примеры увлеченного пророческого обращения к «среднему классу», в духе Токвиля и Прудона, которые давали бы образцы последующей социоинженерной работе. Более того, в значительной мере социальный проект, который отвечал бы этой категории, остается неочевидным для российских авторов, берущихся за ее исследование. Нередко высказывание о ее значениях содержит эллипсис, например, указание на «определенные социальные функции», которые при этом не определяются[241]. Тем самым многие академические авторы продолжают использовать понятие как заемное, что вполне соответствует логике опережающего интереса к нему со стороны политических игроков и международных инстанций. Единственной общей темой, вокруг который продолжается оживленная дискуссия, остается вопрос о численности и границах «среднего класса»[242]. Разные и даже те же авторы называют цифры от 3,4 до 54 % населения, в зависимости от используемых критериев.
В целом международные центры влияния – отчасти те же, что обеспечивают финансовой и экспертной поддержкой экономический и политический «транзит», – стимулируя интерес к «среднему классу» в академической среде, генерируют не столько когерентный смысл понятия, сколько сам тематический сектор исследований и интеллектуальных событий, тем самым способствуя нормализации термина в публичной речи. Оценить смысловую дисперсию в определениях понятия к концу 1990-х годов позволяют материалы упомянутых дискуссий о существовании в России «среднего класса». Участники одной из них (1999)[243] – не только те, кто на рубеже 1990–2000-х годов проводят свои первые эмпирические исследования по теме (Людмила Беляева, Елена Авраамова, авторский коллектив основного аналитического доклада), но и авторы, использующие вторичные источники: публикации опросов общественного мнения и интервью, – и эксперты-доктринеры, подобные Иосифу Дискину. В ряде случаев они определяют «средний класс» через объективные показатели образования, квалификации и доходов одновременно с субъективной идентификацией (Авраамова). В некоторых случаях результаты не избавлены от проектного содержания, отраженного хотя бы в наименовании подгрупп: например, «идеальный средний класс» у Беляевой. В иных случаях категория определяется через «либеральные настроения», «высокие западные стандарты» потребления (отсутствие которых отмечают несколько докладчиков), нехватку «своих политических партий… осмысленного интереса к центризму» (Евгений Виттенберг), «цивилизованное общество», «ясные перспективы социального роста» и «ориентацию… на собственные силы и возможности» (Авраамова), советскую «политику уравнивания» (Андрей Здравомыслов), проблемное «право на существование нынешнего общества» и редкий для России «рационально-индивидуальный выбор» (Дискин), «культурно-генетические коды российской цивилизации», «доходы», с одной стороны, и «достоинство», не исключающее «социальных выплат и дотаций», – с другой (Андрей Андреев), «трудовую, паразитарную и промежуточную формы экономической деятельности» (Владимир Глаголев), «дух государственности», «гипотетическое “социальное государство”», экономическую, политическую и социальную «целостность» (Николай Сидоров и Александр Авилов), «пополнение за счет криминализованных групп населения» и «готовность к нарушению норм морали» (Анатолий Королев), историческое «насаждение сверху», «неструктурированную и аморфную массу», «манипулирование со стороны различных политических и партийных сил» и даже возможность превращения в «мощный дестабилизирующий фактор» (Валентин Шелохаев). Ожидаемые расхождения также производит тема существования среднего класса в СССР. За каждым из таких расхождений более детальный анализ позволил бы обнаружить институциональные и биографические различия. Однако в данном случае меня больше интересует вопрос о минимальном смысловом ядре понятия.
Поверх указанных различий общими в контексте большинства выступлений и основного текста доклада остаются проектные признаки, введенные в семантическое поле понятия ранее: стабилизация политического режима, роль опоры в модернизации «на основе рыночных и демократических принципов», отказ от «экстремистских тенденций» в политике, самостоятельность и ответственность в организации собственной жизни. Эти признаки вместе с успехом «адаптации к реформам», закрепленные в образцах публичной речи еще первой половины 1990-х годов, удерживаются в политически заданном поле понятия, выражая господствующий консенсус между российскими и международными инстанциями.
Третьим источником введения понятия в публичную речь с конца 1990-х выступают СМИ. Если фигура публициста-трибуна, освященная харизмой авторского суждения, воплощает перестроечную журналистику, по мере профессионализации ремесла его место на публичной сцене занимают штатные журналисты, анонимные составители пресс-релизов, интервьюируемые эксперты и авторы колонок. Именно их работе по содержательному насыщению понятия наглядными признаками обязана третья генетическая линия в истории термина. Проведенный ранее анализ показывает, что до 1998 г. терминологические упоминания в СМИ малочисленны и в основном контекстуализированы в сфере потребления[244]. Это не делает менее интересным детальное описание контекста, в котором вводится понятие, и его сопоставление с медийными публикациями 2000-х. Однако еще более интересен тот факт, что корпус публикаций о финансовом дефолте 1998 г. становится местом конденсации смысла, где уже в форме наглядных обыденных образов повторно актуализируются элементы ранее очерченного политического проекта, результаты первых академических исследований и «экспертные оценки». Как и во Франции 1920–1930-х годов, на сей раз свойства «среднего класса» перепроизводятся преимущественно не через набор позитивных проектных утверждений, а в контексте «кризиса» и признания «жертвой». Исчезнувшему в одночасье «классу» не отказывают в добродетелях, но таковые полностью диссоциированы со «стабильностью», «поддержкой реформ» и прочими высокими предписаниями. Медийные публикации изобилуют сообщениями о таких добродетелях погибшей социальной группы, как «самая активная и трудоспособная часть населения», «преуспевающие молодые люди», умение «модно одеваться, качестенно питаться и не отказывать себе в маленьких радостях жизни», потеря «не таких уж больших сбережений» и т. д. Здесь же актуализируется контекст западности и столичности, например, через указание на «сферу сервиса вокруг огромной колонии иностранцев в Москве»[245].
Парадоксальным образом кризисный контекст играет на повышение ценности понятия, перенося его из отдаленного и неопределенного будущего в ускользающее, ностальгически окрашенное настоящее. При этом мобилизованная группа, которая говорила бы от лица «среднего класса», на публичную сцену не выходит. В результате монополия на высказывание остается за журналистами. Если социологи сомневаются в реальности этой категории до 1998 г., то журналисты тогда же мгновенно признают ее трагическую смерть после краткого, но бурного расцвета. Эта символическая смерть имеет впечатляющие последствия. Осязаемо наблюдаемого «среднего класса» в российском обществе снова нет. Но массив медийных высказываний о «судьбах среднего класса» в контексте «кризиса» побуждает к речи академических авторов, подобно тому как это происходит во Франции 1930-х годов. Так, каждый второй текст участников социологической дискуссии 1999 г. содержит указание на исключительную важность кризиса предшествующего года[246]. Этот эффект распространяется далеко за пределы первой волны публикаций. Упомянутые исследования «среднего класса» приобретают серийный характер в 2000-х годах, а медийный сектор публичной речи отныне становится главным источником в определении смысла и ценности понятия, в том числе используя высказывания социологов и экономистов в статусе экспертных.
Отдельная интрига состоит в том, что финансовый кризис 1998 г. как следующая поворотная точка в истории понятия объективирует уже не только политический запрос на «средний класс». Один из секторов медийного рынка – источник собственного прагматического интереса к этой социальной категории. Речь идет о «деловых» СМИ: еженедельниках и ежедневной прессе, адресованных в первую очередь руководителям и работникам частного сектора, а также более широкой аудитории, следящей за экономической аналитикой и новостями. Численность «среднего класса», который отождествляется с этой аудиторией, потребляющей сами издания и адресно размещаемую в них рекламу, прямо связана с вопросами рентабельности и даже существования этого сектора. Как следствие, вопрос о «выживании среднего класса» в контексте «кризиса» не просто дает материал для множества разрозненных публикаций. В этом секторе СМИ он оформляется в самостоятельный коммерческий и исследовательский запрос. Флагманом в дальнейшем публичном продвижении понятия становится один из центров «деловой» прессы, издательский концерн «Эксперт». В отличие от ежедневных изданий, которые генерируют кратковременный тематический бум, концерн производит систематический эффект. За 13 лет, с 2000 по 2013 г., термин «средний класс» появляется в более чем 600 статьях на страницах главного издания концерна, журнала «Эксперт»[247]. В единичных случаях речь в текстах может идти об «автомобилях среднего класса» или «гостиницах среднего класса», однако в подавляющем большинстве вхождений термин используется в интересующем меня значении – как название социальной категории. Контексты вхождения здесь более вариативны, нежели в академических публикациях, отчасти с ними пересекаясь. На протяжении 13 лет «средний класс» участвует в «капиталистическом развитии», обеспечивает «массовую ипотеку», создает «спрос на обувь и одежду», становится клиентом «обслуживания», переживает «рождение», вызвав шок наблюдателей, «борется за выживание», «занимает нишу», «преодолевает отметку в 30 %», доказывает «рост благосостояния», симпатизирует Союзу правых сил и «Единой России», «заботится о своем здоровье», уверен в том, «что будущее… детей обеспечено», служит «опорой демократии», умеривает «спрос на недвижимость», участвует в террористических организациях (в Пакистане и США), существует за счет «банковского кредита», переживает «снижение доходов», «сидит в своих офисах», не может дождаться «решения своих проблем» в городе, «потоком» покидает моногорода, «стабилизирует практически на всех рынках» свой спрос, отсутствует в стране, которую «получил президент Путин», участвует в «национальном движении» (Украина), становится предметом исследования «Эксперта» и т. д.
Этот последний, исследовательский контекст произведен механизмом, который вносит новый смысл в конструкцию понятия. В 2000 г. журнал «Эксперт» учреждает собственное маркетинговое агентство. Его функция полностью отвечает двойному, коммерческому и познавательному запросу «деловых» СМИ[248]. Исследовательский проект с ежегодным бюджетом 600 тыс. долл. в год, получивший название «Стиль жизни среднего класса», ведется на протяжении более пяти лет, основываясь на ежеквартальных анкетных опросах[249]. В этом отношении он призван составить конкуренцию как другим маркетинговым агентствам, так и экспертным центрам академической социологии. Результаты опросов конвертируются в отдельный продукт, который концерн предлагает на маркетинговом рынке. В ходе создания спроса на информацию о «среднем классе» понятие оснащается новыми характеристиками, например, отождествляется с активными национальными «потребительскими слоями». Конструируя «средний класс» в качестве объекта маркетингового исследования и описывая «не самый крупный, но концентрированный сегмент общества», который «потребляет 70–80 % общего объема товаров и услуг на большинстве потребительских рынков», концерн вводит или усиливает ряд социальных оппозиций, которые образуют проектный контекст «среднего класса» как сегмента потребительского рынка. К числу таких оппозиций относится противопоставление среднего класса «пассивным потребителям», когда концерн предлагает потенциальным заказчикам избегать «лишних издержек… не рассеивая внимание на пассивные потребительские слои населения страны» (с. 7). Маркетинговая прагматика предлагаемого информационного продукта сама выступает неявным горизонтом дополнения и частичного переопределения смысла категории. Подразделение «Эксперта» предлагает использовать полученные данные для «определения настоящего и потенциального объема рынков», «прогнозирования спроса», «многомерного сегментирования потребителей», «планирования рекламных кампаний», «анализа поведения потребителей», «планирования территориального развития» и близких коммерческих задач (с. 8–11). Это сближает смысл понятия с поздними «потребительскими» образцами риторики евробю-рократии, на которых я кратко останавливался в первой главе книги.
Но даже приобретая рыночное значение – не в смысле политического императива свободного рынка, а в смысле одного из сегментов платежеспособного спроса, – проектная категория не полностью редуцируется к экономическому измерению. В определение, которое вводит концерн «деловой» прессы, интегрированы смыслы, произведенные ранее в публицистическом и академическом секторах. К ним также прибавляется характеристика, которая вносит новый элемент во всю историческую конструкцию российского поля понятия. Резюмирующая формула звучит следующим образом: «Российский средний класс – это люди, которые благодаря своему образованию и профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватный уровень потребления и образ жизни» (с. 5). Здесь в свойства «средних» включены и квалификация с образованием, и даже адаптация к рыночным реформам. Принципиально новой становится диспозиция заботы – обеспечение «своих семей», – которая не встречается ни в одной из ранее описанных речевых позиций. По сути, введение такого признака – это попытка переопределить весь проект, переведя его из режима политического будущего в осязаемый этический регулятив.
Было бы так же интересно рассмотреть критерии и внутреннюю структуру «среднего класса», как они представлены, с одной стороны, в исследовании «Эксперта», с другой – в упомянутых академических публикациях, например, в докладе РНИСиНП «Средний класс в постсоветской России» (1999)[250]. Это могло бы продемонстрировать конкурирующие логики экспертного оформления понятия-проекта, различным образом использующие средства науки. Не менее красноречивым дополнением к этому может стать анализ риторических стратегий, в частности, использование в тексте «Эксперта» синонимического термина «средние русские», который выполняет в высказывании нормализующую функцию, сходную со ссылками на зарубежные публикации в академических текстах. Наконец, отдельный предмет изучения составляет топика «среднего класса» – набор общих мест, которые не только спонтанно используются в изготовлении понятия в конкурирующих позициях, но и циркулируют в не связанных напрямую хронологических и международных контекстах. К их числу относятся, например, геометрические фигуры ромба и пирамиды, риторическая оппозиция «промежуточного положения» и «крайностей» или отсылка к добродетелям «средних» у Аристотеля, буквально цементирующая воображение о «средних слоях» и «классах» у производителей всех жанров, от авторов университетских учебников до маркетинговых аналитиков[251]. Внимание к этим элементам позволяет уточнить вклад отдельных институциональных позиций в семантику «средних», как и механизмы создания результирующего смыслового ядра. Однако сейчас я хочу уделить внимание не им, а одному свойству понятия, которое плотнее прочих связывает его с актуальностью и объективирует интерес разных авторов к конкретным формам социального воплощения этого проекта.
Императив стабильности режима как основополагающего политического raison d'tre российского «среднего класса» в перспективе исследования неизбежно влечет за собой вопрос о собственных политических свойствах этой категории. Какие политические предпочтения и действия предписывают «среднему классу» авторы, занимающие разные позиции в производстве понятия? Какое место среди них отводится такому аргументу существования новой социальной категории, как политическое участие ее представителей? Прежде чем обратиться к предлагаемым в 1990–2000-е годы вариантам, следует снова вспомнить, что в доктринальном советском определении, введенном в сталинском тексте 1923 г., «средним слоям» отводится роль «резерва» и пассивного предмета «завоевания» конкурирующими политическими доктринами. Предельно амбивалентные в политическом отношении «средние» здесь обречены следовать за сильными воздействиями и убеждениями[252]. Дискуссии рубежа 1950–1960-х годов корректируют эту формулу, признавая собственную «борьбу средних слоев». Однако и в скорректированном значении понятия эта борьба имеет ценность и смысл только в контексте союза с «борьбой пролетариата против капиталистических монополий». Публичная речь рубежа 1980– 1990-х годов наделяет «средних» новой степенью автономии: ряд авторов настаивает на их независимости от патерналистского государства и личной ответственности за свою жизнь. Но такая автономия не распространяется на свободу выбора доктрины и любую политическую чувствительность, пока одной из главных добродетелей признается «подлинный центризм, столь необходимый для цивилизованного развития России»[253], включая отказ голосовать за «коммунистов и националистов»[254], а в некоторых случаях – воздержание от любого политического участия, помимо выборов.
Каким бы странным это ни казалось в контексте критики девальвированного советского режима, «средний класс» рубежа 1980–1990-х годов – это квинтэссенция государственного духа будущего в той мере, в какой политическая автономия опорного «класса» нового государства строго ограничена императивами поддержки государственных реформ и господствующей государственной доктрины. Укрепление ценности политической свободы, либеральной экономики и демократии как проектных ожиданий, вписанных в новую социальную категорию, в действительности объективирует крайне узкую политическую чувствительность. Ее нередко разделяют сами авторы высказываний о «среднем классе», спонтанно проецируя ее и на проектную социальную группу. Это делает более понятными политические добродетели, которые приписывают «среднему классу» некоторые авторы рубежа 1990–2000-х годов. Так, Людмила Беляева описывает свойства «идеального среднего класса», который в реальности уже обладает необходимыми проектными чертами, как «наиболее либерально настроенную группу, которая не только получила от реформ наибольшие выгоды… но и настаивает на продолжении реформ, так как ее многое устраивает из того, что произошло»[255]. По мнению Леонида Гордона, единство проектной группы обеспечено ее «склонностью отрицания экстремизма, склонностью принимать и продолжать реформы»[256]. «Ориентация на собственные силы и возможности» также далеко не всегда служит выражением политической автономии. Среди признаков субъектности среднего класса, которые называет Елена Авраамова, нет ни выраженных политических предпочтений, ни политического участия[257]. Ранее я приводил элементы классификационной схемы Татьяны Заславской, которая прямо связывает отдельные позиции в социальной иерархии с готовностью принять государственные реформы. Учредительные действия в элитистской модели модернизации, которую она предлагает, принадлежат «верхнему слою»; политическое участие «среднего слоя» ограничивается исполнением высшей воли.
Споры о существовании среднего класса зачастую описывают его не как самостоятельную социальную силу, но как объект режима экономического благоприятствования и даже как объект отдельной «политики стимулирования развития среднего класса»[258]. В этом контексте использование «степени влияния на принятие властных решений различного уровня» как показателя принадлежности к среднему классу звучит более чем отвлеченно, вернее, достаточно полно укладывается в патерналистскую модель социального управления, которая господствует в позднесоветский период и которой исследоатели и публицисты 1990-х годов адресуют жесткую критику. Авторы, признающие примат культуры в описании социальных различий, могут приписывать «среднему классу» высокую степень автономии, но также оснащают его миссией «публичного представительства общества перед ним самим»[259], которая исключает политическое участие. Они квалифицируют эту миссию как «известное бремя социальной и моральной ответственности», которая предполагает, например, способность «вернуть обществу уважение к норме, к нормальности как таковой»[260].
Даже Герман Дилигенский, который противопоставляет сугубо формальным критериям и авторитарным соблазнам в конструировании проектной категории необходимость рассматривать собственную активность групп, отождествляемых со средним классом, в заявленном духе методологического индивидуализма ограничивает сферу этой активности профессиональной самореализацией[261]. Политические свойства, реконструируемые на основании массовых опросов, сводятся здесь к электоральным предпочтениям или согласию с тем или иным доктринальным тезисом: об индивидуальной свободе, социальном равенстве и т. п. Вероятно, это наиболее радикальное выражение того декларативного противостояния патернализму, которое часто звучит в теоретических определениях среднего класса. На полюсе «деловой» экспертизы политические свойства «среднего класса» также остаются неопределенными. В цитированном докладе концерна «Эксперт» политические практики не фигурируют среди потребительских черт[262]. Во всем обширном корпусе экспертной и академической речи о «среднем классе» 1990–2000-х годов, насыщенной рефлексией о его критериях, численности и границах, мы с трудом найдем такой показатель реализации проекта, как производство собственных форм мобилизации и политических институтов. Вероятно, единственным заметным исключением становится книга Бориса Кагарлицкого «Восстание среднего класса»[263]. Но ее политическое высказывание о «бунтующей массе» в наименьшей степени относится к российскому «среднему классу». Автор предлагает критическую диагностику мировых процессов в том экстерриториальном режиме, который сближает ее с моделями контекстуального определения «среднего класса» в некоторых образцах общественной мысли русского XIX века.
Отказ российскому «среднему классу» в политическом участии включает понятие в невидимое смысловое напряжение с, казалось бы, семантически и социально близкой категорией «гражданского общества», которая занимает одно из центральных мест в понятийной сетке нового порядка в начале 1990-х годов. Ранее я указывал на общие элементы контекста, которые позволяют осторожно предполагать наличие диффузного общего проекта, объединяющего эти понятия. На деле признак автономной гражданской и политической активности разводит их на противоположные полюса социального лексикона нового порядка. «Средний класс» как привилегированный «субъект перемен», «субъект модернизации» описывается в качестве обширного социального слоя, расположенного приветствовать отказ государства от всеобщих социальных гарантий, одобрять новый экономический режим, нести основные потребительские расходы из собственного бюджета и голосовать за правоцентристские партии. Строго говоря, по контрасту с «гражданским обществом» такая модель «субъектности» не предполагает иных форм политической мобилизации, помимо молчаливого согласия, и безразлична к компетентности участников социальных обменов в утверждении своих социальных прав и свобод. Этот «класс» обладает всеми необходимыми свойствами для политической мобилизации: образование, квалификация, благосостояние, гражданское сознание – и никогда не рассматривается в качестве ее участника. В этом наборе свойств он без противоречий вписывается в модель политической «стабильности» второй половины 2000-х годов, которая неожиданно оказывается вполне успешным воплощением будущего из проектных ожиданий 1990-х: государством с достатком и без катаклизмов.
Молчаливый отказ «среднему классу» в реализации его потенциала политического участия, который мы наблюдаем в академическом и экспертном секторе, также хорошо согласуется с результатами анализа СМИ, проведенного Ольгой Александровой. По ее наблюдению, в конце 1990-х годов большинство публикаций, посвященных среднему классу и смежным темам, не приглашают к политическому участию, а «отвращают» от него[264]. В этой не вполне явной политической повестке и тех свойствах, в каких авторы отказывают проектной категории, «средний класс» во многом сохраняет деполитизированный и конформистский смысл, несмотря на номинальные предписания эмпирическому референту этого понятия «активной позиции» и стремления к свободе.
Подобный сбой, заложенный в архитектуру понятия, составляет очевидный контраст с оценками ряда международных академических исследователей, для кого наличие «форм коллективного действия, позволяющих… выражать и защищать свои интересы» служит показателем реализации российского проекта «среднего класса»[265]. Именно политическая автономия возвращает понятие в контекст «демократии», из которого de facto оно все отчетливее выпадает в речи российских авторов. Надежды на политическое участие «среднего класса» могут связываться даже не столько с вопросом о его существовании, сколько с наличием сил, деятельно защищающих демократию от внутренних рисков «перехода»: «Представители средних классов могли бы создать гражданские организации и механизмы коллективного действия, которые позволили бы им служить противовесом олигархии и оплотом демократии»[266]. При всех частных расхождениях между российскими авторами, на которые я указывал ранее, их в первую очередь сближают политические критерии, в которых переопределяется социальная структура нового общества. Предписывая «среднему классу» безупречную доктринальную и ценностную дисциплину, а также роль счастливого реципиента государственных реформ, корпус публичных высказываний во многом продолжает линию принудительной социальной гармонии, характерную для позднесоветской доктрины «бесклассового общества».
Таким образом, libido sciendi, лежащее в основании этого понятия-проекта, оказывается не столь выраженным, как этого можно было ожидать ввиду угроз социальной дезинтеграции, массово рассеянных в корпусе публичной речи 1990-х годов, и возможностей, которые открываются для изобретения социальных категорий при «транзитном» размытии социопрофессиональных иерархий. Проектная категория, которая, казалось, разрывает со всеми очевидностями начала 1990-х, всего десятилетием позже вписана в куда менее амбициозное и более проблематичное настоящее, чем это представлялось авторам первой публицистической волны. Период «стабильности», торжественно объявленный в 2000-х годах, санкционирует политический смысл проекта. Признаки «благосостояния» и «умеренности», среди прочих, не просто удерживаются в его семантическом поле, но, благодаря «деловым» и ежедневным СМИ, все более детально переводятся на язык потребительских свойств. И все же, неопределенность, которая по-прежнему отмечает дебаты о существовании «среднего класса» в 1990-х, поддерживает интригу. С ростом числа публичных высказываний (после 1998 г.), которые сообщают широкой аудитории о неведомом классе, тот превращается в тайную, еще не проявившую себя социальную силу, которая, вероятно, зреет где-то в глубинах социального тела. Место в категориальной сетке нового порядка зарезервировано и наделено ценностью, но пока не заполнено осязаемой и наглядной реальностью. Может быть, средний класс лишь ждет шанса явить себя миру?






