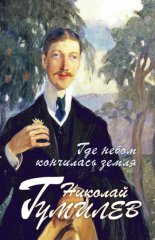Гиперион. Падение Гипериона Симмонс Дэн
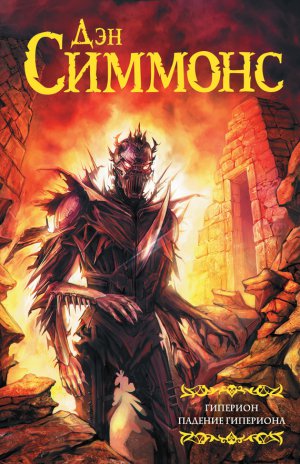
Король Билли поднял толстую пачку, помедлил немного и начал читать вслух верхнюю страницу:
- …искал напрасно я опору
- Бессильной бренности своей, когда на плечи
- Покоя вечного легла мне тяжесть.
- Тот сумрак неизменный и три недвижные фигуры
- Мои терзали чувства долгий месяц.
- Пылающий мой разум измерял
- Серебряной Селены превращенья,
- И с каждым днем я походил все боле
- На бестелесный призрак. Молил я смерть
- Об избавленье от плена тяжкого
- Юдоли этой… И, задыхаясь в ожиданье тщетном,
- Судьбу свою бессчетно проклинал.[26]
Подняв лицо к звездам, король Билли предал эту страницу огню.
– Нет! – прохрипел я и невероятным усилием заставил ноги согнуться. Встав на одно колено, я попытался опереться на ватную руку, но тут же повалился на бок.
Черный силуэт в королевской мантии поднял еще одну пачку – слишком толстую, чтобы свернуть ее в трубку, – и стал читать еле видимые в темноте строки:
- …и я лицо увидел,
- Людской не тронутое скорбью, но с печатью
- Неизгладимою тоски извечной, что убивает
- И убить не может, которой Смерть сама
- Не в силах положить конец; черта любая
- В нем гибель призывала. Белизной и хладом
- Оно превосходило и лилии, и снег, но эту грань
- Мой разум преступить не смеет…[27]
Щелчок зажигалки – и еще полсотни страниц полыхают огнем. Король бросил горящие листы в чашу фонтана и потянулся за следующей пачкой.
– Не надо! – Всхлипнув, я выбросил тело вверх и, изо всех сил напрягая ноги, чтобы одолеть сумятицу нервных импульсов, привалился к скамье. – У-мо-ляю!
И тут на сцене появилось новое действующее лицо. Нет, не появилось – встряхнуло мои мозги, чтобы я наконец обратил на него внимание. Казалось, он был здесь и раньше, но ни я, ни король Билли просто не замечали его, пока пламя не разгорелось ярче. Невероятно высокий, четверорукий, покрытый сверкающим панцирем, Шрайк устремил на нас свой огненный взгляд.
Король Билли шумно вздохнул и отступил было на шаг, но затем снова двинулся вперед, чтобы бросить в огонь очередную порцию рукописей. Тлеющий пепел вместе с дымом уносился вверх. С полуразрушенного купола, увитого диким виноградом, сорвалась стая голубей. Хлопанье их крыльев прозвучало, как выстрелы.
Я шагнул за королем и едва не упал. Но Шрайк даже не шелохнулся, даже глазом не повел.
– Убирайся! – закричал король Билли. Он уже не заикался. Он стоял, держа в руках кипы горящих листов, и кричал срывающимся голосом: – Убирайся! Убирайся в бездну, которая тебя породила!
Мне показалось, что Шрайк чуть наклонил голову. Алые отблески пламени играли на металлических гранях его тела.
– Мой повелитель! – выкрикнул я, но кому были адресованы эти слова, королю Билли или сверкающему исчадию ада, я и сам тогда не знал и не знаю до сих пор. С трудом сделав несколько шагов, я попытался схватить Билли за руку.
Но на прежнем месте его уже не было. Секунду назад я мог бы коснуться его рукой, а сейчас он висел в воздухе над каменными плитами двора, метрах в десяти от меня. Пальцы чудовища, словно стальные шипы, пронзили его руки, грудь, бедра, но, корчась от боли, король по-прежнему сжимал в кулаках горящие страницы «Песней». Шрайк держал его перед собой, как отец, поднявший сына над крестильной купелью.
– Уничтожь! – кричал Билли, беспомощно дергая проколотыми руками. – Уничтожь!
Я остановился у края фонтана и оперся на парапет. Что я должен уничтожить? Шрайка? Потом я решил, что он имел в виду поэму… И наконец до меня дошло: и то, и другое. Кучи рукописей – не менее тысячи страниц – лежали на дне фонтана. Я поднял канистру.
Шрайк не сдвинулся с места, а в следующее мгновение он едва заметным плавным движением прижал короля Билли к своей груди. Билли скорчился от боли и слабо вскрикнул, когда длинный стальной шип, разорвав его аляповатый шелковый наряд, вышел над самой грудной костью. Я тупо уставился на него и почему-то вспомнил коллекцию бабочек, которую собирал в детстве. Потом медленно и неуклюже, как автомат, принялся поливать рукописи керосином.
– Сожги их, Мартин! – задыхаясь, хрипел король Билли. – Ради Бога, сожги!
Я подобрал выроненную им зажигалку. Шрайк не двигался. По королевской мантии, сливаясь с алыми квадратами узора, расползались пятна крови. Я щелкнул древним устройством раз, другой, третий, но пламени не было – только искры летели. Сквозь слезы я смотрел на труд своей жизни, сваленный кучей на дне пыльного фонтана. Зажигалка выпала из моих рук.
Билли закричал и забился в объятиях Шрайка. Я слышал, как сталь со скрежетом прошла по кости.
– Сожги! – хрипел король. – Мартин… О Боже!
Я развернулся, пятью быстрыми шагами преодолел разделявшее нас расстояние и выплеснул полканистры. От керосиновой вони у меня хлынули слезы. Билли и чудовище, державшее его, намокли и выглядели теперь как два комика из старого голобурлеска. Билли моргал и кричал что-то бессвязное, на граненой морде Шрайка отражалось расцвеченное метеорами небо, и в этот момент одна из искр от тлеющих страниц, которые Билли все еще сжимал в руках, попала на керосин.
Я прикрыл лицо руками (поздно – бороду и брови опалило) и стал отступать, пока не уперся в парапет фонтана.
На мгновение этот костер превратился в поразительное огненное изваяние – желто-голубую Pieta[28] с четверорукой мадонной, держащей перед собой тело Христа. Затем объятая огнем фигура скорчилась и выгнулась дугой, словно ее не пронзали стальные шипы и два десятка скальпелеобразных пальцев, и раздался крик, такой крик… До сего дня не могу поверить, что он исходил от человеческой половины этой слившейся в смертельном объятии пары. Крик этот швырнул меня на колени. Тысячекратно отраженный от каменных стен, он возвращался ко мне снова и снова, поднимая в воздух голубей со всего города. Крик не прекратился и после того, как пылающее видение разом пропало, не оставив после себя ни кучки пепла на земле, ни пятнышка на сетчатке. Прошла еще минута или две, прежде чем до меня дошло: теперь кричу я сам.
Все пошло прахом, как, впрочем, и следовало ожидать. В реальной жизни хорошие концовки случаются редко.
Несколько месяцев, а может, и целый год, я переписывал испорченные керосином страницы и восстанавливал сгоревшие. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что поэму я так и не закончил. И дело тут не во мне. Моя муза ушла.
Град Поэтов дряхлел и разрушался. Я прожил там еще год или два – возможно, и все пять. Право, не помню. Тогда я был малость того. Доныне сохранились записи первых паломников, повествующие об изможденном, оборванном, заросшем бородою человеке с безумными глазами, который нарушал их гефсиманский сон непристойными выкриками. Этот помешанный постоянно околачивался возле Гробниц и, потрясая кулаками, требовал, чтобы трусливая тварь, прячущаяся внутри, вышла к нему.
В конце концов безумие выгорело само, хотя угли его тлеют до сих пор. Протопав пешком полторы тысячи километров, я вернулся в цивилизацию. С собой я унес только рукопись. В пути я ловил скальных угрей, ел снег; последние десять дней и вовсе голодал.
Прошедшие с тех пор двести пятьдесят лет, право же, не заслуживают ни воскрешения, ни тем более вашего внимания. Поульсенизации, чтобы дать инструменту возможность жить дальше и ждать своего часа. Две длительные заморозки в нелегальных субсветовых полетах, поглотивших по сотне с лишком лет каждая. И каждая взимала свою дань клетками мозга, памятью.
И все это время я ждал. И жду до сих пор. Поэма должна быть закончена. И она будет закончена.
В начале было Слово.
В конце… былая слава, былая жизнь, былые порывы…
В конце будет Слово.
4
«Бенарес» достиг Эджа на следующий день, немного позже полудня. Одна из мант умерла прямо в упряжи, не дотянув до места назначения километров двадцать; Беттик не стал ее выпрягать, просто перерезал постромки. Другая продержалась до тех пор, пока они не ошвартовались у выцветшего старого пирса, – здесь она вдруг распласталась в изнеможении, и лишь пузырьки воздуха, поднимавшиеся из дыхал, показывали, что она еще жива. Беттик приказал выпрячь ее и выпустить в реку, объяснив, что в проточной воде у загнанного животного еще есть шансы выжить.
Проснувшиеся на рассвете паломники любовались разворачивающимся перед ними пейзажем. Разговаривали они мало, а Мартина Силена попросту старались не замечать. Поэта, впрочем, это ничуть не огорчало… Запив вином свой завтрак, он приветствовал восход солнца парочкой непристойных песен. За ночь река расширилась до двух километров и представляла теперь собой огромную тускло-синюю дорогу, прорезавшую невысокие холмы к югу от Травяного моря. Здесь, на подступах к морю, деревья исчезли, а коричневато-золотистый вересковник мало-помалу сменили двухметровые ярко-зеленые северные травы. Холмы становились все ниже, пока не исчезли совсем, и по обеим сторонам реки теперь тянулись густо поросшие травой обрывистые берега. На севере и востоке над горизонтом повисла едва заметная темная полоска, и тем паломникам, которые жили прежде на планетах с океанами и знали, что эта густая синева говорит о близости моря, то и дело приходилось напоминать себе, что единственное в этих краях море представляет собой несколько миллиардов акров травы.