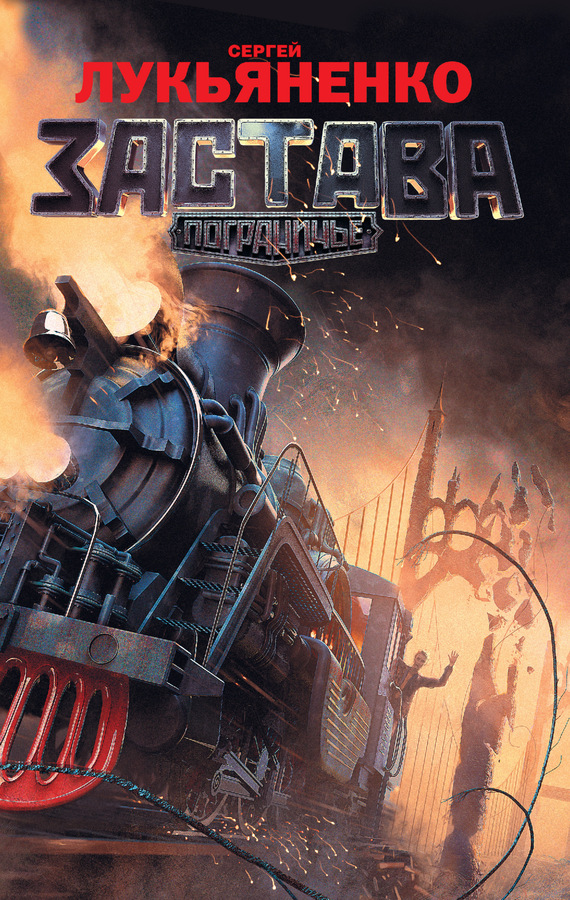Детство 45-53: а завтра будет счастье Улицкая Людмила

Людмила Улицкая
Вспоминаем вместе…
«Времена не выбирают,
в них живут и умирают…»
Александр Кушнер
Ни история, ни география не имеют нравственного измерения. Его вносит человек. Иногда мы говорим: «жестокие времена». Но все времена по-своему жестоки. И по-своему интересны. Время создает определенные человеческие характеры, а что определяет характер времени? Вот неразрешимый вопрос!
Одно поколение сменяет другое, и каждое имеет свою собственную физиономию, свои неповторимые черты, особенности. Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители, даже бабушки-дедушки…
Эта книга собрана из драгоценных воспоминаний разных людей, наших современников. Писем пришло очень много, больше тысячи, и поэтому я не могу называть здесь имен всех наших корреспондентов – благодарна всем, кто взял на себя труд разворошить давно забытое, встревожить прошлое, порой очень мучительное. Может быть, пережить горькие минуты и даже пролить слезы. Самому младшему нашему корреспонденту двенадцать лет, самому старшему – девяносто три года. Среди написавших нам есть человек, для которого эти записки стали его последним делом в жизни, – вдова Германа Кузнецова сообщила нам, что ее муж умер в больнице, едва успев закончить свое письмо.
Каждое письмо – драгоценный документ времени. Вне зависимости от того, попало оно в этот сборник или нет, хорошо уже и то, что в семьях останутся эти письма: из прошлого в будущее. Сложенные вместе, отрывки из писем людей разного возраста, социального происхождения и образовательного уровня меняют отношение к событиям прошлого, расставляют акценты иные, чем те, к которым мы давно привыкли. Они показывают изнанку советского мифа, правду жизни маленького человека, которому дана одна-единственная жизнь во времени, «которого не выбирают»…
Многие часы я провела с этими бесхитростными и правдивыми документами и нашла в них великие образцы сострадания и милосердия. Многажды перечитав и переворошив полученные письма, прониклась чувством глубокого единомыслия, единочувствия с народом, среди которого живу. Может быть, впервые в жизни. Но в этом множестве людей я вижу все равно отдельные лица авторов этой книги, большинство которых мне глубоко симпатичны, других я полюбила, а некоторых признала за учителей и праведников. В книге довольно много фотографий авторов писем, но есть и фотографии, которые передают атмосферу тех лет.
До сего времени акты великой жестокости власти по отношению к своему народу – инвалидам войны, ветеранам, сиротам, старикам – загораживали мне отчасти полную картину времени, и только теперь я поняла, в какой загадочный узел завязаны лучшие качества нашего народа и его худшие черты, которые начинают проявляться у его представителей, когда они оказываются облечены неограниченной и бесконтрольной, да хоть какой-то, властью. Даже мне, рожденной в середине войны, пережившей скудные и тяжелые послевоенные времена, открылась какая-то новая правда о характере нашего народа – простодушном, бесконечно терпеливом, мужественном и милосердном и о природе власти – всегда бесчеловечной и циничной. Этот контраст я и восприняла как открытие. Однако объяснения такому положению вещей я не нашла. Это продолжает меня тревожить: какая такая тайна заложена в этом необъяснимом противоречии? Впрочем, среди писем, вызвавших во мне глубокие чувства, было несколько, описывающих факты чрезвычайной жестокости по отношению к детям-сиротам, невиданного безразличия к младенцам, оставленным на попечение работникам яслей и детских домов. Значит, сидят где-то в глубинах человеческой натуры потенциалы разные, добро и зло ведут свою борьбу именно на этом персональном уровне.
Русский философ Николай Бердяев считал, что «русская ментальность сильно поляризована и совмещает в себе противоположности (деспотизм – анархия, жестокость и склонность к насилию – доброта и человечность…)». Одним из объяснений таких особенностей национального характера он полагал тугое пеленание младенцев, которое было в обыкновении до сравнительно недавнего времени. Мыслители более позднего времени отмечали такую черту русского менталитета, как «поглощенность будущим, отсутствие личностного сознания и, следовательно, ответственности за принятие решений в ситуации риска и неопределенности…»
Наконец, приведу слова основоположника всей нашей культуры, умнейшего и проницательного Александра Сергеевича Пушкина: «Наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циничное презрение к мысли и человеческому достоинству действительно приводит в отчаяние». Эти слова не устарели и по сей день.
Большой радостью для меня было письмо Юлии Николаевны Ляликовой, которым я и открываю этот сборник. Я думаю, что она лучше меня выразила чувства, которые владеют и мною, когда я оглядываюсь назад.
Юлия Ляликова
Послание в неведомое
Однажды осенью я шла дворами по каким-то своим надобностям, и дорога пролегала неподалеку от обычной мусорки. Стараясь «не вступить» и не вдохнуть специфических ароматов, я наткнулась взглядом на лежащий между мусорным контейнером и тропинкой старый альбом. Его страницы стояли веером, и ветер «листал» их, то приоткрывая, то захлопывая. Там были фотографии! Я остолбенела. Что это? Господи, что это?
Кто выбросил? Дети, внуки умерших стариков? Ну не сами же хозяева. Может быть, это сделали новые хозяева квартиры, выбрасывая «хлам» прежних жильцов…
В любом случае мне представилась самой вероятной версия, что хозяев нет в живых, а альбом выбросили все-таки не потомки, а чужие люди. Согласиться с тем, что так могут поступить «наследники», просто невозможно. На некоторое время я в полном ступоре забыла, куда и зачем шла. Не знаю, почему я не подняла этот альбом, – побоялась лезть в грязную лужу? Теперь жалею, что не сделала этого. А тогда, повернув обратно в сторону дома, не могла отделаться от воображаемой картины: альбомы, фотографии моей семьи валяются где-то у помойки, их разносит ветер, бросая в грязные лужи. А мимо идут люди, идут люди…
Я начала лихорадочно думать, как сделать так, чтобы такого не случилось. И, грешница, подумала, что никто не даст гарантии от такой смерти памяти, собираемой и хранимой десятилетиями в каждой семье, о родных, близких, если не предпринять каких-то, пока не знаю каких, мер. Дело в том, что жизнь за последние пятнадцать-двадцать лет так изменилась – ее формы, так называемые артефакты, из физических перешли в виртуальные, не занимающие много места, не нарушающие современный стиль или еще что-либо. Многое просто стало «немодным» – кажется, именно это произошло со старыми семейными альбомами. Кто-то спрятал их подальше в шкафы. Но выбрасывать, мне кажется, еще рано, и эти предметы не заслужили такой судьбы. Можно выбросить старый шкаф, диван, стулья, но память?
Ну да что попусту рассуждать; надо, пока не поздно, продумать свои собственные меры, чтобы ничто и никто не мог поглумиться над святынями (ни время, ни обстоятельства, ни люди)…
Иногда кажется, что новая жизнь жестко и жестоко отрицает старую вместе с ее еще живыми носителями или вещественными знаками. Обижаются на молодежь старики, не находя себе места в новых, не всегда понятных реалиях жизни. Новодел вымещает или грубо растаптывает знаки старины. Новые города не предполагают комфортного существования стариков. А старики в деревнях – это одни горчайшие слезы.
В новом ритме и стиле жизни кажется, что кроме стариков некому будет печалиться об утратах памяти. Молодым оглядываться и смотреть под ноги некогда.
Когда я, по-советски комплексуя, видно, не выдавив еще из себя совка, размышляла о том, а стоит ли вообще писать, то есть оставлять память о моих предках, среди которых, как оказалось, нет ни одного генерала (слава тебе Господи!), ни одного депутата (и за это отдельное спасибо), во мне рос и рос какой-то еще не осознанный протест против признания «малозначимости» родных мне людей. Я ощущала какую-то неправду и несправедливость. Вот я даже и сейчас как будто перед кем-то не знаю в чем оправдываюсь.
И вдруг что-то сложилось! Ничего себе – маленькие люди, винтики да болтики. По жизням моих родных прошлись колеса всех российских исторических событий, оставив в их судьбах неизгладимые, в основном трагические отметины. Нет уж, без таких, как мои родные, миллионов россиян никакое колесо истории не сделало бы и оборота и не было бы никакой страны, ни великой и ни могучей. А была бы территория, переходящая из рук одних правителей в руки других. И что бы без них, не упомянутых в хрониках, делали все вместе взятые цари, генералиссимусы и генеральные секретари?
Вот представьте, был бы в семье какой-нибудь генерал или академик, да всё вокруг них бы и крутилось – вот они такие и сякие, смотрите, дети, как надо жить! Учитесь и гордитесь! А так, в отсутствие в нашем древе таких гигантов жизненного успеха, я могу уделить каждому, кого знала и любила, столько внимания, сколько позволит моя память, без оглядки на чины и звания.
И ведь в каждой семье есть что сказать о своих близких. Я вдруг поняла, что они, наши предки, не только имеют право на память о них, а мы, как любящие их всех, обязаны сохранить хотя бы те крохи свидетельств об их жизни, что остались, и передать их своим детям.
День Победы[1]
Чем больше времени проходит от 9 мая 1945 года, тем более пышно празднуется этот день. Участники стихийного народного праздника этого незабываемого дня запомнили его на всю жизнь. При жизни Сталина день 9 мая отмечался как государственный праздник только два года – в 1946-м и в 1947-м. С 1948 года 9 мая не считалось государственным праздником, был рабочий день, – «красным днем календаря» стал только двадцать лет спустя после Победы, в 1965 году.
Первый парад Победы состоялся 24 июня 1945 года, кинохроника сохранила для нас известные кадры, снятые в тот день: брошенные к мавзолею Ленина немецкие знамена. Командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал Жуков. Сталин был на трибуне. Существует мнение, что генералиссимус не считал, что главная цель достигнута: Россия не получила всей Европы, а только восточную часть ее. О мировой социалистической революции теперь и мечтать было нельзя. Парад был демонстрацией мощи Советской армии, разгромившей фашистскую Германию.
Пятьдесят лет военные парады не проводились, а в 1995-м, в пятидесятую годовщину Победы, снова провели военный парад. И далее это стало традицией.
С 2008 года в парадах стала участвовать тяжелая военная техника. Наверное, это должно питать чувство патриотизма и национальной гордости, демонстрировать мощь государства. Стоит это очень дорого: только ремонт асфальтового покрытия, проводимый после репетиций парада и самого парада, обходится городской казне в 40 млн рублей ежегодно. В 2012 году 64 млн рублей ушли на разгон облаков в день праздника. Убытки от транспортных пробок в 2011 году были оценены еще в 5 млн рублей. Нельзя сказать, что в связи с такими огромными тратами очень порадовало заявление властей о том, что в 2012 году еще 36 тысяч ветеранов получат отдельные квартиры. В стране сейчас проживает 364 тысячи ветеранов, 220 тысяч из них уже получили жилье. Если принять во внимание, что с окончания войны прошло уже более шестидесяти лет, то оставшимся очередникам придется жить не менее 110 лет, чтобы дожить до получения отдельной квартиры. Рассчитывать на это не приходится.
Каждое событие в нашей стране рассказывается не одним, а несколькими способами: есть правда солдатская и генеральская, свидетельства медсестер, выносящих раненых с поля боя, и начальников госпиталей, доклады партийных руководителей и письма «простого советского заключенного».
Государство дальнозорко: мелочей, как правило, не замечает, видит только большую карту страны, оперирует цифрами с большим количеством нулей. Отдельно взятый человек близорук: в его поле зрения котелок с кашей, теплушка, кипяток, письмо от жены, кусок мыла, выданный к «банному дню», хлебные карточки…
Но праздник есть праздник, и он поистине народный. Об этом свидетельствуют письма людей, очевидцев того великого дня, 9 мая 1945 года, стихийного уличного ликования, радости и слез, которые волной прокатились от Красной площади до площадей больших и малых городов, поселков, деревенских улиц…
Вера Верхогляд-Троянова
Победа
1945 год. В начале мая (до 9 мая) по Ленинграду разбрасывали с самолетов листовки, в которых говорилось о наших военных успехах. Помню солнечный радостный день, бросают листовки, а я пытаюсь поймать их, стоя на балконе.
День Победы – 9 мая. День безумной радости и счастья. Толпы людей двинулись на Дворцовую площадь. Транспорт на Невском проспекте забит людьми, все едут на Дворцовую, всем хотелось собраться вместе и вместе радоваться. Я ехала со старшим братом Эриком.
Дворцовая площадь. Люди пляшут, поют, целуются, кричат что-то. Прожекторы. Кое-где установлены экраны и показывают фильмы (вероятно, документальные).
Наверное, были и люди, которые плакали от горя, оплакивая погибших, но я их не помню.
Потом салют.
Нина Тайц
День Победы с сыном Юрой
На всю жизнь, как уверял Юрочка, запомнил он День Победы (ему было тогда два года). Я с Юрочкой и с двумя моими подругами присоединились к многочисленной демонстрации, которая возникла стихийно, как только по радио (голос Левитана!) сообщили о капитуляции Германии, и пошли по улице Горького к американскому посольству (тогда оно располагалось на Моховой), а затем на Красную площадь. Народ все прибывал, чужие люди целовались, военных качали. Мы попали в страшную давку. Юрочку передавали с рук на руки, был грандиозный фейерверк. Юра часто вспоминал этот день, и иллюминацию, и как он плыл над толпой.
Как и многие дети послевоенных лет, Юрочка очень увлекался всем военным. Каждый день к его рубашкам я пришивала погоны, на шапочке у него была звезда.
Смешной случай: Юре четыре года. Мы с ним в кафе-мороженом на улице Горького. На курточке его прикреплена орденская колодка. С нами сидел мужчина, который очень внимательно смотрел на Юрочку, и, когда тот обратился ко мне с каким-то вопросом, сказав «мама», этот человек удивленно произнес: «А я думал, что это заслуженный лилипут республики!»
В годовщину Дня Победы Юра и его друг прыгали на диване и кричали: «Ура! Мы два Ленина! Мы два Сталина!»
Вячеслав Ищенко
Базар сгорел…
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года меня разбудил душераздирающий крик. Я спал в «темной» комнате – была у нас такая, где совсем не было окон. Она, эта комната, надо сказать, изолирована была неплохо от остальной квартиры, но крик был таким резким и сильным, что его услышал даже я. Что уж говорить о других домочадцах и соседях по двору. Потом я узнал, что кричала Тася Ежова, подруга моих сестер, веселая и добрая девушка. Она кричала что-то для меня совершенно неразборчивое, но мне в ее словах почему-то послышалось, что… сгорел базар. Да, да, наш гурьевский городской базар, без которого невозможно представить жизнь того времени. Там покупали буквально все – от хлеба до сладких красных петушков на палочке. Может быть, именно поэтому я своим детским сознанием не мог представить худшего бедствия, чем потерю базара.
Но она кричала о Победе.
Потом у взрослых началась суета, а я уснул.
Проснулся утром, выглянул в окно из большой комнаты и увидел, что какой-то дядька прибивает к нашим воротам флаг. И опять наваждение: мне показалось, что красное полотнище оторочено широкой черной полосой. Откуда все это явилось в моих ощущениях – сгоревший базар, траурный флаг? Не знаю.
Потом я пришел на кухню и увидел, что матушка на столе месит тесто. Это был явный признак большого праздника. Я спросил: что, разве праздник? И мать ответила, улыбаясь и плача:
– Победа, сынок! Война кончилась…
Тут же она указала на прибитый к стене отрывной численник и сказала, что теперь эта черная девятка на нем будет красной. Странно, что нерабочим днем 9 мая стало, кажется, только в 1965 году.
Чуть позже я видел на улицах рыдающих и обнимающихся людей, толпу у магазина, куда меня, несмотря на мое малолетство, уже иногда посылали за покупками.
Фронтовиков окружали люди, что-то горячо говорили им, обнимали, целовали. У нас во дворе было весело и радостно.
В Гурьев пришла Победа.