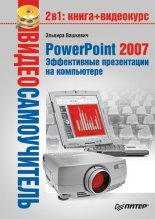Последняя стража Голан Шамай

Хаймек на всякий случай покивал. Но, разумеется, ничего ему понятно не было. Какая связь между мешочком на шее у огромного человека, какими-то бриллиантами и тем, что папа называет его «господином», он совершенно не понимал. На языке у него вертелось огромное количество вопросов, но на этот раз он сумел сдержать любопытство, тем более, что задать свои вопросы он мог только папе. А тот уже снова либо таскал чьи-то узлы и чемоданы, либо заходился в изматывающем душу кашле. Можно, наверное, было задать вопрос-другой маме. Но большую часть времени мама теперь не в настроении и сердится, а в остальное время играет с Ханночкой. Так что Хаймеку только и оставалось, что разглядывать господина Давыдовича из своего угла. Но зато уж тут было на что посмотреть. Никогда еще Хаймеку не доводилось видеть такого огромного человека. Господин Давыдович был похож на библейского великана Ога, царя-исполина из страны Башан. Или на филистимлянина Голиафа. Его необъятные коричневые брюки, натянутые на выступающий вперед необъятный живот, повергали мальчика в ужас. На мгновенье он даже подумал со страхом, что при желании господин Давыдович мог бы схватить Хаймека своими толстыми волосатыми руками с закатанными до локтей рукавами рубашки и свободно спрятать его в одну из штанин.
Подумав об этом, Хаймек невольно сделал шаг назад. При этом от смотрел себе под ноги, потому что даже просто взглянуть на чудовищного господина Давыдовича мальчику было страшно. Голос господина Давыдовича гулко заполнял пустое пространство барака.
В то время, как помещение постепенно заполнялось людьми, господин Давыдович, прислонившись спиной к черной печке оглушительным голосом говорил:
– Евреи, слушайте меня. Кто-то здесь должен быть старшим. Если старшего не будет, нам его назначат. Ну и кто это будет?
Чей-то голос произнес:
– Нам не нужен старший. Нам нужны перегородки, чтобы все было, как у людей.
Господин Давыдович сказал:
– Вот и я говорю: «Нужен старший». Я согласен быть ответственным за этот барак. И если вы меня выбираете, я прямо сейчас иду к коменданту, и потребую, чтобы поставили перегородки.
Папа очнулся и тоже подал голос:
– Я что-то не помню, чтобы комендант просил нас выбирать ответственного…
Господин Давыдович посмотрел на папу сверху вниз, как Голиаф смотрел на Давида, и заключил:
– Ну, если ни у кого нет возражений, я иду. – И, подтянув штаны выше пупка, зашагал, переступая через узлы, чемоданы и свертки, в сторону выхода.
– По всему заметно, что мешочек с бриллиантами спрятан надежно, – прокомментировал папа сложившуюся ситуацию. А затем подвел итог, заметив философски: «Музыку заказывает тот, кто за нее платит».
Никто вокруг не сказал ни слова. Люди все прибывали, и узлов было таскать, не перетаскать.
А Хаймек думал о перегородках. Если господин Давыдович и вправду добьется этого, то не видать больше Хаймеку, как толстяк Шлемек вонзает свои зубы в яблоко. И снова его рот наполнила слюна. Яблоко! Хотя бы понять, какое оно на вкус… Сладкое? Или кисловатое?
А люди вокруг тем временем обустраивались на новом месте. Развязывали свои узлы, доставали провизию. Один только вид еды менял выражение их лиц. И лица эти не становились ни лучше, ни добрее. Особенно у одного старика в вылинявшем лапсердаке и шляпе с наушниками – он настороженно оглядывался по сторонам, словно ожидая нападения на свою территорию. Вокруг его соседа сгрудилась большая семья, сидевшая так тесно, что образовался единый круг. Замкнув его, все дружно, как по команде принялись жевать, так что до Хаймека доносилось только всеобщее чавканье и хруст. Они прикрывали еду руками и яростно двигали челюстями, и уши при этом у них ходили вверх и вниз. На зубах хрустели сухари. Старики и дети, каждый склонялся над своей порцией, отгораживаясь от соседей и всего мира…
Но были и другие.
Те, у кого не было что развернуть.
У кого не было, чем хрустеть.
Даже сухарями.
Эти, другие, сидели молча, переводя взгляд со стен на потолочные балки, а с потолочных балок на пол. В воздухе не было иных звуков, кроме чмоканья и хруста, да еще редких замечаний, которые взрослые делали детям.
«Шмулик, не ешь так быстро…»
«Абраша, не бегай с куском…»
Хаймек смотрел на выгнувшиеся дугой спины, на локти, упершиеся в колени, на двигающиеся непрерывно челюсти и уши.
– Почему у них такие сердитые лица? – подумал он. – На что они сердятся? И на кого? Может быть, они сердятся на меня?
Он хотел, но не мог отвести взгляда от рук, подносящих еду ко рту.
– Хаймек, – услышал он голос отца.
– Да, папа.
– Иди сюда. Некрасиво заглядывать людям в рот, когда они едят.
Хаймек не успел ответить, потому что в эту минуту вернулся господин Давыдович. Потирая руки, он громогласно возвестил:
– Ну, что я говорил! Перегородки таки будут. Будут!
Ночью, когда Хаймек растянулся на деревянном полу, накрывшись папиным пальто, его то и дело будили бубнившие вокруг него возбужденные голоса. Высокие и низкие, спокойные и визгливые, они обсуждали грядущее обустройство. Заключительное решение густым басом объявлял господин Давыдович.
– Штарбман! Больше два на два ты не получишь.
Невидимый Штарбман отзывался умоляющим голосом:
– Нас же двое душ и три чемодана…
– Штарбман! Больше два на два ты не получишь.
– Но этого хватит только чтобы лежать, не двигаясь, господин Давыдович… А мы все-таки живые люди! Живые люди…
По тому, как задрожал пол, Хаймек понял, что господин Давыдович встал на ноги. Медленно отделяя слова, он процедил:
– Если вам не нравится это место, Штарбман, вы имеете право вернуться домой…
Наступившую тишину разбил одиночный смешок. После чего воздух наполнился гулом, в котором отдельные слова были неразличимы.
К следующей ночи перегородка, доходившая до самого потолка, надежно отделила господина Давыдовича от остальных обитателей барака.
Последующие дни были поистине днями голода. Поскольку работа еще не начиналась, продовольственная пайка переселенцам не выдавалась тоже, и каждый перебивался, как мог – у кого было, что есть, тот ел, у кого еды было в обрез, старался сэкономить и растянуть то, что было, а у кого не было ничего, сидел в углу или возле перегородки и старался не смотреть в щели, чтобы не видеть тех, кому в жизни повезло больше. Хаймек крошечными порциями откусывал черный сухарь, замоченный в кипятке. Один сухарь на завтрак, один на обед, один на ужин. Между завтраком и обедом, между обедом и ужином он непрерывно думал о еде.
О чем думали остальные – он не знал.
Ханночка перестала ворковать. Она перестала, путаясь в своих мешковатых, ставших ей слишком большими, платьицах, бродить от мамы к папе, повторяя свои «ма-ма-ма». Теперь она молча лежала на деревянной лавке, с каждым днем становясь все тоньше и невесомей, и из груди ее вырывался все чаще пугающий и хриплый кашель.
Так проходили дневные часы. А ночью… а ночью Хаймек тоже думал о еде. Он и ночи ждал с таким нетерпением только потому, что тогда, устроившись на нарах и лежа с открытыми в темноте глазами, предавался грезам о еде.
В эти ночные часы барак, который в обычное время гудел, как улей, был таинственно молчалив, и лишь отдельные глухие голоса и звуки нарушали его плотную тишину. То здесь, то там возникал невнятный шепот; скрипели нары; приглушенно доносились обрывки колыбельной, которой мать укачивала ребенка; по сердитому тону можно было догадаться, что кто-то получал нагоняй. День был прожит, и это было главным. Впереди был еще один день, но что он сулил, было неизвестно. И интересно. Очень. Может быть именно потому еще Хаймек любил ночь. И эти ночные голоса, которые постепенно навевали на него безмятежный покой, давали ему чувство уверенности, которую не мог поколебать даже волчий вой, доносившийся из ближайшего леса, то есть совсем близко.
Он проковырял отверстие в перегородке, отделявшей семью Давыдовичей от остальных обитателей барака. Сквозь это отверстие он мог увидеть огромный ломоть хлеба, который господин Давыдович припасал своему отпрыску, чтобы тому было чем утолить голод в ночные часы после того, как он, пользуясь выражением господина Давыдовича, закончит делать «свои дела».
«Свои дела» наследник Давыдовича делал по ночам довольно часто, и каждый раз компенсировал потраченные силы очередным бутербродом. Старший Давыдович любил говорить с гордостью:
– Мой Шлемек постоянно голоден. Он может съесть целый обед даже ночью…
Это свойство младшего Давыдовича каждую ночь причиняло Хаймеку множество мучительных минут. Он не мог уснуть, пока – в который раз, – не становился свидетелем еженощно повторявшегося действа. Он лежал и грыз воротник папиного пальто, служившего ему одеялом. Он ждал… И дожидался. Вот Шлемек за перегородкой начинал кряхтеть. Потом он спускался вниз. «Делал свои дела» в ведро, которое Давыдовичи держали по столом, после чего ощупью находил свой ломоть хлеба, возвращался на свое место на нарах и, тяжело вздыхая, начинал чавкать.
Только когда в ненасытной утробе младшего Давыдовича исчезал последний кусок и чавканье затихало, Хаймек, проглотив голодную слюну, мог расслабиться. Он тоже вздыхал, вытягивался, вздрагивал… и потихоньку погружался в путанный сон. Видел он, засыпая, всякое. Так, однажды, увидел он, что дыра в перегородке растет у него на глазах, пока не достигла размеров кулака. И тут же, прямо вплотную к ней возник ломоть свежайшего хлеба. Хлеб был белый, какого Хаймек не видел уже давным-давно, а корка была пропеченная и темно-коричневая. Кусок этого хлеба вел себя, как живое существо. Он парил в воздухе, трепеща, словно бабочка, то приближаясь к отверстию в перегородке вплотную, то показываясь на миг в пределах видимости. Дождавшись, пока эта диковинная бабочка не оказалась совсем рядом, Хаймек выбросил руку и попытался ее поймать. Но не тут-то было! Хотя расстояние до добычи было ничтожным, Хаймек с ужасом обнаружил, что рука у него стала настолько короткой, что сделать этого он просто не в состоянии. Он мог, правда, сбросить с себя простыню, которой укрывался и слезть с нар…
– Ты куда, сынок?
Рука отца подхватила его, иначе бы он упал.
– Что-нибудь случилось? – Усталый голос отца был полон, тем не менее, тревоги и заботы.
– Все хорошо, – сказал Хаймек. – Спи, папа.
– И ты спи, сынок…
И Хаймек снова лег. Лег таким образом, чтобы видеть отверстие в перегородке. Оно все еще было большим. Это позволило ему увидеть волосатые руки старшего Давыдовича – он размахивал ими так, словно пытался отогнать кусок хлеба от дыры в перегородке, от которой Хаймек так и не мог отвести взгляда. И видение исчезло. А потом закрылось и само отверстие. И не осталось в мире больше ничего, кроме спящего барака и тоскливого волчьего воя за его стенами. «Если дыра в перегородке появится снова, – решил Хаймек, – я не дам хлебу улизнуть». Спал ли он в эту ночь? Если и спал, глаза его все равно были устремлены в одну точку. Но дыра больше не появлялась. Вместо этого сама перегородка стала вдруг оседать. Ниже… еще ниже. И вот уже можно было различить стоящий в соседнем отсеке у Давыдовичей стол, покрытый белоснежной скатертью, а на нем – две плетеные халы, прикрытые салфеткой. Тут уже Хаймек не стал зевать. Мигом соскочил со своих нар. Еще мгновение – и он, схватив обе халы, вновь оказался на своем месте. И тут же перегородка дрогнула и стала расти. Он попытался задержать ее, но ему это было не по силам. Перегородка стала вдруг такой скользкой, что Хаймеку буквально не за что было зацепиться. И тут немец в коричневой форме вытащил из кожаной кобуры лоснящийся от смазки пистолет и…
– Папа! – закричал Хаймек, просыпаясь, – папа!..
– Что, сынок?
– Там немец…
Папа вздохнул: «Давай, сынок… поспи еще чуть-чуть. С утра нам идти уже на работу…»
Хаймек затих и лежал с открытыми глазами и бьющимся сердцем, вглядываясь во тьму. Он ворочался с боку на бок, он очень хотел спать, но сон ушел и не приходил. А кроме того ему было страшно.
– Что с тобой, Хаймек? – услышал он встревоженный голос матери.
– Я боюсь, мама, – сказал мальчик.
После минутного молчания он услышал:
– И я, Хаймек.
Осторожно, чтобы не разбудить Ханночку, Хаймек сполз с настила, лег рядом с матерью, уткнувшись ей в плечо. Мама лежала на спине и глядела в потолок.
– Деревья, – сказала она неопределенным голосом. – Всюду деревья. Я боюсь их. Боюсь леса. И столько снега кругом… Я боюсь этого места.
– Лес как лес, – сказал сердитым голосом папа. Похоже, что уснуть ему так и не пришлось.
– Однажды он окружит нас со всех сторон, – прошептала с отчаяньем мама. – И мы станем в нем, как звери. Как волки станем мы выть. Как волки… Ох, Яков… спроси у Бога, что за конец ожидает здесь всех нас. Попроси его, пусть выведет нас из этого места, Яков…
Папа ответил не сразу. Он сказал так, словно делился очень большим секретом. Словно открывал тайну.
– Приходу Мессии, Ривочка, всегда предшествуют несчастья. Все, что происходит, надо принимать с любовью. И все будет хорошо.
– Если мы доживем до этого дня.
– Если не доживем мы, – сказал папа, – то обязательно доживет Хаим, наш сын.
Мама плакала, тихо глотая слезы. Мальчик прижался к ней, свернувшись калачиком, и пробормотал:
– А у Шлемика есть хлеб. Много хлеба… и еще есть яблоко…
– Ханночка умирает, – сказала мама.
Теперь сквозь тишину прорывался лишь папин неузнаваемый голос, читавший молитву.
– Если Ханночка уйдет от нас, – сказала мама тихо, но непреклонно, – я уйду тоже.
Папа молился. А Хаймек старался понять, что означают последние мамины слова. Мама хочет уйти вместе с Ханночкой. А как же он, Хаймек? Они что, уйдут, оставив его одного?
– Куда мы идем? – спросил мальчик, поворачиваясь к отцу. – Куда, папа? Мама сказала…
– Никто никуда не идет, – оборвал его папа, повысив голос насколько это было возможно. – С утра все выходят на работу, а потом мы получим еду. И спите уже, спите…
В перегородку грохнули кулаком и разгневанный голос Давыдовича прорычал:
– Эй, вы, там! Вы разбудили своей болтовней моего Шлемека! А ну, тихо! Тихо!
– Чтоб он сдох, этот твой обжора, – прошептала мама. – Пусть это будет Ханночкиным искуплением…
– Завтра… все будет завтра, – прошептал ей в ответ папа. И это слово –«завтра» – было последним, что слышал Хаймек перед тем, как провалиться в сон.
2
Ханночка умерла незаметно. Она тихо уснула, закрыв большие глаза и с тех пор больше их не открывала. Папа опустил маленькое тельце, обернутое в белую простыню, в заснеженную ямку. Нельзя было поверить, что этой прелестной, ласковой девочки больше нет. Белая снежная россыпь милосердно приняла ее в свои объятья. Снег слой за слоем ложился в могилку, пока неглубокие ее края совсем не сравнялись.
Папа поднял глаза к запорошенному белизной небу и сказал:
– Благословен праведный Судья…
Он хотел, как то полагалось, возблагодарить Бога, но мама прервала его отчаянным криком:
– Нет! Яков… молчи! Нет никакого судьи. И никакой правды нет тоже!
Она тяжело дышала и лицо ее пошло пятнами. Папа положил свою ладонь на ее тонкое запястье и очень тихо сказал:
– Возвеличится и да освятится имя Господа. Когда хочет – дает Он, когда хочет – забирает обратно. Да будет вовеки благословенно имя его…
Он взял лопату и начал засыпать могилку. Мама схватила его за руки. Она была непохожа на ту маму, которую Хаймек знал. Что-то сломалось в ней с этого дня, какие-то силы вырывались наружу. Никогда уже, – понял Хаймек, –никогда уже не будет она такой, какой была.
Мама держала отца за рукава пальто. Трясла за лацканы. Прижималась к нему и отталкивала его. Она кричала:
– Он дал? Нет! Нет! Это я, я одна выносила ее. Здесь, в моем чреве!
Голос ее был угрожающе низок.
– Вот здесь, во мне впервые шевельнулась она, я чувствовала, как она бьет ножками. Она чуть не убила меня при родах – лучше бы мне не дожить до этой минуты. А потом она вышла на свет божий из моей утробы, и все воскликнули – какая красавица! Она была красавица, да, Яков? Волосы у нее были, как шелк. Зачем она родилась? Почему твой Господь не дал ей пожить? Он дает и берет обратно, да? Так ему захотелось, говоришь ты. А я? Как мне теперь жить? Как, Яков? И ты еще Его благословляешь?
Она упала на могилу, раскинув руки, словно хотела навсегда захватить с собой этот голый снежный бугор.
На этот раз Хаймек понял, что хотела сказать мама. Он недавно узнал тайну появления детей. Узнал, что это не аист приносит в дом младенца и не господь передает его в руки ангела. Узнал он эту тайну от Нехамы, соседки, которая жила через одну перегородку. Она-то и открыла ему этот секрет. Встретив мальчика однажды, она схватила его своими сильными руками, прижала к огромному выпирающему животу и шепотом спросила:
– Ты чувствуешь? Чувствуешь?
В тот раз, донельзя смущенный, он вырвался из объятий Нехамы и убежал, так ничего и не поняв. В следующий раз он увидел ее как-то вечером, освещенную закатными лучами весеннего солнца. Нехама поднималась от бурлящей реки. Она медленно шла по тропинке, ведущей к бараку, неся таз с мокрым бельем. Шла она осторожно, останавливаясь через каждые несколько шагов. Хаймек увидел ее слишком поздно. Надо было бы сойти с тропы, пропустить ее. Еще лучше было бы куда-нибудь исчезнуть, подумал он. Что-то смущало его в этой женщине каждый раз, когда он перехватывал ее взгляд. И еще этот огромный живот… Вот и сейчас он почувствовал, как весь заливается краской – до самых ушей.
– Подойди ко мне поближе, Хаймек.
Он подошел, глядя в землю.
– Может ты поможешь мне донести белье до барака… – У Нехамы был низкий с хрипотцой голос. В нем Хаймеку чудилась какая-то опасность. Какой-то подвох. Какой – он не знал.
– Я должен, – забормотал он, – я… меня ждет мама…
Нехама смотрела на него своими чуть раскосыми глазами, щеки ее пылали. Она поставила таз с бельем на землю.
– Хочешь потрогать что-то приятное?
Хаймек не успел сказать «нет-нет», как она схватила его за руку и приложила его ладонь к мощной округлости живота. Хаймеку хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Он попробовал выдернуть руку, но Нехама была сильнее. «Не двигайся, – сказала она командирским голосом. – Тихо!»
Она задержала дыхание и смотрела на Хаймека сверкающими глазами, которые на ее разрумянившемся лице были похожи на драгоценные камни.
– Тихо, – повторила она. – Слушай… чувствуешь?
Хаймек уже собрался было сказать, что ничего не чувствует, как вдруг что-то мягко стукнуло его в ладонь. Что-то, что находилось внутри живота. Словно голубь клюнул – так ему показалось. Словно голубь… когда он склевывает с ладони зерно или крошки.
Испугавшись, он все-таки выдернул свою руку из ладони Нехамы и убежал. Вослед ему несся ее торжествующий крик:
– Он живой! Он живет! Он будет жить!
Добежав до барака, Хаймек забился в темный угол и заплакал. Плакал он долго. Слезы сами лились из его глаз. Так он сидел, грыз ногти и плакал. Но и сам он не мог бы сказать, почему.
С тех пор, встречаясь с ним, Нехама всегда подмигивала ему, словно у них двоих был свой, никому более не известный секрет. Он боялся Нехамы и не мог не думать о ней. Он провожал ее взглядом, он следил за ней – сидя ли в своем углу, выглядывая ли в окно барака. Возбуждение смешивалось в нем с ощущением таинственности происходящих в этой женщине процессов, того, что свершалось с ней и в ней. Теперь он знал: там, в ее большом животе кто-то был. Кто-то жил. Живое существо. Но как оно попало в живот Нехамы? Из разговоров взрослых он уже понял, что скоро у Нехамы будет ребенок. Но при чем здесь аисты? Аисты и их длинные клювы?
– Девять месяцев… – сотрясаясь всем телом, рыдала мама, раскинув руки на могиле Ханночки. Судорожными движениями ладоней она сгребала только что выпавший снег.
Так она лежала, и слезы успели проделать в белом снежном покрове маленькие проталины. Рыданья то утихали, то сотрясали все ее тело с новой силой. Чистый белый снег мягким пухом оседал на каштановые волосы мамы, на ее вздрагивающие плечи. Хаймек хотел пить. Он высунул язык и стал ловить невесомые снежные хлопья, которые тут же таяли, превращаясь просто в холодную воду. Потом он тронул стоявшего рядом папу за рукав и спросил:
–Папа! А где сейчас Ханночка?
Папа ответил просто:
– Она умерла.
Хаймек свернул язык трубочкой и сказал, причмокнув губами:
– А что это значит – умерла?
– Это значит, что она мертва.
Хаймек повторил это слово, но уже про себя. Мертва. Так. Раввин рассказывал в хедере, что мертвые младенцы попадают прямо на небеса. Минуя всяческие муки. Они не попадают в ад, потому что не успели еще запачкать свою душу грехами. Ангелы плетут колыбели из своих белоснежных перьев, укладывают в колыбель младенца и поднимаются вместе с ним все выше и выше. Хаймек и его друзья по хедеру за неимением перьев делали подобие колыбели, переплетая руки или просто подставляя ладони и усаживали в это сидение кого-нибудь из самых маленьких. Тех, что только-только приступили к изучению алфавита. Однажды у Хаймека разжалась рука, и малыш, которого она поддерживала, шлепнулся о землю задом. Хаймек до сих пор помнит, как он горько плакал, и как вслед за ним разревелись другие малышки. Многие плакали от одного только вида раввина, который приближался к ним, держа в руках ремень… А потом рав говорил им о судьбе мертвых детей – там, в небесах…
А теперь и Ханночка там, среди них.
Мама все обнимала могильный холмик. Худые пальцы ее скребли мерзлую землю. Папа наклонился к маме, тронул за плечи и попытался поднять.
– Ханночка мертва, – мягко сказал он. – Встань, Рива… ты не поможешь ей. Ей сейчас уже хорошо.
Хаймек мог бы это подтвердить. Худенькая, совсем без одежды, Ханночка парила в воздухе. С каждой минутой она поднималась все выше и выше. Лицо у нее было грустное, но она не плакала. И вот что удивительно – у Ханночки не было рук. Вместо рук у нее выросли маленькие крылышки, еще совсем без перьев, как это бывает у цыплят. По правде сказать, пока что эти крылышки имели жалкий вид. Очень, очень медленно уходила Ханночка вверх, болтая маленькими ножками, покрасневшими от холода. Она была совсем-совсем одна в огромном и пустом небе – Хаймек понял, что ангелы, испугавшись холода, от которого могли пострадать их собственные крылья, предпочли перебраться туда, где было много теплее. Должно же было быть где-то такое место – если не земле, так хоть на небе…
На земле же было очень холодно. Очень.
– Холодно, – проговорил Хаймек, втягивая голову в плечи. – Ханночке, наверное, тоже…
– Ей уже не холодно, – сказал папа мальчику на ухо. Но взгляд его был обращен к маме, стоявшей с другой стороны.
Мама смотрела ввысь остановившимся взглядом. На ресницы ей непрерывно садились снежинки, но она ни разу не моргнула. На бровях у нее уже образовалась широкая белая полоса, провалившиеся щеки тоже быстро белели. Мальчик испугался.
– Папа, смотри! Снег не тает на мамином лице… Она не умерла?
Папа тронул маму за подбородок и повернул ее лицо к себе.
– Ривка, – сказал он.
Мама не отозвалась. Она и на самом деле была, как неживая.
– Ривка, – еще раз сказал папа. – Ну, пожалуйста, Ривка. Бедная ты моя… Посмотри на Хаймека. Посмотри на меня. Что делать? Мы не можем умереть по своей воле. Мы должны жить дальше.
Мама сказала медленно, словно пробуждаясь от своего страшного сна:
– Да… Мы не можем умереть. А Ханночка смогла. Ее нет. Ее нет, Яков. Ты не забыл?
– И несмотря ни на что… – сказал папа. Мама нагнулась к Хаймеку.
– Как по-твоему, сынок, Ханночке сейчас холодно?
Хаймек энергично закивал:
– Холодно… я сам видел. У нее замерзли ноги.
– Тогда мы должны надеть ей на ножки шерстяные носочки… те, что я ей недавно связала…
В эту минуту из-за снежной пелены возник комендант лагеря. Одет он был более, чем тепло, а из опущенных и завязанных на тесемки ушей шапки-ушанки выглядывало багрово-красное лицо. Он посмотрел на холмик, уже почти совсем занесенный снегом, посмотрел на родителей Хаймека и на него самого и пробормотал:
– Ну вот… уже добралась до вас косая… Тут у нас это быстро… придется привыкнуть Тут уж ничего не поделаешь. Это у нас так… запросто…Как ты сам давеча сказал, Янкель? Кто с силами не соберется, тот быстренько загнется… Смешной вы народ, евреи. Смерть ходит рядом, а вам бы все посмеиваться. Ну-ну…
И комендант рассмеялся, хотя веселья на его лице не было. Рассмеялся и стукнул папу по плечу огромной рукавицей, подшитой синим брезентом.
Глядя на этого неугомонного коротышку, поневоле улыбнулся и Хаймек. Только сейчас ему пришло в голову, что комендант похож на снеговика. Его запросто можно было представить рядом с бараком, на опушке леса. Ну и, конечно, правильно, что на ушанке у него красная звездочка – только так его и можно отличить от других заключенных. Комендант, отсмеявшись невеселым смехом, сделал строгое лицо и сказал:
– Ну… вот… Будет вам торчать на морозе. Ползите в барак и отогрейтесь хорошенько. Посмотри на свою жену, Янкель. Еще немного и тебе придется копать еще одну могилу… ну, это я шучу. Но вас привезли сюда не для того… не для того.
– Я не пойду, – тихо сказала мама. – Зачем мне греться? Ханночке ведь тоже холодно…
Комендант каким-то образом понял смысл сказанного мамой. Лицо его, и без того красное, покраснело еще больше.
– Глупости, – сказал он сердито. – Глупости. А теперь, евреи, слушай мою команду! Марш в барак. Это приказ! Если через пять минут вы еще будете здесь торчать, прикажу спустить собак. Ишь, какие!
«Вот теперь он и вправду похож на начальника лагеря», – подумал Хаймек. – Кричит, по крайней мере, как настоящий начальник».
И он вспомнил о немцах. Те умели кричать.
Мальчику не хотелось в душный барак. Ему было жалко оставлять без снеговика лесную опушку. Ему было жалко маму, у которой почти заледенело лицо. Ему было жалко оставлять в холодной земле маленькую ласковую Ханночку.
Медленно, очень медленно возвращались они в барак, по колено проваливаясь в холодный снежный пух, чья ослепительная белизна только подчеркивала грязный цвет их собственной одежды, покрытой многочисленными заплатами. На полпути к бараку Хаймек оглянулся, пытаясь взглядом отыскать холмик, под которым навсегда успокоилась маленькая еврейская девочка по имени Хана. Его сестра. И он увидел его. Крошечный, совсем неотличимый на фоне соседних сугробов бугорок. Он показался мальчику почему-то округлым и даже уютным. «Он похож на живот Нехамы, – пришла ему в голову странная мысль. – Очень похож…» Только в животе у Нехамы пряталось что-то живое, а Ханночка была мертва…
Глава шестая
1
Дедушка Ихиель восседал на бревне, опираясь на костыль. Как всегда он был на что-то сердит и ворчал, а потому Хаймек решил, что старика лучше обойти стороной. Но не тут-то было. Старик заметил мальчика и решительно поманил его пальцем. Ослушаться Хаймек не решился. Когда он подошел вплотную, дед Ихиель показал корявым пальцем на бараки и спросил:
– Скажи мне… знаешь ли ты, из чего построены эти сараи?
– Из деревьев?
– Правильно. А до того – что, по-твоему, было на этом месте?
Немного подумав, Хаймек догадался:
– Тоже деревья.
Сердитый старик запустил пальцы в бороду и несколько раз кивнул. Потом оперся на свой суковатый костыль, поднялся и побрел – маленький, сгорбленный, полный недобрых пророчеств, которых он и не думал скрывать.
– Конец… всем нам будет конец… здесь мы помрем, здесь будем похоронены… наша вина… да, да, нам не очиститься от нее. Эти деревья – дело рук Творца. Господь создал их, чтобы они стояли вечно. Кто истребляет дело рук Господа – виновен. Его ждет собственная погибель. Мы виноваты… вина ложится на нас… на детей наших… это так. Ибо сказано: «отцы ели кислый виноград, а у детей их – оскомина на губах».
И действительно – куда бы ни обращал Хаймек свой взгляд, всюду видел он деревья, приговоренные человеком к смерти. Иногда мальчику казалось, что он живет в сказке среди огромных великанов, и исполины эти, одетые в броню из древесной коры, взяли его в плен, окружили со всех сторон и сторожат, расставив длинные зеленые руки. Некоторые деревья были старые-престарые, некоторые еще только тянулись вверх, но и тех и других ожидала одинаковая участь – пасть на землю от пил и топоров заполнивших «Ивановы острова» пришельцев, не ведавших жалости. С ранней весны и до поздней осени сражались эти согнанные отовсюду пришлые люди с природой, вонзая отточенные лезвия топоров в живую плоть деревьев, подрубая корни, распиливая стволы и под конец отсекая ветви. Деревья сопротивлялись, как могли, время от времени нанося врагам ощутимый урон. Иногда они падали на своих мучителей, ломая им кости, иногда дело заканчивалось сломанной рукой или выбитым глазом. Эта нескончаемая битва продолжалась уже давно, и конца ей не было видно. Иногда в войне наступал перерыв, но рано или поздно люди снова принимались за свое и, поплевав на ладони, брались за рукоятку пилы или топорище, чтобы продолжить то, что на сухом языке официальных сводок называлось «лесозаготовки».