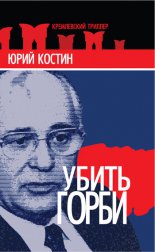Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка Качан Владимир

На встречу с Ирой он пришел в нем. Иру это доконало: отношения с тем парнем уже прервались, а тут московский артист в кожаном пиджаке, любивший ее романтично и пылко пять лет назад. "Я так и знала, - сказала она, - что ты приедешь в полном порядке и в кожаном пиджаке ". Это Володю немножко обидело.
Получалось, что пиджак играет решающую роль в их новых отношениях. А ведь он ей только что за столиком в кафе опять Блока читал.
Но новым отношениям суждено было быть, и начался бурный роман. Однако, видимо, что-то в школе уже отгорело, да и интересы стали разными. Ира еще приезжала пару раз в Москву, жили, куда пускали пожить, даже одну неделю у Михаила с женой, в их маленькой двухкомнатной квартире на Малахитовой улице, которую Миша с Велтой получили в Москве.
А потом все тихо и логично угасло. Ира, поняв, что ничего серьезного с Володей не построишь, вышла замуж и живет теперь, как и Юра Зюзюкин, в Америке, только в Чикаго. Юра с ней почти не встречается, встречался с ней Миша, подарил мою кассету с песнями, а со мной она во время гастролей почему-то не повидалась, но песни слушает, правда, не дома, а в машине, когда остается одна. Так мне рассказал Миша, когда вернулся из Америки, где был в первый раз со своими концертами.
Миша - это не кто иной, как Задорнов. В нашем школьном драмкружке он исполнял роли эпизодические, и сам теперь на концертах часто вспоминает, как в том самом спектакле "Бедность не порок " изображал ряженого медведя. А я, мол, главную роль. Вспоминает даже с удовольствием, потому что все же видят теперь, кем он стал, несмотря на то что в школьном драмкружке его не оценили. Был еще спектакль " 20 лет спустя" по М. Светлову, и Миша там в конце играл комиссара, который напутствовал комсомольцев на дальнейшую правильную жизнь.
Большие черные усы были наклеены на Мишину юношескую физиономию. Они существовали независимо друг от друга: комиссарская кожанка и усы отдельно, а Миша - отдельно. И веры в комиссарскую проповедь в Мишином исполнении уже тогда не было.
А еще мы с ним сыграли в школьной самодеятельности чеховского " Трагика поневоле ". Ну... вышло, что не вполне чеховского...
Надо отметить, что лично у меня не было такого успеха за всю мою последующую артистическую жизнь. У Миши - бывало, он доводил и доводит людей иногда до спазм и конвульсий, когда в зале уже не смех, а стон; у меня - никогда! Мне тогда приделали большой живот, так называемую " толщинку ", затянув на ней тесемками широкие штаны. Я должен был прийти к Мише и жаловаться ему на свою проклятую жизнь. Он сидел в каком-то шлафроке, с приклеенными усами и, глядя якобы на портрет любимой, что-то элегическое наигрывал на школьном фортепьяно.
Я вошел и начал свой монолог. В руках у меня было множество свертков и кульков, которые я привез с собой на дачу. Как бы по хозяйству... И тут тесемки развязались и штаны начали падать. Я в ужасе продолжал монолог, пытаясь поправить непоправимое. Штаны все падали и падали, и тесемки были видны... Я подтянул штаны, и у меня тут же попадали все свертки. Я попытался подобрать свертки - у меня, естественно, снова рухнули штаны. Я обеими руками судорожно вцепился в штаны - тут же посыпались свертки. Надо было наконец выбрать: или штаны, или кульки. Разумнее, конечно, было бы удержать штаны. Но я хотел и то и другое одновременно и в дикой панике продолжал эту клоунаду, с неуместным мужеством продвигая вперед к окончательной катастрофе свой монолог.
Мне было вовсе не смешно, а так страшно, как никогда в жизни, но в зале хохот стоял такой, что я уже тогда понял всю жалкую тщету тонкого юмора по сравнению с простым и безыскусным паданием штанов. У Задорнова отклеился ус, он прикрылся от зала портретом любимой и реплики свои, задыхаясь от смеха, подавать перестал.
Только один человек, серьезный Мишин папа, сидевший в зале, сказал потом, что мы изувечили Чехова. Он не знал, что это было нечаянно...
А в день рождения Ленина мы играли выстраданную нашей историчкой вещь "Ходоки у Ленина ". Эта, как говорится, штучка была посильнее " Фауста " Гете. Третьим ходоком с нами был Мишин одноклассник Крылов. Ленина, разумеется, на сцене не было, да и кто бы отважился его сыграть. Была его секретарь. Вот к ней мы и должны были обращаться с хрестоматийной просьбой: " Землицы бы нам ". Как выглядел русский крестьянин, измученный голодом, войной и разрухой, мы примерно представляли себе по известной всем картине Герасимова. Но понятно, что ни лаптей, ни армяков, ни зипунов школьная самодеятельность не имела. С большими бородами на изможденных лицах тоже было сложно: бород нигде не успели достать, а изможденные лица - не успели нажить. Кое-как себя изуродовав (выпустив рубашки, подвернув зачем-то штанины брюк, вывернув наизнанку шапки-ушанки, полагая при этом, что превращаем шапку в треух), мы, как могли, сгорбились и вышли на сцену. Оля Дзерук, игравшая секретаршу, строго спросила нас: мол, по какому вопросу мы к Ильичу?
- Сестрица, - жалобно сказал кто-то из нас, уж не помню, кто именно, землицы бы нам.
И тут мы имели неосторожность переглянуться, а переглянувшись - друг друга будто заново увидеть, а увидев, что каждый из нас сейчас собою представляет, внезапно и ясно осознать, что в таком виде к Ленину не ходят, что, по идее, секретарше сейчас надо вызвать Дзержинского, чтобы расстрелять нас тут же, немедленно - за контрреволюционную пропаганду и циничное глумление над трудовым крестьянством.
Какая там сестрица? Какая землица?! На кой она им, розовощеким, спортивного вида подросткам?! И эти вывернутые шапки... Задорнов свою снять позабыл, и она забавно торчала у него на голове с одним ухом, задранным вверх... Сил на это смотреть не было. Короче, мы стали тут же, посреди эпизода, умирать от смеха.
И сознание того, что это нельзя, что речь идет о Ленине, что это святое, почему-то еще больше смех усиливало. Кто-то из нас, давясь этим смехом, отчаянно попытался спасти ситуацию, еще раз попросив землицы... И все... Это была уже катастрофа, лавина, которую нельзя было остановить ничем; " треухи "
, запихиваемые в рот, чтобы прервать смех, не помогали, и слезы, катившиеся градом из выпученных глаз, были, к сожалению, вовсе не от того, что у нас нет землицы... Спектакль был окончен, не начавшись... Красная от гнева за весь диалектический материализм, за все " Апрельские тезисы ", за весь марксизм-ленинизм вообще и за дело коммунистической партии в частности - учительница истории вбежала за кулисы и сказала, что она нам этого не забудет.
Не этот ли эпизод, думаю я сейчас, был первой идеологической диверсией Михаила Задорнова в его богатой идеологическими диверсиями творческой жизни?..
Дальше-то было иное. Ну, например, идет концерт в одной из префектур. После концерта - банкет, на котором постепенно становится ясно, что префектура - тот же райком партии, только называется иначе. Разговоры те же и тосты те же, типичные тосты бывшей комсы и партактива. Лион Измайлов и Задорнов давно в приятелях, их объединяют не только юмор и сатира, но и многое другое, даже из области невеселого. Однако перманентная готовность к розыгрышу и какой-нибудь шальной, веселой, даже детской выходке - это всегда!
Вот и сейчас мы сговариваемся потихоньку о том, что начнем петь один из комсомольских гимнов - " Забота у нас такая". Собравшись в тесный кружок, голова к голове, будто на тайной сходке большевиков, мы начнем тихо, но страстно петь " заветное ".
И мы начинаем, машем кулаками в такт, исподлобья смотрим друг на друга, и задача у нас одна: удержать на лицах патриотическую серьезность. "Забота наша простая",- поем мы, и окружающие начинают обращать на нас внимание, оборачиваются, слушают. "Жила бы страна родная ",- продолжает это вновь испеченное комсомольское трио. По их лицам видно, что они верны идеалам, что они не сожгли свои партбилеты, как некоторые, что они втайне - верные ленинцы, а вся победившая демократия и новый бизнес - это неверные ленинцы: хотя все - вчерашние комсомольцы и сотрудники спецслужб, но они предали дело Ленина, а мы остались ему верны... И вот стоим, поем в одном из " змеиных " гнезд этой победившей временно демократии! Да! Да! Именно временно - мы еще вернемся!..
Поем нашу песню, которую не задушишь, не убьешь. Все вокруг перестают жевать и смотрят на нас со священным испугом. Многие не понимают, серьезно это или нет.
От Измайлова и тем более Задорнова уже слышали в адрес советской власти нечто такое... и вдруг - на тебе. "Жила бы страна родная, и нету других забот ",- поем мы сквозь стиснутые от хохота зубы, понимая: розыгрыш далеко зашел, и отступать уже нельзя. И вдруг - потихоньку - все собравшиеся начинают подхватывать: "И снег, и ветер " - припев мы поем уже все вместе. Шутка становится жутковатой.
Вообще все, что касается Задорнова и нас вместе, хотелось бы назвать так:
2x25, или Русский писатель на фоне Рижского залива Мы с ним тут прыгали в длину. Простой прыжок и тройной - кто дальше. На влажном песке было легко пальцем отмечать результат. С разбега надо было отталкиваться от мокрого песка и в сторону дюн прыгать в мягкий. А результат отмечать палочкой, положив ее на место приземления. Я, занимавшийся легкой атлетикой, прыгал дальше, но годы шли, форма терялась, и в одно прекрасное лето он меня перепрыгнул.
Я удивился. "Ну-ка, ну-ка ",- сказал я себе и прыгнул изо всех сил. А он опять на полступни дальше. " Да он тут тренировался, пока я отсутствовал, чтобы меня сделать, когда приеду ",- подумал я тогда, но промолчал и смирился . У меня вообще характер другой, я предпочитаю состязаться с самим собой.
Себя, короче, побеждать. А его стихия: как раз наоборот - конкуренция. Ставит он, к примеру, цель, чтобы на его концертах всегда был аншлаг, и эта цель достигается. Ставит цель добиться популярности не меньшей, чем у первых лиц нашей эстрады, и выполняет. И даже ничтожная задача перепрыгнуть друга Качана - решается до тех пор, пока не решится.
Пару лет назад я тоже решил обрести некое подобие спортивной формы и начал делать гимнастику, двадцать - тридцать упражнений, не важно когда утром, днем или даже вечером. Получалось, что делаю иногда вечернюю зарядку.
И приехал я тогда в Ригу на гастроли. Поселили нас в Юрмале, прямо на берегу моря. Вышел я к вечеру на берег, народу почти не было, сентябрь, сезон окончен. Но не для меня - когда я еще сюда попаду? Теперь ведь это чужая страна.
Пункт проката пляжных принадлежностей, как ни странно, еще работал. Я заплатил один лат и взял белый пластиковый шезлонг. Развернул его к заходящему солнцу, приподняв изголовье, чтобы солнце смотрело прямо на меня, а я прямо на залив.
Лег в шезлонг, солнце медленно падало в залив. " Вот и счастье, подумал я,- и больше ничего не надо. Я это люблю почти до слез ".
Чайки орали, как весенние коты, нагло и призывно. " И по помойкам они роются не хуже голубей ",- лениво и некстати проплыла мысль и погасла в красно-зелено-голубой закатной дорожке от солнца ко мне. Некстати, потому что нечего примешивать к счастью грязные жизненные реалии. Оказывается, в Библии нет такого термина " счастье ", а есть " совершенная радость ". Вот-вот, именно так: радость моя была совершенна и спокойна, я чувствовал себя единым - с этими дюнами, соснами, солнцем, морем; я был крохотной и не самой лучшей частью этого пейзажа. Вот так в совершенной радости провел я полчаса. Затем решил выполнить долг перед собой и сделать вечернюю зарядку. У моря - что может быть лучше! Когда дошла очередь до приседаний, гармонию природы нарушил неприятный хруст в коленных суставах. Но все-таки он был не так слышен, как в квартире: море заглушало. "У него-то колени не хрустят ",- подумал я не с завистью, а с уважением к физической культуре моего друга. Через несколько дней он тоже сюда приехал, и мы встретились на спортивно-пляжном полигоне нашей юности.
- И как ты себя чувствуешь, - спрашивает он, - на берегу Рижского залива?
- Хемингуэя вспоминаю, "Старик и море "...
- Ну, знаешь, - говорит Задорнов, - и ты не совсем старик, и это не совсем море.
Мы сидим на песке и болтаем. Прыгать будем позже.
- Что это у тебя на руках? Комары искусали? - спрашивает он.
И мы разговариваем о комарах. Я начинаю развивать мысль о том, что рижские и московские комары - модель рижской и московской жизни. Рижские комары никуда не спешат и не суетятся. Они знают, что их терпение и солидное поведение вознаградятся ужином, когда этот ужин заснет. Они не жужжат над ухом, а пролетают мимо, словно вы их вовсе не интересуете, садятся где-нибудь неподалеку и спокойно и терпеливо ждут. Московские же комары истеричны и суетливы, особенно те, что в центре города. Они даже никуда не садятся, а если садятся, то нервно взлетают при малейшем движении. Борьба за пропитание делает их необыкновенно вертлявыми, их убить почти невозможно, потому что очень трудно попасть. Кроме того, даже один-единственный комар своим судорожным поведением создает впечатление, будто их десять. Он противно пищит прямо в ухе именно в тот момент, когда ты засыпаешь, ты в полусне бьешь себя в ухо без всякой, впрочем, надежды на результат; в ухо, конечно, попадаешь, в комара - никогда; и через минуту опять писк и опять нельзя заснуть. В ярости ты включаешь свет и откидываешь одеяло, предлагая комару уже нажраться и успокоиться, не мешать спать. Ан нет! Не садится, гад, боится, его инстинкт выживания и тут побеждает. Они из-за этого инстинкта даже мутировали; ей-богу, я видел у себя на кухне такого комара-мутанта. Он сел на розетку с вареньем, опустил туда хоботок и - что бы вы думали - лопал варенье! Крови им уже мало, им десерт подавай и вообще все, что можно урвать в наше трудное и для комаров время.
У Михаила глаза загораются. Это же тема! Ну чем, скажите, отличаются комары рижские и московские в своем поведении от людей - рижан и москвичей? Сколько общих черт! А сибирские комары? - развиваем мы тему дальше. Они же кидаются на человека без всякого страха; их совершенно не волнует, будут они убиты или нет. Пикируют и садятся бесхитростно, с простодушной прямотой. О-о! здесь о многом можно подумать.
Мы хохочем и бежим к воде. Мы - те же, что и тогда, нас смешат или печалят все те же вещи, мы не переменились. Хотя очень многие наши друзья той поры переменились совершенно, почти неузнаваемо. И мы с ними больше не встречаемся .
Поговорили и об этом. Уходил теплый осенний день у моря, один из по-следних дней бабьего лета. Вот точно так естественно и печально уходит из твоей жизни чья-то другая жизнь, и ты даже не огорчаешься - все нормально, так и должно быть. Только почему в уходе лета, человека и жизни есть что-то общее, от чего ты всякий раз провожаешь лето так, будто видишь себя в этом желтом листе, в этих лысеющих деревьях, в этом море, которое все холоднее, в этом пляже, который постепенно пустеет... Даже тогда, когда тебе двадцать пять, ты все равно об этом думаешь и пробуешь на вкус у Рижского залива этот опасный коктейль из любви и тоски...
Давайте-ка вместе приедем на Рижский вокзал, сядем в фирменный поезд "Латвия"
или "Юрмала " (он уходит чуть позднее) и тронемся в Ригу. Да, кстати, загранпаспорт не забыли? И виза с собой? Ну прекрасно, поехали. Нам сразу подадут знаменитое пиво "Алдарис " или " Алдарис зелта ". "Зелта " - в переводе " золотое ". Она, Рига, начинается с поезда. И под стук колес я начну рассказывать о том, как мы с Михаилом там жили. А потом мы приедем, и я поведу вас по тем местам, где нам было хорошо, по местам нашей " малой Родины ", которая теперь перестала быть нашей Родиной. Нам сказали: "Все, ребята! Это уже не ваша Родина, а наша ". Что ж, ваша, так ваша, разве мы спорим... Но хотя бы внутренне: в сознании, в душе, да к тому же и в детстве - все равно наша...
Экскурсия Обратите внимание на это здание. Перед вами школа, в которой мы учились, 10-я рижская средняя школа с производственным, понимаете ли, обучением. С производственным потому, что это была одиннадцатилетка, и по окончании ее я, как и Михаил, получил специальность токаря первого разряда, чуть не оттяпав себе при обучении мизинец кулачком кулачкового патрона. А его будущей жене Велте, учащейся той же школы, повезло стать чертежницей-деталировщицей, и, если бы не это обстоятельство, не знаю, сумела бы она потом защитить докторскую диссертацию и преподавать в МГУ.
Да и Мишка тоже вряд ли чего-нибудь написал, если бы не стал токарем первого разряда. Однако если бы это было самой большой глупостью в нашей Отчизне, то мы все были бы просто счастливы.
Вот в этой самой школе мы и познакомились с Мишкой. (Поскольку мы с вами поехали в детство, я некоторое время буду называть его так, как тогда.) Мне тринадцать, ему двенадцать лет. Знакомство произошло во время легкомысленной игры в настольный теннис. Он всякий раз рассказывает, что, мол, играли мы в настольный теннис, и я, проиграв, решил взять реванш тем, что спросил:
скольких девочек он уже целовал? Зардевшись, он соврал, что одну. На что я с нахальством опереточного любовника якобы небрежно ответил, что у меня, мол, за плечами уже семьдесят пять оцелованных девочек. В каждом новом изложении количество девочек растет, и на моем бенефисе в театре (а бенефис потом плавно перешел в выступления друзей) Мишка назвал цифру восемьдесят шесть. Но, согласитесь, сатирик без гиперболы - это хуже, чем песня без баяна, чем ежик без иголок, чем токарь (даже страшно подумать!) без кулачкового патрона.
А сейчас наш экскурсионный автобус приближается к перекрестку бывших улиц Кирова, Свердлова и Стрелковой. Налево - Стрелковый же парк. Тут многие места назывались " стрелковыми ", очевидно, в честь легендарных латышских стрелков, которые помогли Ленину закрепить успех Октябрьской революции. Бывшую улицу Ленина, центральную, разумеется, магистраль города, мы уже проезжали. Через несколько десятков лет потомки латышских стрелков возненавидят тот режим, который их же деды помогали устанавливать, и станут мстить кому ни попадя за свое попранное этим режимом детство. Больше всех достанется русскому языку, но пройдет еще несколько десятков лет, и (где-нибудь в 2030 году) выяснится, что русский язык - как раз то, что следовало сохранить, если ты хочешь остаться в поле мировой культуры. Но это сейчас не важно, и к теме нашей сегодняшней экскурсии отношения не имеет. А тема - "Юность Задорнова и его друзей ".
Вот тут, на улице Свердлова, в доме № 4, жил я, а за углом, на улице Кирова, метрах в ста пятидесяти от моего дома - Миша.
Вот, взгляните направо, на этот красивый дом в тенистой части улицы. Он не просто красивый, он, я бы сказал, элитарный дом. В нем проживал классик советско-латышской литературы Вилис Лацис. Помните роман "Сын рыбака "? Не помните?.. Ну ничего страшного, просто вам придется поверить мне на слово, что Янис Райнис и Вилис Лацис являлись национальной гордостью Латвии. И только потому, что Мишин папа тоже был классиком (только русско-советской литературы), он и его семья имели право жить в этом, почти мемориальном, доме, в квартире №1, всегда поражавшей меня своими размерами и солидностью. Потом, когда в России и Латвии победила демократия и обе страны стали свободными, семью Задорновых из этого дома " попросили ".
Они познакомились с новым словом " реституция", и знакомство оказалось неприятным. Согласно реституции, некоторые дома возвращались прежним владельцам. Объявился владелец и этого дома. Но, слава Богу, к тому времени у Миши была уже возможность переселить семью на новое место. И, слава Богу, что его отец этого уже не увидел.
Теперь я хочу вам немного рассказать о Мишином отце, Николае Павловиче. Он был лауреатом нескольких Государственных премий и писал хорошо и основательно.
Николай Павлович (традиционно для почти всех крупных писателей) не любил истерическую сутолоку больших городов, а любил покой и простор. Все это было в Риге, поэтому Мише повезло вырасти там, где много воды, зелени и неба, как, впрочем, и вашему экскурсоводу, выросшему там же, но в семье простого русского офицера или, как сегодня тут принято говорить, оккупанта.
Теперь мне кажется, как это ни цинично, что нашим отцам отчасти повезло не дожить до того состояния демократии, которое приличные люди называют обыкновенным хамством, а не очень приличные - свободой. Кстати, крылатая фраза Задорнова о " стране с непредсказуемым прошлым " родилась отсюда, из этого детства, из жизни его отца, который ну ничем не провинился перед Латвией, однако был посмертно наказан выселением. Да и мой отец именовался тут сначала " воином-освободителем " от фашизма, зато теперь он " оккупант ", а фашисты, наоборот, - хорошие!
Воспитание, осанка, манера поведения достались Мише в первую очередь от Николая Павловича. Николай Павлович словно олицетворял собой образ русского прозаика, неспешно и серьезно размышляющего о жизни и своем месте в ней. Эта стать, эти летящие назад седые волосы, эти очки в тонкой оправе на породистом лице, да еще - трость, на которой покоится рука, временно отложившая перо, да еще - честность и высокая нравственность во взоре (именно взор, заметьте, а не какой-нибудь простой взгляд), и в нем к тому же - груз ответственности за судьбу русской литературы на латышской земле - ну все буквально выдает в нем маститого писателя!
Обычно такие лица бывают скучны - именно своей маститостью и назидательностью.
Скучные, сановные, добропорядочные лица. Порядочней самой порядочности. Они так и лучатся миссионерским светом.
Все было бы так, если бы не веселая легкость, потаенное лукавство и даже озорство, поблескивающее из-под его очков. Они намекали, что все тут не так одномерно и просто, что он знает гораздо больше, чем показывает, и что этот маститый, казалось бы, реликт все время слегка потешается над вами и над вашим петушиным максимализмом. Эта догадка обескураживала поначалу, при первом знакомстве, но он все равно заставлял вас раскрываться дальше, потому что проявлял к вам настоящий интерес, и это вам льстило. Мишин папа проявлял всегда живое, веселое любопытство к собеседнику и ко всему вокруг, хотя теперь я понимаю, что это не только черта характера, это было важнейшей составляющей его писательской профессии: писатель, наверное, просто обязан быть любопытным и наблюдательным. И точность его, Николая Павловича, наблюдений временами смущала нашу юношескую самоуверенность и наглость. Он специализировался, так сказать, на Дальнем Востоке, именно эта часть страны была местом действия большинства его романов. У всякого маститого писателя имелся тогда свой застолбленный участок, свой писательский ареал.
У Маркова, например, Сибирь, у Задорнова Дальний Восток.
А будущий писатель-сатирик, его сын, живет себе в Риге, Дальний Восток для него - совсем дальний, он потом только узнает, что его близкий друг Вова родился там же, в городе Уссурийске. И спустя полжизни Миша будет ставить памятник отцу на Дальнем Востоке, на берегу реки Амур, и Дальний Восток, таким образом, объединит нас всех снова. Я уже говорил, что в судьбе ничего не бывает случайным, надо только уметь это замечать.
А сейчас вернемся чуть назад, к перекрестку и Стрелковому парку.
После уроков, домашних заданий, тренировок, став на пару часов свободными, мы встречались вот на этом углу Свердлова и Кирова и шли в Стрелковый парк гулять. Угол Свердлова и Кирова у всех мальчишек нашего района назывался "
пятак " ; именно на " пятаке " назначались встречи, нередко там вспыхивали драки, но, замечу, никогда не было драк русских с латышами, да и латышский язык мы учили вполне добровольно с четвертого класса, справедливо полагая, что надо знать язык и культуру того места, где живешь. Я даже теперь могу кое-как объясниться на латышском языке, а тогда даже разговаривал.
Сейчас будет набор существительных, которые для многих - ничто, а для нас с Михаилом - все, быть может, даже лучшая часть жизни; и минимум остальных слов, которые тоже могут вдруг понадобиться...
Итак: парк, старые деревья, канал, по берегам заросший ряской, лебеди на нем, кем-то построенный домик для лебедей, в котором ни один уважающий себя лебедь жить не станет (Задорнов потом расскажет об этом домике на концерте, добавив, что на нем висела табличка: " Посторонним вход воспрещен ". И с соответствующими комментариями типа "Посторонним лебедям?.. " или "Кому придет в голову ползти в этот домик? " Я, честно говоря, этой таблички не помню, но органичный симбиоз увиденного, а затем доведенного до маразма - всегда был одним из его основных приемов). Ну, дальше... Беседка у канала, каменные ступени, слегка тронутые мхом, - вниз к воде; фонтан в глубине парка, никогда не работавший, в виде какого-то каменного идола (у него изо рта должна была бить струя, но я это видел только один раз в жизни); скамейки, на которых тогда еще ни один балбес не увековечил свое имя; первые поцелуи на этих скамейках со школьными же девчонками - скромный и целомудренный, я бы сказал, сексуальный опыт. Нежность, романтизм, сентиментальность, которые было стыдно выразить. Тени, фонари, запах сирени, стихи, готовность № 1 к любви, которой пока все не было; мучительный и ложный стыд от того, что выгляжу не так, говорю не так, беру за руку не так, может быть, не нравлюсь, а навязываюсь...
Словом (процитируем еще одного эстрадного автора), " я не умею понять, я не умею обнять ". Только в его песне как-то не сквозит желание научиться обнять, а вот у нас сквозило, да еще как! Кстати, наверное, пытаясь изо всех сил освободиться от пут этой застенчивости, мы иногда пускались в совершенно наглые авантюры, которые можно было бы квалифицировать только статьей "
хулиганство ".
Однажды Задорнов был переодет в девушку: ему был сделан соответствующий макияж (сестра Мила помогала), были надеты черные чулочки (не колготки, замечу, так как это потом сыграло свою роль), подобраны туфли на высоком каблуке (он в них едва втиснулся) и даже какая-то ретро-шляпка с вуалеткой.
И пошли мы по улице Кирова к улице Ленина, то есть к самой центральной улице во всех городах страны в то время.
Сценарий поведения был неясен: помню, мы должны были изображать ссорящуюся пару, а дальше - как пойдет. Моя роль была попроще, я все-таки изображал юношу, а значит, в некотором смысле был ближе к себе; Мишке же было сложнее:
туфли жали, навыка хождения на высоких каблуках не было, кроме того, перед ним стояла нелегкая задача свой ломкий юношеский баритон каким-то образом превратить в девичий щебет; единственным способом, известным нам, было перейти на дискант; это звучало фальшиво и визгливо, но, как ни странно, работало на образ, придавая ему омерзительный оттенок капризности, склочности и вульгарности. Таким голосом можно и нужно ругаться на базаре. В создаваемом наспех образе угадывалась стерва...
И вот пошли... Кстати, о " пошли ". Мало того, что туфли на высоком каблуке, мало того, что они жали, он ведь пытался еще при этом изобразить женскую походку. Поэтому, почти хромая, не забывал развязно вихлять бедрами и в манере вокзальной шлюхи мне что-то выговаривать. На нас стали обращать внимание мужчины, вернее - на " нее ". Они, видимо, думали, что " она " сейчас со мной поссорится и тут они ее, тепленькую, и возьмут. Поэтому некоторые встречные мужчины просто разворачивались и шли за нами, вожделенно глядя на задорновские ножки. Положение становилось критическим, игра зашла далеко. А тут у него еще спустился чулок. Становилось совсем конфузно. Шмыгнув в ближайшую подворотню, Мишка задрал юбку и стал поправлять сползающий чулок. Это была уже откровенная эротика с точки зрения трех-четырех мужчин, как бы невзначай остановившихся возле. Но один из них, самый наглый, подошел поближе, чтобы лучше видеть. Тут бы мне, наконец, вступиться за честь " дамы ", но Задорнов меня опередил. Он к этому времени уже " закипал ". Швырнув подол юбки на место, он нарочито косолапо пошел на эротомана и, возвращая голос в привычный регистр, этак баском рявкнул ему: "Че те надо? Че те надо? Я вот тебе щас как дам! Пшел отсюда! "
Надо было видеть лицо того мужика. Отвисшая челюсть и выпученные глаза человека, который почувствовал, что вот именно сейчас он сходит с ума, что поехал чердак, который он никак не может удержать на месте. Он тряс этим чердаком и пятился от Задорнова, как от привидения. Наверно, бедный, долго потом на улице к девушкам не подходил. Но и это еще не все. Надо было возвращаться домой. И быстро. С чулком отношения не налаживались. Поэтому обратный путь мы проделали бегом, не придумав ничего более изящного, чем пустив меня впереди, а его (ее!) - сняв туфли, в одних сползающих чулках за мной с визгом: "Когда, сволочь, будешь алименты платить?! "
Простим юношам сомнительный характер этой шутки и не будем забывать, что начинающие сатирики почти всегда шутят грубовато, а это был всего-навсего тест на преодоление застенчивости. Я подозреваю теперь, что в отношениях с девочками именно это было основным, а не сами девочки. Поэтому любовь школьная была похожа на самовнушение и накручивалась воображением. И только для того, чтобы она увлеклась, произнесла слова заветные, чтобы совершился акт самоутверждения, чтобы понять, что я в этом вопросе - не последний, что я могу нравиться и даже, возможно, быть кем-то любимым, пусть даже на уровне слов, но главное - вырвать признание. То есть, получается, и это носило спортивный характер, все было в одном ряду: перестать быть толстым, перепрыгнуть всех, быстрее всех пробежать, а также покорить девочку, и хорошо бы - не одну. Это вздорное желание однажды чуть было не закончилось трагически.
Наташа В Мишином классе была одна необыкновенно хорошенькая девочка Наташа.
Полшколы любило примадонну школьного драмкружка Люсю, остальные, обладавшие более изощренным вкусом, - Наташу. Насчет вкуса объясню: Люсю, яркую, кокетливую, сексуальную, с лицом, словно созданным для рекламы косметических средств, мог полюбить каждый дурак (и юноша Володя в том числе), Наташу же нужно было еще разглядеть - и только хорошенько разглядев - оценить по достоинству, а затем полюбить. Такие поселяются в сердце надолго, их скромная, неяркая красота - долгоиграющая пластинка, многолетние цветы, и такая же скромная, тихая, но верная любовь к ним тлеет тоже очень долго, но не сгорает, а плавно переходит в нежную привязанность.
С такими же, как Люся, все происходит настолько же страстно, насколько и скоротечно. "Горело - остыло, горело - остыло, спасибо тебе, спасибо, за то, что было ",- как было спето еще в одной эстрадной песне об отгоревшей любви.
Десятки юношей-романтиков вздыхали по Наташе, не смея подойти близко, не смея даже заговорить. А все потому, что ее опекала многочисленная компания, где были даже ребята, вплотную приблизившиеся к криминальному миру. Одним из авторитетных людей в этой банде, этаким капо-реджиме районного разлива, был наш школьный рок-певец Женя. А наш барабанщик Костя был не просто поклонником Наташи, он поклонялся ей в буквальном смысле этого слова, как идолу. А для всей банды она была чем-то вроде талисмана, неприкосновенной звезды, мадонны, чистейшей прелести чистейшим образцом. Поэтому судьба Наташи в тот период была печальна: она могла принадлежать только всем вместе и никому в отдельности.
Так они " справедливо " решили, превратив Наташу во цвете лет в некий музейный экспонат, в этакую картину Леонардо, на которую все должны любоваться на расстоянии, а прикасаться - ни-ни!
Укравший эту картину или даже попытавшийся украсть - естественно преступник, причем самый страшный, нарушивший неписаный закон улицы, братан, плюнувший в самое братство. Вот таким преступником и оказался пылкий юноша Володя, начавший тайно встречаться с Наташей. Положение неприкасаемого музейного экспоната, надо сказать, Наташу тоже тяготило. Девушка к тому времени вполне созрела для конкретной любви, а массовое обожание могло удовлетворить одно только тщеславие. Но сколько же можно? Где тот смельчак, который шагнет, конкретно возьмет за руку и конкретно поцелует?! Где он, где?! Но никто не смел, все боялись Наташиной " крыши ". Храбрый и авантюрный паренек Володя, уже в то время очень любивший нарушать запреты, отважился. Но, видно, не столько потому, что был таким уж отчаянным, сколько потому, что умел быстро бегать.
Вот это его однажды и спасло. Стрелковый парк вам уже знаком. Теперь представьте вечер, но не поздний. Закат, короче. Спокойная гладь канала, беседка с белыми колоннами, и на другом берегу, строго напротив, скамейка, на которой сидят голубки, взявшись за руки. Две маленькие фигурки в чем-то светлом тонут в густой зелени парка. Блики заходящего солнца, причудливые тени - все на месте. В гармонию природы и чувств врывается странная, диссонансная нота. Это на другом берегу кто-то истошно кричит: " Вот они! "
Слева и справа от лирической пары два мостика через канал, метрах в ста друг от друга. Тот же голос кричит: "Окружай! Десять человек - на тот мостик, десять - на этот! "
Руки разомкнулись, глаза влюбленных тревожно всматриваются в тот берег, на котором так неожиданно появилась знакомая банда в неполном, но все равно впечатляющем составе. Они уже разделились и бегут к двум мостикам. На размышления и решение остается несколько секунд. "Беги, - говорит Наташа, - я их задержу! " "Ни за что! - отвечает Володя,- я остаюсь! Я их не боюсь! "
Лицо у рыцаря, однако, белее его рубашки. Голубые Наташины глаза кричат и плачут. " Беги быстрее! Ты что, их же там толпа, они искалечат тебя". Наташа - в принципе разумная девочка, она понимает, что силы не равны, что своим первым ответом Володя честь уже сохранил, поэтому в оставшиеся пятнадцать секунд честь можно как ненужный в данных обстоятельствах антиквариат отодвинуть и принять разумное, единственно верное решение.
"Беги же, беги! - опять повторяет Наташа. - Я их задержу! " Она полна решимости спасти любимого во что бы то ни стало, даже ценой собственного подвига. "Как она обо мне беспокоится!" - довольно мурлычет Володино тщеславие, но времени на осмысление сердечной победы совсем нет. " Ну... ладно ", - еще чуть медлит он, хотя решение уже принято.
"Давай! " - Наташа толкает его в направлении единственной оставшейся свободной щели в неотвратимо смыкающемся кольце врагов, и Володя делает спринтерский рывок за пределы кольца - к другому выходу из парка, к трамвайной линии. Он знает, что в курящей банде не найдется равных ему бегунов, и метров через тридцать - пятьдесят даже позволяет себе привстать и оглянуться. Он видит, что левый мостик уже опустел и ребята мелькают за ближайшими деревьями. А посреди правого мостика стоит Наташа с растопыренными руками и кричит в набегающие лица: " Не пущу-у!!! " Кричит в предельной истерике совершаемого подвига, в последнем броске на амбразуру дота. Но летящие пули не остановить розовыми лепестками Наташиных ладоней. Лица у них напряжены веселым азартом погони и предстоящей крови, поэтому они сметают Наташу с пути, как попавший под ноги газетный лист, и, не снижая темпа, бегут дальше, крича и воя от счастья травли, травли зайца, улепетывающего сейчас к трамвайной линии. Они даже забыли, что именно Наташа - причина погони, что она - центр сюжета; она вдруг перестала быть главной и, сшибленная с ног, сидит сейчас на мостике, закрыв лицо руками, и, видимо, плачет.
Все это за одно мгновение успевает увидеть Володя, потом продолжает бег, но уже как-то на автопилоте, формально, желание убежать почему-то пропадает. Тем не менее он метрах в двадцати от преследователей, а перед ним, тоже метрах в двадцати - трамвай, который в этот момент как раз на остановке. Володя делает последнее усилие и успевает влететь в трамвай. Погоня уже совсем рядом, но, кажется, вагоновожатому не улыбается перспектива иметь в своем трамвайном салоне агрессивную шпану, он закрывает двери, и трамвай трогается. Однако один, самый резвый, настигает трамвай и цепляется за " колбасу "... ( На всякий случай поясняю, что позади трамвая тогда была крохотная лесенка, похожая на укороченный корабельный трап, а внизу - такой большой металлический штырь, на который можно было встать, уцепившись за лесенку.
И ехать вот таким образом и означало - ехать на " колбасе ".)
Итак, внутри трамвая заяц, а один вырвавшийся вперед гончий пес висит сзади на " колбасе ". Володя видит его лицо: на нем постепенно сглаживается и исчезает азарт погони, пропадает собачья радость от того, что догнал, зато медленно появляется растерянность: он ведь теперь без кодлы, а он так не привык. Но он еще храбрится, показывает Володе кулак сквозь заднее стекло и беззвучно матерится. У Володи же совсем нет радости от того, что спасся, он чувствует, что все равно поступил как трус, оставив там Наташу, и это бегство будет с ним всю жизнь, если он сейчас не сохранит лицо. И, поскольку трамвай подходит к следующей остановке, он решается и выходит навстречу судьбе.
Судьба в лице преследователя не знает, как себя вести. Все шло более-менее прилично: заяц внутри, он снаружи, все на своих местах, погоня как бы продолжается, а там, может, и пацаны подтянутся, но тут - на тебе, выходит из трамвая и идет к нему, надо полагать - драться. Так можно было бы самому соскочить, а потом сказать пацанам, что не догнал, а так все придется исполнять долг. Он соскакивает с " колбасы " и прыгает перед Володей, принимая боксерские, как ему кажется, позы. В его глазах неразрешимая тоска охотника-дилетанта, случайно в одиночку завалившего в глухой тайге медведя и не знающего, что делать с трофеем. Поэтому он танцует перед Володей в боксерской стойке и подбадривает себя смелыми всхлипами типа: " Ну давай подходи, щас получишь, щас заработаешь ". И Володя покорно подходит, сокращая дистанцию. Но тому этого вовсе не надо, нельзя допустить, чтобы атака стала неизбежной, поэтому он угрожающе бормочет: " У меня первый разряд по боксу, нам в секции запретили драться на улице, но тебе я дам! Ух, я тебе да-ам! Ух, как я тебе... "
Они поменялись ролями, и он сам теперь превратился в зайца, решившего показать клыки - в хищного такого зайца. Однако заяц с клыками - как и тигр с морковкой, торчащей из пасти, - выглядит странно. Володя смеется... Пацан озадачен. Он опускает руки и смотрит на Володю с надеждой на то, что тот сошел с ума. И тут Володя говорит: " Идем! Отведи меня к ребятам. Я хочу поговорить с Женькой и остальными ". Это подарок, это наилучший выход для непутевого члена кодлы, который без кодлы - ноль, ничто. Он сейчас приведет Володю, как единственный, кто его догнал и поймал.
- Как? - все еще не веря в удачу, спрашивает он.
- Да так, - подтверждает Володя.- Скажешь, что ты меня поймал.
Я сдался.
- Сдался ? - радуется пацан.
- Сдался,- говорит наш Дон Жуан. - Идем.
И они идут назад к парку, Володя - в роли пленного - чуть впереди, парень - в роли конвоира - чуть сзади.
На лужайке перед скамейкой, на которой сидели влюбленные, собрались все преследователи. Они не знают, что теперь предпринять, но предпринять хочется.
А дичь ускользнула из-под носа, и стоять, лязгая челюстями вхолостую, гончие долго не могут. И тут, о радость! - один из них ведет беглеца, ведет прямо к ним. Поведение беглеца абсурдно: он что, не знает, что с ним сейчас будут делать? Но нет, идет смело, прямо в гущу легавых. Те невольно расступаются и обращаются с немыми вопросами к конвоиру: мол, что происходит? Сам идет на плаху или ты заставил? Конвоир, превратившийся в одночасье в первое лицо погони, пожимает плечами и скромно улыбается, но это скромность героя, которому самому как-то неудобно признаться, что это он поймал, ребята же тоже участвовали, так что пусть сами догадаются.
На лужайке - предвоенная тишина, предгрозовая; тишина, беременная дракой, мордобоем, расправой и кровью. Володя почему-то не чувствует страха и смотрит на себя как бы со стороны, как в кино, будто это и не с ним происходит.
Готовую вот-вот лопнуть тишину нарушает его спокойный голос: "Я хочу говорить с Женькой. Где главный? Где Биньковский? Я ему все объясню ". Но тон военного атташе, приехавшего на переговоры о перемирии во вражеское посольство, тут не проходит.
"Объяснить он хочет, кобель недорезанный, - раздается сзади вибрирующий тенорок, веселый и наглый, как реклама на телевидении. Это один из самых отпетых " пятачкистов " Игорь Лаптин, отзывающийся, конечно же, на кличку Лапоть. - Щас я тебе сам объясню, падла ",- говорит он, медленно вынимает из кармана финку, нажимает - и выщелкивается длинное лезвие.
Кодла безмолвно расступается; в образовавшемся круге - двое: Лапоть и доморощенный рижский Ромео, который, несмотря на запрет, покусился на икону и сейчас за это расплатится кровью. Он тем не менее продолжает, как это ни странно, не бояться и глядеть на эту ситуацию, будто из зала кинотеатра - на вульгарный боевик, в котором героя сейчас пырнут ножом.
Лапоть, разогревая себя, делает дежурный такой, без души, выпад финкой.
Володя, качнув корпусом, легко уходит от удара. Лапоть рычит и повизгивает, но чувствуется, что ему и самому не очень-то хочется попасть финкой в Володю; он уже однажды сидел и во второй раз не жаждет, однако репутацию крутого парня среди своих ему тоже терять не хочется. И он делает ложные замахи, дергает корпусом, и финка играет и блестит в его руке. Взгляд Володи прикован к ножу, и ясно, что в этом балете должны быть и кода, и финал, Лапоть обязан ударить; все ждут, у него просто выхода другого нет, он ведь не пижон какой-нибудь, не фраер дешевый, который вытащил перо, чтобы только его показать, пырнуть придется, а то пацаны не поймут, авторитет потеряет. Лапоть это начинает осознавать и, видно, решается, переходит к коде, лезвие в его руке вертится все быстрее, и отборный мат, который сопровождал его действия, становится сначала громче, а потом сильно обогащается всем, чему Лапоть научился в зоне.
И все громче и яростнее ругается Лапоть, потому что ему самому перед решающим тычком под ребра нужно довести себя до блатной истерики, до состояния сладкого аффекта, когда все по фигу. А вообще-то он парень тщедушный, маленький, даже с горбом небольшим, да и в зоне, по слухам, его никто не чтил, и он, что называется, спал у параши. И тем не менее сейчас что-то произойдет, будет финал, - чувствует Володя и тоже готовится, сейчас ему должна пригодиться спринтерская реакция, приобретенная в легкой атлетике. Он уже не смотрит на нож, он смотрит Лаптю прямо в лицо, надеясь предугадать по глазам момент удара. Лапоть делает шаг вперед, и Володя понимает: сейчас!..
Милиции, конечно, нет, но обиднее всего то, что и Наташи нет, она не видела, как он вернулся, и не увидит, как он геройски погибнет из-за нее или будет тяжело ранен.
"Получай, ссучара! " - ликует Лапоть и делает короткий решающий замах. И тут сбоку раздается резкий окрик: "Стоять! " Рука с ножом где-то на полпути притормаживает, теряет темп, будто споткнувшись об этот окрик, но по инерции продолжает двигаться прямо к Володиному животу, и тогда Володя неумело, обеими руками блокирует этот уже потерявший энергию удар. "Стоять, кому сказал! " - опять раздается резкий окрик Женьки Биньковского, ибо это именно он, и Лапоть неохотно опускает нож, потом вдруг перебрасывает из правой руки в левую, причем делает это даже весело, красиво, не без лихости - мол, эх, не получилось кровушки пустить! подбрасывает эдак винтом, лезвие крутит пируэт вокруг своей оси, и пока Володя любуется его полетом, ловит нож левой рукой, а правой бьет Володю в челюсть - с паршивой, как говорится, овцы хоть шерсти клок. Володя, к своему удивлению, успевает среагировать и на этот удар, успевает чуть-чуть отклонить лицо, и удар получается скользящим, ссадина на скуле - не более, но он понимает Лаптя и из вежливости падает. Лапоть гарцует перед телом поверженного противника, но тут же получает тычок в живот от Женьки. Женька тут непререкаемый авторитет, сидел ты там или не сидел - не важно, а его команды надо выполнять, о чем Женька Лаптю и напоминает. Лаптю надо слушаться, повиноваться, но это ему, однако, не западло, что в переводе с его языка на интеллигентный означает, что повиновение в данном случае не унижает человеческое достоинство Лаптя и не ущемляет его гордость, а, наоборот, сохраняет в коллективе принятую иерархию и поддерживает дисциплину.
Женька берет Володю под руку и отводит в сторону, на сепаратные переговоры.
Переговоры проходят парламентарно, вежливо. Впрочем, что это я ? Посмотреть, что творится в некоторых парламентах (я не только наш имею в виду), и поймешь, что поведение кодлы во главе с Женькой Биньковским по сравнению с ними - ну просто открытие Каннского фестиваля или бал в Аничковом дворце в присутствии императора. Поэтому и наш с Женькой диалог представляет собой не какую-нибудь там мерзкую мокрушную разборку, а вполне доброжелательный разбор полетов, при котором анализируются взаимные претензии, а также ошибки сторон, чтобы их больше не повторить. Тем более что Женька понимает: нам вдвоем еще в школьном ансамбле петь да петь.
- Ты скажи мне, засранец, на кой хрен ты встречался с Натальей, говорит Женя ,- мне когда сказали, я не поверил.
- Да я...
- Погоди, дай я скажу. Будто ты не знаешь, что, во-первых, - Женька загибает пальцы, - она ничья...
- А почему...
- Заткнись. Потому что ничья! Ноль-ноль, понял! Во-вторых, Костя Дмитриев на нее молится, и ты поступаешь не как товарищ, а как последняя паскуда. Он на нее молится, а ты в этом храме насрал, согласен?
Я согласен лишь отчасти и хочу сказать, что если я Наташу тоже люблю, то мои действия можно хотя бы частично оправдать. Но Женька это почти предвидит и еще не слетевший с моих губ аргумент бьет своим последним доводом:
- И, наконец, третье и самое поганое: ты Наташу, если по-честному, и не любишь вовсе, тебе, говнюку, не Наташа нужна, а победа; ты хочешь, чтобы она в тебя влюбилась, чтобы никто не смог, а ты смог. Занимался бы Люськой из драмкружка, спортсмен херов, она ведь только для этого и живет. А Наташу не трогай...
Значит, мы с тобой так договоримся: если ты мне обещаешь, что больше с Наташей встречаться не будешь... - Женька задумывается, видно, у него сейчас мелькнула мысль, что обещать-то я могу, а потом... У меня, к слову сказать, она тоже мелькнула, но Женька это будто прочитал. - Нет, так легко ты не отделаешься,- говорит он. - Мы сейчас идем к тебе, и ты при мне ей звонишь.
- А если ее...
- Дома она, - перебивает Женька, - ее уже всю в слезах ребята домой отвели.
- В слезах? - робко радуется Володя.
- Ага, в слезах... По тебе, кочерыжке капустной.
Тут Женькин взгляд ползет брезгливо от моего лица до ног, рисуя вопрос: и чего это школьные красавицы находят в этом попугае? Потом он вспоминает о своем заветном и тихо выжимает из полузакрытых губ, как пасту из тюбика, слова:
- Печорин... Мать твою...
Мы оба вспоминаем подпольную книгу " Герой нашего времени ", поэтому улыбаемся, но так, чтобы никто не видел.
- Домой к тебе идем, - продолжает он. - Ты звонишь при мне и говоришь, что, мол, так и так, больше встречаться не будем.
- Она спросит, почему? Спросит, не избили ли меня ? Подумает, что меня избили и запугали.
- Не волнуйся,- говорит Женька, - за свою гордость, поздно за нее волноваться . Ты скажешь, что отказываешься от встреч ради друга Кости, и это будет справедливо.
- Все так, - говорю, - но мы ее не спросили. - "Мы " уже говорю, словно теперь мы с Женькой в сговоре против Наташи. - Может, Наташе будет плохо от этого, может, она уже давно меня любит.
- А вот это меня не гребет, - говорит Женька уже более строгим голосом. - Про это ты не волнуйся, это не твоя забота. Можешь ты, козел, не для себя хоть что-нибудь сделать?
- Так я как раз о Наташе...
- Не на-а-до. О себе, а не о Наташе! Хочешь и на елку влезть, и жопу не ободрать... Ты только не думай, что сможешь нас надуть, - продолжает он. Что сможешь отказаться по телефону, а потом встретиться тайком, все объяснить и продолжать. Не выйдет. Мы будем за вами следить. А если не пойдешь сейчас звонить, мы тебе здесь же ноги переломаем, а если обманешь потом, то уж я Лаптю мешать не стану, пусть он тебя разрисует, как умеет.
- Ну хорошо, - с глубоким вздохом то ли сожаления, то ли облегчения соглашаюсь я,- идем...
- Ребята, все в порядке, мы договорились, - обращается Женька к собравшейся ассамблее. Они стоят, смотрят: не все еще ясно, почему нужно расходиться, так и не поколотив Зеленого (Зеленый - это у них моя кличка, надо полагать - из-за фамилии). - Он больше не будет. Скажи, что ты больше не будешь, - толкает он меня в бок.
- Да, - говорю, - не буду.
- Нет, ты скажи им внятно: я больше не буду.
- Я больше не буду, - покорно повторяет наш " рыцарь ", понимая, что это звучит совсем по-детски; презирает себя за это еще больше и, чтобы окончательно не упасть в своих глазах и, что еще важнее - в их, произносит свое " больше не буду " с выражением: я сейчас вынужден, но все равно буду, буду, и не надейтесь. Но никто, на его счастье, этого подтекста не замечает, и ребята с негромким и недовольным ропотом начинают расходиться. Мы с Женькой идем звонить.
Все происходит, как и предполагалось, она кричит в трубку что-то вроде: "Ты жив? " - я подтверждаю, что жив и даже невредим.
- Да? Ты не врешь? - не доверяет Наташа, и даже легкое разочарование слышу я в ее голосе.
- Да. Мы должны встретиться, я тебе кое-что должен сказать.
Женька начеку, он шепчет рядом:
- Никаких встреч! Сейчас объясняй, по телефону.
Но я же не могу передать Наташе по телефону, что мой разговор под контролем, а потому я сейчас буду говорить не то, что думаю. Однако приходится, и я говорю все то, о чем условились с Женькой. Телефон стоит в коридоре, проходят соседи, с любопытством косясь на нашу пару, и Женька со всеми здоровается, улыбаясь, а мне от этого еще неудобнее. Единственная надежда на то, что потом как-нибудь найду способ объясниться с Наташей, которая никак не может разгадать драматический ребус: почему я хочу отказаться от нее? И я чувствую, что она начинает подозревать меня в простой трусости. Но ведь я по большому-то счету не испугался ничего на протяжении всего прошедшего эпизода, однако по телефону не подмигнешь, а товарищескому патриотизму по отношению к влюбленному в нее Косте она не доверяет.
- Почему, ну почему? - шепчет она и, слышу, начинает плакать.
"По кочану ",- стандартно ответил бы поздний Качан на этот сакраментальный вопрос, а сейчас он категоричным тоном майора внешней разведки, отправляющегося в бессрочную командировку в одну из стран НАТО и вынужденного объясниться с женой по этому поводу, говорит:
- Так надо!.. - Суровая непреклонность этой фразы, ее чекистский холодок чуть скрашивается последним повтором, мягким, утешающим и ласковым (вот крючок в будущее, только бы она поняла!). - Так надо... Наташа... - И это единственное, что он сейчас при Женьке может себе позволить.
Володя вешает трубку и поворачивается к командиру с немым вопросом: ну что, доволен? Так же безмолвно Женька выражает своим лицом, что получил полное удовлетворение. Заключение позорного Брестского мира можно отпраздновать в молочном кафе на углу, за бокалом полезного молочно-фруктового коктейля и тарелочкой хлебного супа со взбитыми сливками (фирменное блюдо латышских кулинаров).
Тем же вечером он перезвонил Наташе и рассказал о том, как он не убежал, а вернулся, и как потом сила его характера вынуждена была уступить силе обстоятельств. Наташа поняла. Далее он объяснил, что в силу тех же обстоятельств они некоторое время не встретятся нигде, кроме школы, за ними будут следить, и они имеют право только здороваться, но холодно и нейтрально.
Наташа должна делать вид, что обиделась и он ее больше не интересует, как трус и предатель. А потом он найдет способ назначить ей свидание в месте, где их не засекут.
Усыпив таким образом бдительность соглядатаев и заставив их поверить, что он играет по правилам, Володя, проходя как-то раз мимо Наташи на школьной перемене, случайно задел ее плечом, извинился и пошел дальше. Но именно в тот момент, когда задел, в кармашек ее школьного форменного передника попала записка, в которой Володя предлагал встретиться в 16.00 в читальном зале библиотеки на улице Стрелковой, идущей прямо к школе от Стрелкового же парка.
Записка была передана ловко и незаметно, почти так же, как в некоторых шпионских фильмах, которые Володе довелось к этому времени посмотреть.
Он шел к месту свидания со спортивной сумкой, якобы на тренировку, и поминутно проверял, нет ли за ним " хвоста ", все делая, как в кино: то у него шнурок развяжется, и он, присев его завязать, оглядит улицу, то вдруг что-то заинтересует его в витрине магазина и в отражении он опять проверит, кто там сзади; то юркнет в ближайший подъезд и выйдет тридцатью метрами дальше через проходной двор - все было глупо - никому он был не нужен. Но интересно же!
Адреналин играл в крови нашего местечкового Абеля, и он рывками и зигзагами приближался к месту "явки ", к библиотеке. В последний раз оглядевшись перед дверью, он вошел. Наташа уже была там. С белым лицом сидела она за дальним столом читального зала, напряженно уставившись в дверь, и руки ее машинально перелистывали интереснейший справочник для садовода-любителя в поисках главы "Перекрестное опыление ". Ее порыв встать навстречу появившемуся Володе был им тут же пресечен, он сделал ей знак оставаться на месте, взял себе тоже кипу каких-то журналов и сел недалеко от раскрытого окна спиной к нему и лицом к Наташе. Их разделяло семь-восемь столов, но народу в зале было мало, и никто не заслонял обзор дорогого предмета, который вместе с опасностью стал еще дороже и притягательнее. Они стали друг на друга смотреть. Но как! Все, что не могло состояться в физическом плане, выражали сейчас одни глаза, между первым и последним столом читального зала образовалось поле, ионизированное большими чувствами, электрическая цепь замкнула два полюса с разноименными зарядами "Наташа " и "Володя", и между ними пошел ток высокого напряжения. И это материализовалось настолько, что, когда Володины глаза гладили Наташино лицо, волосы, фокусировались на ее губах и даже расстегивали ее кофточку, Наташа краснела и эту кофточку поправляла, и волосы тоже - хотя реально к ней не прикасался никто! Семь столов между ними! Целомудреннее свидания и захочешь - не придумаешь.
И тут сзади прогремел выстрел... А произвел его не кто иной, как тихий барабанщик Костя Дмитриев. Он долго терпел, долго любил, им долго пренебрегали, и теперь Косте уже было нечего терять. Это он выследил - и не меня, разумеется, а Наташу; он ходил за нею по пятам, только она этого не знала и пренебрегла простыми правилами конспирации; хвост был не за Володей, а за Наташей, да еще какой! Опасный хвост скорпиона, готового им ужалить обидчика в любой момент. У Кости было свое оружие, которое он сам же и смастерил. И никто даже из его друзей об этом не знал. Оно стреляло гайками.
Умелец Костя изобрел, сконструировал и собрал свой пистолет - уродливое сооружение, даже отдаленно пистолет в его классическом виде не напоминающее.
Однако сооружение стреляло. Гайками. Первый пробный образец взорвался при испытании в Костиной руке (об этом мы все позже узнали), и Костя два месяца играл на барабане, держа палочку между средним и безымянным пальцем, а указательный так и остался согнутым навсегда, так как взрыв повредил ему сухожилия. Второй образец был испробован на мне и оказался удачным. В том смысле, что не взорвался и выстрелил как надо и в том направлении, в каком Костя и хотел, то есть в голову своего удачливого соперника.
Костя долго стоял у открытого окна читального зала и видел, что происходит.
Читальный зал располагался на первом этаже, и Косте было удобно наблюдать. Он даже не скрывался особенно, потому что его могла увидеть только Наташа, а все ее внимание занимал другой. В честные намерения того, другого, Костя никогда не верил, и в слово, данное Женьке, - тоже, и теперь с горечью убедился в своей правоте. Однако не этот подлец вызывал в Косте такую боль, а весь облик Наташи, которая то краснела, то бледнела, глядя на другого, и во взгляде ее были такая нежность, такая мука необладания, что Костины страдания становились невыносимыми. Но он стоял, стоял, мазохистски выпивая до конца всю эту горькую чашу, наполненную своим отчаянием и болью. Ну как он мог сделать им обоим так же больно, как сейчас было ему?! Как отомстить? Ну, конечно же, выстрелить в голову Володе, сидевшему спиной буквально в трех шагах. И пусть он его убьет, пусть она потом всю жизнь терзается своей виной, а Костю пусть в наручниках и кандалах... пусть, но пусть она увидит, как он... пусть тоже пострадает... И Костя нажал на согнутый гвоздик, служивший в его самопале спусковым крючком...
Кончилось все трагикомично (вновь торжествует мой любимый жанр).
Костя не попал. Он промазал. Сознательно или бессознательно - теперь уже не узнает никто, да и сам Костя вряд ли смог бы ответить на этот вопрос. Он ведь не был хладнокровным киллером, рука его в последний момент дрогнула, и гайка, просвистев рядом с Володиным ухом, вонзилась в стену напротив, и не куда-нибудь, а в портрет совсем иного Володи - Ленина, висевший на этой стене, а еще точнее - прямо в середину высокого ленинского лба. Это невольное идеологическое преступление было тогда настолько страшнее даже настоящего убийства, что Костю прямо-таки парализовало у окна, как Фанни Каплан во время исторического покушения, когда она даже не пыталась бежать. Однако, что еще ужаснее, Костя оказался удачливее Каплан: прямо в огромный лоб, прямо в центр... Хоть и портрет, но все-таки... И в ужасе от своего диссидентского демарша Костя так и застыл с дымящимся самострелом в руке. Из состояния комы его вывел звон разбитого стекла. Портрет Ильича был застеклен, и стекло разнесло вдребезги. Однако нижний кусок держался в неустойчивом равновесии несколько секунд и все-таки рухнул на край Наташиного стола. Костя побежал.
Никто так и не узнал тогда, что это сделал Костя. Заподозрили латышского националиста, но не подтвердилось, никого не нашли. А Костя выбросил куда-то свое дикое оружие и больше им, слава Богу, никогда не пользовался. И вот что удивительно, мы потом продолжали с ним дружить как ни в чем не бывало, более того, смеялись вместе над этим эпизодом. И любовь у Кости как-то поутихла, стала ровнее, что ли, без эксцессов, и он попросил меня никому об этом не рассказывать.
- Не обязательно ведь знать кому-то еще, каким дураком я был, правильно!
- Правильно, - согласился я и не рассказал, только вот вам теперь.
Да и Наташа тоже молчала до поры, но все-таки втайне была горда: ведь не у всякой женщины в биографии есть момент, когда из-за нее стреляли и могли бы даже убить. Ну а что гайкой, так ведь про гайку можно и не упоминать, верно?..
Прошло много-много лет, и однажды в июле Задорнов организовал встречу одноклассников. К кому-то из них мы приехали в гости, они готовились, накрыли стол, и все пришли в чем-то праздничном: ну как же, к ним приехали столичные знаменитости, особенно Задорнов. Мы вошли, и Миша стал со всеми приветливо здороваться, он всех знал, он с ними регулярно встречался, поскольку намного чаще, чем я, наведывался в Ригу. А мои родители переехали в Москву, и мне уже не к кому было туда приезжать. Я чувствовал себя растерянным и смущенным - я не узнавал многих, то есть нет, угадывал знакомые детские черты в чьих-то чужих физиономиях, но кто есть кто и как кого зовут - хоть убей, не помнил. А они видели мое замешательство, и им от этого было почему-то не обидно, а весело. Мне впору было знакомиться со всеми по новой. Я пожимал всем руки, тоже улыбался, смеялся, но панический ужас от того, что я не помню, как кого зовут, делал мое поведение натянутым и безобразным, как у плохого конферансье, у которого ни одна шутка не проходит, а он все равно старается изо всех сил быть игривым и легким.
Будто в жестоком сне передо мной крутился хоровод расплывшихся тел, металлических коронок, дешевых духов, морщинистых шей, пухлых пальцев с впившимися в них обручальными кольцами.
"Боже мой, - думал я,- и ведь я в их глазах точно такой же! Чем я лучше? Тем, что меня по телевизору иногда показывают? И поэтому им легче меня узнать? Нет!
Я такой же точно, как они, эти десятилетия ведь не сделали меня красивее и стройнее. Они же все помнят меня таким, каким я бегал стометровку за одиннадцать секунд. Они же могут сравнить! И я по сравнению с тем Володей проиграю... Однако нет, смотрю потихоньку и вижу, что я для них тот же Вовка, а писатель-сатирик - тот же Мишка, они не останавливаются перед кривыми зеркалами времени, просто не берут их в расчет, живут себе, и все. Сейчас!
Этим годом, этим днем, этой минутой встречи. А вся драма (если это принимать за драму) человеческого старения заключается в том, что в дряхлеющем теле, болеющем туловище продолжает жить и биться тот же десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка, восемнадцатилетний юноша и двадцатилетняя невеста, сорокалетний муж и сорокалетняя мать и далее, далее до тех пор, пока несовершенное тело каждой клеткой своей будет хранить эту память. Все ведь наши возрасты от нас никуда не деваются! Они продолжают в нас жить. Это все те же мы, только старше. Поэтому и разговоры те же, и интонации, и жесты, но все равно отрешиться от того, какие мы теперь, трудно. Так же, как трудно слышать почти каждую фразу, обращенную к тебе, которая начинается стандартным:
"А помнишь? "
Да помню, помню, черт возьми! Но какое это сейчас имеет значение! И не хочу, не хочу я больше ничего вспоминать - ни как эти две тетки, а раньше - Анька и Зинка, делали за меня черчение, а другая тетка - Светка, объясняла мне химию и тригонометрию; ни то, как вот с этим лысым дядькой, тогда Сашкой, я впервые в жизни в пятом классе серьезно подрался. Я все боялся драться тогда, а он все лез и лез, зная, что отпора не получит и что за ним - еще двое. У этих троих была традиционная внеклассная забава: побить Качана. И начинать всякий раз должен был трусливый и нахальный Сашка, а эти двое стояли сзади как моральная и физическая поддержка. И так всякий раз били, пока Вову кто-то из старших не научил бросить ранец и кинуться, молотя руками и ногами, не заботясь о том, попал или не попал. И он тогда кинулся, и Сашка, никак не ожидавший такой прыти, побежал, и остальные удивились настолько, что прекратили свои ежедневные издевательства после уроков.
Зачем мне его-то вспоминать? Но он говорит: "А помнишь... " - и я вспоминаю.
А уж ее-то ну совсем не хочется, и даже стыдно. Она - венец этой встречи, ее зовут тоже Наташа, как и ту. Эта о своем имени мне сама напоминает. Но перед тем, как назваться, меня мучает. Она подходит и говорит: "Ну, здравствуй ". "
О-о! - фальшиво радуюсь я.- Привет! " Молчим. Она говорит:
- Ну?..
- Что " ну "? - прошу я уточнить.
- Может, поцелуешь при встрече-то?
"А с какой стати? " - хочется мне спросить, но вместо этого я покорно целую подставленную щеку.
- Ну... - опять говорит она и опять молчит.
Мое смущение растет, я чувствую, что еще что-то должен, а что - не знаю.
- Ну и как меня, по-твоему, зовут?.. - спрашивает она, и я попался, но еще трепыхаюсь, еще чего-то пытаюсь...
- Здра-а-сьте, ты что это... ну, это уж совсем... - прикрываю я улыбкой свое беспамятство. Но ее не проведешь.
- Как? - допытывается она.
Я возмущенно и одновременно беспомощно развожу руками.
- Так как? - в последний раз говорит она и еще через пять секунд: - Ты меня забыл?.. - делая ударение на слове " меня ". За этим стоит только одно: я мог забыть в нашей компании кого угодно, но только не ее. Значит, что-то в нашей школьной жизни было. Такое, что для нее стало, наверное, событием, а для меня - так, проходным эпизодом.
- Наташа меня зовут, - приходит она мне на помощь. - Не мучайся, я тебе сама напомню: я твой первый школьный танец, - улыбается она, - сначала танец, а потом другое - вспомнил?
А-ах! Черт! Ну конечно! Этот танец на школьном вечере. Пластинка итальянской эстрады, Доменико Модуньо, "Квартакелуна, квартакемаре ", и мы с ней еле двигаемся в полутемном зале, над которым переливается огоньками крутящийся шар. Еле двигаемся, потому что ни музыка, ни ритм не важны, мы слиты в одно, мы тесно-тесно прижаты друг к другу, и мне почему-то кажется очень важным, чтобы она почувствовала, как взволнована нижняя часть моего тела, чтобы она ощутила мое эротическое вдохновение. И она чувствует, и прижимается еще теснее, и тоже взволнована, и моя коленка между ее еле двигающихся ног, а ее - между моими ногами, и вот-вот наступит неприятность, конфуз, и надо будет бежать переодеваться или вообще уходить, и этого нельзя допустить, но и хочется. И тут танец заканчивается, мы стоим смущенно, и друг на друга не смотрим, и ждем следующего танца. Но он оказывается быстрым, и мы идем на свои места дожидаться следующего, медленного. А потом на чьем-то дне рождения мы опять танцуем в полутьме, и в конце вечеринки почему-то оказываемся одни в отдельной комнате, и весь этот танец продолжается, только уже без музыки, и Наташа, задыхаясь, говорит: "Я хочу тебя..." И я хочу, но не знаю, как...
Наташа гораздо взрослее меня, хотя мы и учимся в одном классе. Взрослее не по возрасту, а по развитию. Она выглядит вполне созревшей молодой женщиной, а я... так... жалкая гримаса переходного возраста. И поскольку я не знаю, как, да и у нее опыта маловато, - у нас ничего не выходит; к тому же в эту комнату поминутно заглядывают и мешают. Да-да, я помню все, что происходило, только не помню, с кем. А она помнит, ей было важно тогда - с кем. И смотрит на меня сейчас вполне по-женски, может быть, даже прикидывая: не довершить ли нам теперь начатое тогда, много лет назад? И, наверное, это было бы неплохо: она красива сейчас, ее школьная сексуальность, видимо, развивалась в правильном направлении, она здесь одна-единственная, кто сохранил привлекательную форму и даже в чем-то улучшил ее.
Но нет, ничем хорошим такие возвращения не оборачиваются: и она это знает, и я . И скажите: ну на кой черт мне нужны были и эти воспоминания ?! Что они мне?
У меня в Москве дел полно, у меня планы, у меня...
Только отчего это я отошел подальше в другой конец комнаты и отвернулся к окну со сморщенным лицом, чтобы не портить всем праздник встречи? От того ли, что эта встреча - не встреча, а прощание с той большой и, может быть, самой легкой частью жизни? От того, что жизнь наша короткая проносится со свистом, а мы так и не успеваем понять, что такое красота и счастье, и только приближаемся иногда к этому высокому знанию, а оно, поманив, опять уходит все дальше, дальше?.. Или от сознания того, что меня не будет, а эти дорогие улочки, эти море, сосны и дюны останутся, и как же они будут без меня ?..
У вас никогда не бывало такого, что вот вы идете по улице, или нет спускаетесь по эскалатору метро вниз, а навстречу, вверх, едет незнакомая красивая девушка (а если вы - девушка, то наоборот), и тут вы встречаетесь глазами, и пока она проплывает мимо, в те короткие мгновения встречи, что вам отведены, вы успеваете подумать, что, может быть, это судьба, а вы едете мимо?
И, похоже, ее посетила та же мысль, и она долго не отводит взгляда, и даже оборачивается вместе с вами, а эскалаторы плывут в разные стороны, и вы друг от друга все дальше, дальше...
Эскалаторы сейчас разведут ваши судьбы по разным дорогам, и вы больше никогда (!) не встретитесь. Вы пересеклись только один раз, и этот шанс не использован...
Вам хочется крикнуть: "Подождите меня там, наверху, я сейчас поднимусь! " - но глупые правила приличия вас останавливают.
Перед людьми неудобно, и к тому же ей, возможно, ничего этого не надо, и она смотрит просто так, от скуки. А ваше воображение наделило ее теми мыслями или чувствами, которых у нее и в помине не было.
Хотя, если уж совсем по-честному, вы вот таким образом оправдываете свою собственную лень и трусость. А потом уже окончательно утешаетесь мыслью о том, что если вы случайно встретились в таком месте один раз, то возможен и второй, и уж тогда-то вы непременно крикнете, вернетесь наверх, подойдете и познакомитесь.
Надо положиться на судьбу, думаете вы, надо довериться ей. И вот если вдруг, когда-нибудь, второй раз... И не обязательно в метро, вы ее увидите, узнаете, вы же ее запомнили...
Но второго раза никогда не бывает, и позднее сожаление тонет в вашем доморощенном фатализме.
Получилось не " сплетение судьбы " (когда две судьбы становятся одной общей), а лишь прикосновение. Или нет - даже его не было, потому что вы испугались ожога и тут же отдернули руку...