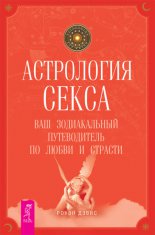Галиция. 1914-1915 годы. Тайна Святого Юра Богданович Александр
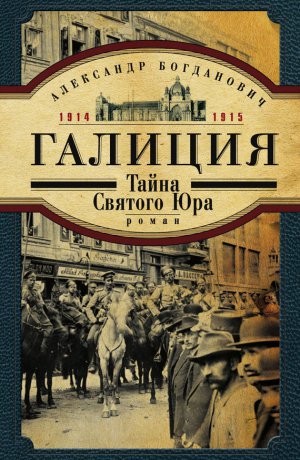
Слегка наклонив большую, абсолютно лысую голову, Цвибельфиш с добродушно-участливым выражением ненавязчиво, как бы сам с собой, заговаривал с очередным клиентом. Легкими штрихами он затрагивал то одну, то другую тему, нащупывая слабые места в укреплении, возводимом людьми вокруг себя из сдержанности, недоверчивости, высокомерия или просто стеснительности. При этом он никогда не допускал категорических высказываний, не оспаривал мнения собеседника и не касался политических и интимных вопросов первым.
Зазвенел дверной колокольчик, и в цирюльню вошел фабричный инспектор Казимир Михальский, он же тайный агент Особого отделения штаба генерал-губернатора по кличке Равский. Подобно Цвибельфишу, он тоже был страстным поклонником человеческого общения, правда, с чисто корыстными целями. Ни для кого не являлось секретом, что Михальский до войны состоял в особых отношениях с комиссаром второго класса Львовской дирекции полиции Щепаном Пивинским. В самом начале войны комиссар вместе с дирекцией полиции благополучно эвакуировался в Бьялу, а Михальский, следуя своему призванию и таланту, продолжил работу с секретными российскими службами, теперь уже как Равский. Жил он на соседней улице Шопена и часто, по привычке, захаживал в парикмахерскую перекинуться словом и обменяться новостями с такими же, как он, неравнодушными к происходящему завсегдатаями или просто почитать свежие газеты.
Бросив оценивающий взгляд на единственного клиента – пожилого толстяка с намыленными щеками, агент опустился в видавшее виды кресло у столика, заваленного газетами и старыми журналами.
– Русские никогда не возьмут Перемышльскую крепость, – изрек полный господин, очевидно продолжая уже начатую беседу с цирюльником. – Мой брат, полковник, был там полгода назад. Крепостные укрепления на самом современном уровне и абсолютно неприступны. К тому же там сильный гарнизон, а продовольственных запасов предостаточно на целый год обороны. А без этой крепости вся русская наступательная кампания ни черта не стоит.
Цвибельфиш бросил тревожный взгляд на Михальского, который уже оторвался от «Дзенника польски» и напряженно смотрел на белую горку пены на его указательном пальце.
– А вы слышали, господа, что турки без объявления войны обстреляли Одессу и Севастополь? – попытался сменить опасную тему Цвибельфиш и тем самым оградить клиента от больших неприятностей.
Но тот самоуверенным тоном продолжал:
– В крепости неплохо налажено воздушное сообщение. Они постоянно летают аэропланами на доклады в Вену. К тому же я думаю, они сами скоро начнут атаковать русских.
Цвибельфиш сделал еще одну попытку спасти слишком беспечного клиента, обратив внимание своих посетителей к похоронной процессии, которая в этот момент следовала мимо костела в сторону Яновского кладбища, но и это не помогло. Михальский продолжал не сводить сосредоточенного взгляда с пальца цирюльника, на который была снята с бритвы очередная порция пены.
Тогда Цвибельфиш крепко взял толстяка за нос и стал усиленно скрести бритвой его пухлые щеки.
– Прошу прощения, – осторожно начал агент, – если информация пана верна, а это наверняка так, это может существенно повлиять на настроение наших упавших духом сограждан здесь, в тылу противника?
– Именно, – выдавил сквозь зажатый нос толстяк, – мы должны быть готовы к решительным переменам на фронте.
– Как приятно встретить в наше непростое время единомышленника со стойкой верой в скорую победу над азиатскими ордами, – не скрывая удовольствия, изрек Михальский.
– Никто из нас не должен сомневаться в победе, – мычал толстяк уже сквозь пропаренное полотенце, которое поспешно было наброшено на его лицо.
Но Михальский не слушал, он узнал в этом самодовольном типе управляющего кинотеатром «Лев».
Накануне агент уже принес ротмистру Сушкову пару ценных сообщений. Первое – о двух поляках: кассире и мастере цементного завода акционерного общества «Волынь» вблизи станции Здолбуново, которые выражали откровенные симпатии к немецким и австрийским войскам и наверняка занимались шпионажем. Второе – о сбежавшем из плена лейтенанте австрийской армии Франце Роговском, жившем на третьем этаже дома двадцать четыре по улице Потоцкого[39], выдававшего себя за трамвайного кондуктора.
А сегодня рано утром на рынке он услышал о вагоне со ста восемьюдесятью кругами колючей проволоки, брошенном австрийцами в одном из тупиков станции Клепарово[40].
И вот сейчас – этот жирный тупица из кинотеатра «Лев»…
«Совсем неплохо». Михальский размышлял о размере вознаграждения за свое усердие, когда в цирюльню вошел очередной клиент.
– Пан желает стричься? – неуверенно спросил Цвибельфиш, скользнув взглядом по аккуратной стрижке молодого интеллигентного человека в приличном костюме.
– Я хотел бы сбрить усы и бороду, – ответил тот, присаживаясь рядом с агентом.
«Ну и денек!» – мысленно сокрушался цирюльник, невольно взглянув на Михальского.
А тот уже тщательно изучал нового подозрительного субъекта, который намеревался так кардинально изменить свою внешность.
Не обращая внимания на управляющего кинотеатром, который уже рассчитался и собирался уходить, Михальский мучительно подыскивал тему для начала разговора с незнакомцем.
Наконец, откашлявшись и придав лицу слащаво-заговорщическое выражение, он вымолвил:
– Некоторые пани наверняка будут огорчены исчезновением таких соблазнительных усов?
– О нет, наоборот, некоторые пани будут счастливы, что их прихоти беспрекословно выполняются, – с легкой улыбкой ответил молодой человек.
Цирюльник весело рассмеялся. Михальский же с глупой миной продолжал вопросительно смотреть на незнакомца, надеясь, что тот пустится в объяснения причин своего странного поступка. Но тот остался сидеть молча, покачивая ногой в такт простецкой мелодии польки, доносившейся из шинка через дорогу.
Между тем Цвибельфиш закончил раскладывать по карманам сполоснутые и протертые расчески и ножницы, поправлять на тумбе многочисленные парфумы[41] и мыла и пригласил пациента в кресло.
Неудачная попытка разговорить незнакомца разожгла профессиональный азарт тайного агента Равского, и он решил действовать дальше более простым и проверенным способом. Выйдя из цирюльни и убедившись, что подозрительного господина не ожидает экипаж, он стал искать удобную позицию для начала предстоящей слежки.
Белинский не слушал занятную историю Цвибельфиша о пожаре в хлебопекарне в соседних казармах Фердинанда[42], где сгорели бочки с остатками керосина и колесной мазью, а один из солдат обжег лицо. Он упрекал себя за легкомысленное решение зайти в первую попавшуюся цирюльню и так неосторожно обозначиться[43] в оживленном районе города. Ведь можно было спокойно сбрить бороду в офицерской гостинице «Сити» или, на худой конец, в казарме.
Поблагодарив мастера за аккуратную работу и расплатившись, капитан вышел на улицу. Свернув на Красицких[44], он быстрым шагом направился в сторону Иезуитского парка[45], рядом с которым находилась адвокатская контора Коркеса.
В витрине цирюльни виднелась застывшая фигура Шимона Цвибельфиша. С озабоченным и растерянным видом он наблюдал, как из толпы на трамвайной остановке отделилась фигура тайного агента и последовала за его недавним клиентом.
Глава 14
Адвокат Коркес
Адвокатская контора доктора Натана Коркеса с табличкой Obronca w sprawach karnych[46] располагалась на улице Костюшко, три, рядом с «Народной гостиницей».
Коркес принадлежал к так называемым polacy wyznania mojzeszowego[47] – как почти официально называли в Галиции ассимилированных евреев.
Более десяти лет Коркес являлся членом львовской палаты адвокатов и, если бы не война, вполне возможно, был бы избранным ее председателем на очередном несостоявшемся съезде. В отличие от большинства своих коллег он не уехал в Вену, а остался во Львове продолжать выполнять свои профессиональные обязанности.
Во время мобилизации австрийские власти стали привлекать гражданских судей и юристов к работе в аудиториате[48], но Коркесу удалось этого избежать, тем самым сохранить незапятнанную репутацию перед новой администрацией, и теперь он рассчитывал на свою востребованность.
Русские нуждались в помощи местных юристов, ведь временный правовой порядок в Галиции все еще основывался на австрийском уголовном праве. Прекращены были лишь дела, касающиеся деяний против неприкосновенности территории, верховной власти и государственного строя монархии. В суде временно разрешалось говорить по-польски, несмотря на установленный официальный русский язык с его местными наречиями.
Через связи в магистрате Коркесу быстро удалось установить контакты с российскими военными чиновниками, осуществлявшими наблюдение за отправлением правосудия в Галиции, и теперь он пользовался всеми благами посредничества между своими обездоленными соотечественниками и оккупационными властями.
Когда Белинский зашел в контору, адвокат консультировал служащих Управления Галицийской железной дороги. Обескураженные чиновники искали выход в создавшейся обстановке, связанной с приказом губернатора Бобринского выселить в течение сорока восьми часов из казенного дома на Зигмунтовской, три[49] всех служащих их ведомства, не пожелавших сотрудничать с новой администрацией.
– Господа, – наставлял их Коркес, – не забывайте, что мы находимся на оккупированной территории и правовых аргументов для вашего дела сейчас нет. К тому же вам хорошо известно, что для русских железная дорога сейчас – предмет самого особого внимания, от состояния которой зависит снабжение фронта.
– А нельзя ли наше дело уладить в приватном порядке? – неуверенно спросил один из служащих.
– Исключено, – категорически отрезал адвокат, – по этой части у губернатора твердая позиция, и никто не рискнет действовать вразрез с ней. Господа, я настоятельно советую вам смириться с обстоятельствами и съехать куда-нибудь на некоторое время, – с сочувствующим тоном продолжал Коркес. – Поверьте мне, подобное случается почти каждый день и, к сожалению, не имеет юридического разрешения. Как ни парадоксально, мы должны быть довольны тем, что русские считают Галицию своей новой губернией, ведь это не позволяет им проводить тотальную реквизицию имущества у собственного населения. Впрочем, – смялся он, – они используют другие возможности.
На днях, например, военные ограбили в соседнем с нами пятом доме госпожу Шейнблюм. Представляете, люди в военной форме повалили пожилую женщину на пол и стали душить, пока она не отдала ключи от кассы с ценностями. И что вы думаете? Дворник, впустивший грабителей в дом, и другие свидетели из жильцов были так напуганы, что показали, что не видели никаких солдат, и дело за необнаружением виновных было закрыто.
Последние доводы подействовали, и железнодорожники, тяжело вздыхая, покинули контору.
Приезд Лангерта весьма удивил Коркеса. Поездка из Варшавы во Львов в нынешних условиях представлялась ему чуть ли не подвигом.
Но капитан без тени смущения пояснил, что война не изменила отношения людей к деньгам и они по-прежнему остаются самым надежным средством получать пропуска и свидетельства о непригодности к военной службе.
– Да-да, – понимающе кивал адвокат, которому жизненный подход молодого человека весьма импонировал. – Ну что ж, давайте посмотрим, что мы имеем с вашим делом, – засуетился он, доставая из шкафчика папку с надписью Testament Augusty Matachowskiej[50]. – Как я вам уже писал, ваша тетушка завещала сумму в тридцать тысяч крон на публичные цели: пять тысяч на польские школы и так далее. Она не оставила каких-либо пожеланий в отношении оставшихся в банке десяти тысяч крон и своего дома. Вы, конечно, понимаете, что с оформлением ваших прав следует повременить. Кто знает, может, уже в ближайшее время все станет на свои места. – Какие места, Коркес не уточнил, лишь, нагнувшись, многозначительно прошептал: – Ходят слухи, что в сторону Перемышльской крепости уже двигаются немецкие части. Я думаю, поэтому русские начали вокруг Львова эти масштабные саперные работы.
В дверях показалась секретарша и сообщила, что явился управляющий завода «Металл» с улицы Крашевского[51]. Коркес поспешил закончить дела с Лангертом. Укладывая папку с завещанием обратно в шкаф, он пояснил:
– Пока вы можете свободно поселиться в квартире вашей покойной тетушки. За домом присматривает вполне порядочная семья русинов, которая проживает на первом этаже. Они уведомлены о вашем возможном приезде и помогут вам устроиться. Наберитесь терпения, мой друг, – ждать осталось недолго.
В дверях Лангерта чуть не сбил с ног сильно запыхавшийся господин, который уже с порога начал громко негодовать по поводу изъятия русскими с его завода без надлежащей компенсации динамо-машины и фрезерного станка.
Дом Матаховской на Черешневой стоял среди подобных ему двухэтажных особнячков, странным образом сохранившихся в этой, почти центральной, части города. Дверь открыл пожилой мужчина, который представился Василием Ваврыком. Он не выразил особого удивления приезду наследника и без лишних вопросов проводил капитана на второй этаж.
Квартира Матаховской была уставлена старинной мебелью, на полу лежали порядком выцветшие ковры, а все стены были увешаны семейными фотографиями и картинами с горными пейзажами Карпат. В гостиной выделялась одна из картин в большой позолоченной раме с портретом импозантного господина в конфедератке с овчинным околышем, очевидно супруга покойной. Самой главной роскошью квартиры была широкая двуспальная кровать с огромным резным изголовьем. В кабинете на столе рядом с Библией и засохшей чернильницей капитан нашел семейный альбом. Просматривая его, он обратил внимание на фотографию молодой супружеской пары с сидящей перед ней в кресле солидной дамой. Мужчина в форме австрийского офицера, в темно-синем мундире с саблей и парадном кивере, был очень похож на фотографию Лангерта.
Капитан открыл саквояж и достал вещи. Перспектива проживания в чужой квартире со старушечьими запахами его не вдохновляла, но какое это имело значение по сравнению с важностью предстоящей операции, исход которой, по словам командующего армией, мог повлиять на успех всей осенней кампании.
Глава 15
Разработка резидента
Сообщение агента Равского о выслеженном им подозрительном субъекте поступило в Особое отделение штаба губернатора одновременно с телеграммой из Одессы. Начальник одесских жандармов полковник Шредер сообщал о некоем Андреусе, якобы заброшенном во Львов для руководства всей шпионской сетью немецкого разведцентра. Приметы обоих во многом совпадали. Установить неизвестного не представило труда. Уже на следующий день он явился в районный полицейский участок для регистрации и назвался австрийским подданным Владиславом Лангертом, приехавшим из Варшавы по наследственным делам.
В Варшаву был срочно направлен запрос, а за объектом установлено наружное наблюдение. В проверку были взяты сосед объекта и посещаемый им адвокат Коркес.
Подозрения в отношении объекта у офицеров Особого отделения значительно возросли, когда филеры доложили о его профессиональных действиях по обнаружению слежки. А вскоре из Варшавы пришел ответ, что человек с запрашиваемыми данными еще в сентябре месяце был арестован с поддельными документами и этапирован в Брест-Литовск.
Для организации разработки Лангерта материалы на него были переданы во Львовское жандармское управление, функциями которого являлись политический розыск и производство расследования по делам шпионажа в пределах Галиции. Объекту присвоили кличку Резидент. Контроль над делом взял непосредственно начальник управления полковник Мезенцев – человек с богатейшим опытом разыскной работы в охранных и жандармских ведомствах.
С учетом важности дела слежку за резидентом решили проводить в исключительных случаях. «Хочешь завалить разработку – пускай филеров», – следовал своему железному правилу Мезенцев. Для выявления связей объекта полковник распорядился организовать рядом с его домом стационарный пункт наблюдения, а в квартире незаметно провести обыск во время отсутствия хозяина. Для этого понадобилось вывести из дома супругов Ваврык. Повод их вызова в полицейский участок быстро нашелся. Выяснилось, что их сын служит в украинском легионе под командованием генерала Гофмана где-то в закарпатских селах. Более того, его имя оказалось в списках участников съезда украинской партии, проходившего за год до войны в еврейском центре Jad Charusin.
Одновременно шло изучение адвоката Коркеса с целью его вербовки для использования по делу. Личность этого адвоката уже была известна в жандармском управлении по его многочисленным ходатайствам об освобождении из тюрьмы своих подопечных. Было решено использовать последние хлопоты Коркеса в отношении некоего Альфреда Мюнтера – семидесятилетнего землевладельца из Куликово Жолкевского уезда. Согласно заявлению Коркеса, старика посадили потому, что он не собрал сорока рублей на взятку какому-то жандармскому офицеру, угрожавшему ему расстрелом за то, что его сын служит лейтенантом в австрийском пехотном полку. С этим к нему явился ротмистр жандармского управления Комадзинский. Адвокат был ужасно перепуган, но быстро воспрянул духом, сообразив, что от его правильного поведения старика могут не депортировать в Поволжскую губернию. Он охотно ответил на все интересующие вопросы офицера, в том числе и в отношении всех своих клиентов по имущественным делам. При этом без тени смущения заверил о готовности и впредь оказывать содействие новой власти. Последующие встречи показали, что он правильно понял свою роль. Уже вскоре он доверительно сообщил ротмистру, что на городской электростанции работает с десяток российских дезертиров, а каменщик из села Радия хранит в сарае в мешке ружье. Правда, при этом адвокат не преминул обратиться к жандарму с ответной просьбой: оказать содействие некоему Менделю Голюрману в открытии заведения торговли табачными изделиями на Городоцкой, три.
Время шло, однако, несмотря на все предпринятые меры, ведомство Мезенцева ничего существенного в отношении Резидента так и не получило. Лангерта никто не посещал на дому, а его редкие выходы в город выглядели обычными прогулками.
Стало также очевидным, что Коркес в качестве агента не годится для данной разработки, и опытный полковник распорядился найти для этого более подходящую кандидатуру.
Такой случай представился, когда выяснилось, что Лангерт иногда захаживает в кнайпу «Вулий».
Глава 16
Подстава агента
«Вулий» на углу Академической[52] и Зиморовича[53] всегда был излюбленным местом городских артистов, музыкантов и прочих творческих личностей. Многие из тех, кто не покинул город, по-прежнему приходили сюда, чтобы хоть немного отвлечься от суровых будней военного времени и как прежде, в своем кругу за чашкой кофе, посмаковать свежие новости и слухи, вспомнить былую жизнь на сцене и вокруг нее.
Около девяти часов вечера, без проводов услужливого швейцара, последние посетители тихо, без былого шумного веселья, выходили на улицу, где вместо оживленной суеты их встречало молчаливо-гнетущее безлюдье предкомендантского часа.
Оперный певец городского театра Альфред Сташевский, рассеянно слушая вице-председателя театрального общества Стефана Дындры, разглядывал посетителей в зале.
– Дирижер Солтыс был великолепен, если не считать несколько растянутое allegretto, – доносилось с соседнего столика.
– А я вас уверяю, Варшавский филармонический оркестр имел лучшие моменты лишь в ноктюрнах Дебюсси, – спорили за другим.
«Война все изменила, – с грустью думал певец, – теперь здесь не услышишь выстрелы шампанского, исчезло кабаре, поэтические декламации и импровизированные сценки. Кто бы мог подумать, что вон тот небритый господин, вместо привычного элегантного костюма с бабочкой в сером потертом свитере, – не кто иной, как известный театральный меценат доктор Стефан Хажевский? А вон там пианист Ян Коханьский мило беседует со своим некогда злейшим врагом – театральным критиком Зигмунтом Венглевским, подвергавшим его унизительной критике в театральной прессе за исполнение прелюдий и фуг Макса Регера».
Да и он сам, Сташевский, сидит сейчас как ни в чем не бывало в одной компании с человеком, который в свое время публично обозвал его распутником и обвинил в злоупотреблении своей популярностью среди почитательниц его таланта. Правда, это было не так далеко от истины. Многие достойные дамы города и в самом деле, упоминая его имя, мечтательно возносили глаза к небу в немой мольбе о спасении его души. Сейчас певцу уже за сорок. Его молодость прошла во времена перемен на грани веков, когда провинциальный Львов переживал самый яркий и знаменательный период своей жизни, превращаясь в мощный культурно-экономический центр империи, обгоняя даже столицу бешеными темпами развития.
Прекрасный тенор певца вызывал восхищение львовской публики и завоевал немало поклонников в результате гастролей в Вене, Кракове и Варшаве.
Яркая, беззаботная жизнь Сташевского проходила на приемах в светских салонах и на пикниках в кругу многочисленных почитателей его таланта. Но ближе к войне интерес к театру, как и вообще к искусству, в городе стал резко падать. В преддверии мировой катастрофы всех больше волновали собственные судьбы.
Война окончательно выбила почву из-под ног артиста. Он запил, перебивался случайными заработками, выступая в далеко не престижных местах. Иногда захаживал сюда, в «Вулий», чтобы поворошить прошлое с такими же, как и он, неудачниками и в который раз пересказать им свои былые приключения на балах и карнавалах во дворцах Голуховских, Дзедушинских и Бадени.
Но сегодня Сташевский зашел сюда не случайно. Он внимательно осматривал каждого нового посетителя, словно кого-то поджидал.
– Как вам это нравится? – продолжал разглагольствовать о новых инициативах губернатора Бобринского вице-председатель театрального общества – лысый толстячок с короткими рыжими усиками. – Они решили оживить культурную жизнь города постановками русских спектаклей и для этого привлечь лучших российских антрепренеров Савина и Багрова. А что касается польского репертуара, то посчитали достаточным ограничиться несколькими так называемыми русско-польскими концертами, которые под общим знаменем славянства будет организовывать этот выскочка Залевский.
– Наш балетмейстер? – все так же полуотстраненно спросил Сташевский.
– Не-ет, это их Залевский, из Московской оперы, – с кислым видом пояснил Дындра.
– Это неслыханно! – воскликнул преподаватель музыкального института Адольф Легинский. – И это в городе, где большинство населения – поляки! Даже в конгрессувке[54] в Варшавском оперном театре не ставилась ни одна русская опера. На сцену не пускали даже Рубинштейна.
– Зато у нас на сцену бывшего Colleseum пускают с представлениями евреев, – иронически произнес Сташевский и плеснул себе в кофе немного коньяка из небольшого чайничка, который в эти суровые дни прохибиции[55] являлся знаком особого внимания хозяина заведения Езефа Фельцера к своим именитым клиентам. Степень этого расположения было трудно переоценить, учитывая, что за нарушение сухого закона хозяину угрожал штраф в тысячу рублей, а то и несколько месяцев тюрьмы.
– Что касается евреев, то тут надо отдать должное личной инициативе их режиссера Шиллинга, – заметил Дыдра. – Насколько я знаю, свое прошение губернатору насчет выступлений он обосновал как «последнюю возможность спасти от голода обремененных многочисленными семьями артистов еврейского театра».
– Я думаю, тут сыграло другое, – поспешил вставить Легинский, – большую часть выручки он обещал отдать в лазареты, а во время антрактов предоставлять сцену русским певцам и певицам.
– Господа, а вам известно, кто из наших направляется в Россию «оживлять там культурную жизнь»? – повернулся с иронической улыбкой к своей компании Сташевский и лишь после того, как нарочито медленно прикурил потухший окурок сигары, удовлетворил любопытство присутствующих: – В городской комендатуре готовят к отправке в отдаленные губернии России директора Черновицкого театра Кошрика и профессора Шиндру. И заслужили они это тем, что для поднятия духа сограждан организовали патриотический концерт в ознаменование неудачного наступления русских в Буковине.
Последняя новость вызвала у всех нервный смех.
– Кстати, кто читал статью в последнем номере газеты «Русское военное слово» в разделе «Театр и музыка»? – вспомнил Дындра.
Что касается Сташевского, то он эту газету не читал, но с ее главным редактором капитаном Наркевичем имел честь быть знакомым. Ведь именно его, Сташевского, среди всех выделил Наркевич на встрече новой администрации с представителями культуры в магистрате, пригласил в редакцию, а затем представил офицеру жандармского управления Сушкову. Именно после этого знакомства Сташевский, без особой душевной ломки, стал русским агентом с псевдонимом Солист. Выполнение несложных поручений, в основном информационного характера, поправило материальное положение певца и позволило отказаться от унизительных выступлений в ресторанах.
– Я читал, – сразу откликнулся Легинский, поправляя пенсне на крючковатом носу, – и считаю их убежденность в родстве наших культур вполне искренней. Я давно заметил, что польское искусство входит в моду в русском обществе. Посудите сами: Балакирев увлекся Шопеном, Репин ездил к Матейко, правда, застал его уже в гробу… А в Варшавской филармонии я был свидетелем успеха Сергея Рахманинова. Его фортепьянный d-moll был самым интересным в программе.
– Чепуха! Это все фрагменты, – махнул рукой Дындра. – Прошлым летом я был в Санкт-Петербурге и убедился, что в России поляки не очень популярны. Русские националисты нас открыто ненавидят, особенно нас, галицийских, которые, по их убеждению, угнетают русское население.
Более или менее прогрессивные политики и неослависты там полностью оттеснены и избегают наших тем. Вообще, наш польский вопрос затрагивают, только когда говорят об общем политическом положении, не имея в виду каких-либо изменений в будущем.
Неожиданно он замолк и со всеми остальными с любопытством, с которым всегда встречают незнакомых в компаниях, где все прекрасно знают друг друга, посмотрел на вошедшего в кафе господина.
Это был Белинский. Он уже бывал здесь, и ему понравилась атмосфера этого уютного, спокойного заведения с запахом душистого кофе, хорошего табака и приглушенных разговоров учтивых, интеллигентных господ.
Капитан снял шляпу и приветливо кивнул стоящему за стойкой Езефу Фельцеру, с которым уже был немного знаком и от которого даже получил ряд ценных советов, как выгодно конвертировать российскую и австрийскую валюту по неофициальному курсу.
Заказав кофе и взяв со стойки номер «Курьера львовски», он направился к свободному столику, как раз по соседству с компанией Сташевского.
Вскоре интерес к нему угас, и все вернулись к своим разговорам.
Газета оказалась старой, еще с обращением главнокомандующего российской армией великого князя Николая Николаевича к полякам на первой странице. Газеты с этим обращением градоначальник велел держать во всех присутственных местах города. Белинский раскрыл последнюю страницу, где содержалась скудная городская реклама.
«Какое же место «волк» предпочтет для их встречи? – читал объявления капитан. – Аптеку «Под Золотой Звездой», пассаж Миколяша, кофейный магазин Эдмунда Ридля на Театральной напротив кафедрального собора, книжную лавку на Академической, два…»
Неожиданно он услышал слова, с которыми к нему обращался господин за соседним столиком: «Od роwietrza, ognia, wojny I od wskrzesicieli, zachowaj nas Panie!»[56]
Сидящие с ним господа тоже повернулись в его сторону, надеясь удовлетворить свое любопытство его ответом.
В произнесенных словах прозвучало что-то знакомое, но что именно, Белинский не мог вспомнить. Во всяком случае, судя по тому, что глаза незнакомца скользнули по газете, они относились к передовице – этому бестолковому обращению к полякам российского главнокомандующего, представлявшему собой нелепую смесь заверений в великодушии, откровенных угроз, неуместных оправданий и неуклюжих увещеваний без каких-либо твердых обещаний в будущем свободы и независимости польскому народу. Ничего, кроме неприятного чувство стыда и неловкости, у капитана оно не вызывало.
– Да, судьба снова ставит нас перед серьезным выбором, – ответил капитан, решив отделаться ничего не значащей фразой.
Незнакомец больше развернулся к Белинскому и доверительным тоном произнес:
– А мне кажется, нам не надо выбирать. Мы уже раз выбрали и поверили обещаниям русского царя, и в результате вновь надели на себя ошейник неволи.
Внешность незнакомца, искусственные паузы в движениях и речи, мягкий, хорошо поставленный голос выдавали в нем артиста.
Белинский наконец вспомнил, откуда он знает только что услышанную фразу. Она принадлежала Мицкевичу и была сказана в адрес императора Александра Первого при создании Польского королевства.
Артист между тем продолжал:
– Разве мы не помним, как в свое время император уверял Костюшко, что поляки получат свою родину? Нам была дана конституция, сейм, у нас даже были свои министры. Мы думали, что получили свободу. И чем все кончилось? Россия нас снова использовала в своих целях, превратив в оборонительную стену от Австрии и Германии, в свой плацдарм для похода в Европу.
– А пан, очевидно, искренне надеется получить свободу и независимость под знаменами Германии и Австрии? – непринужденно спросил Белинский.
Незнакомец некоторое время осмысливал ответ на этот неожиданно каверзный вопрос и, возможно не найдя ничего лучшего, расхохотался все тем же профессиональным смехом, затем встал и с театральной улыбкой протянул руку капитану:
– Альфред Сташевский, ведущий солист Львовского театра. Вы позволите? – указал он на свободный стул возле его столика.
«Насколько колоритна эта львовская публика, – удивлялся Белинский, возвращаясь домой после горячих споров о прошлом и будущем польского общества в непривычной для него компании, – сколько, однако, у этих господ искреннего любопытства ко всем проявлениям жизни, неизменного чувства юмора и откровенной любви ко всему яркому и необычному!» Знакомство в кнайпе «Вулий» нисколько не вызвало у него подозрения, наоборот, оно приятно разнообразило его вечернее одиночество.
Глава 17
В отделении
Наступила холодная зима 1914 года. Война приобрела черты затяжного позиционного характера. На Западном фронте российские войска готовились к вторжению в пределы Германии, а в Галиции у них стояла задача одержать решительную победу над австрийцами и тем самым обеспечить левый фланг главной операции.
Гарнизон Львова был переподчинен командованию Одиннадцатой армии, но контрразведывательное отделение армии Брусилова по-прежнему оставалось в городе, чтобы выполнять важную задачу по вербовке агентуры для заброски в тыл врага. Из штабов корпусов и бригад армии, воевавших в Карпатах, непрерывно поступали телеграммы с просьбами забросить разведчиков в тыл противника для сбора сведений о его обороне и состоянии перевальных дорог.
Эти разведчики подбирались из самых разных городских слоев: интеллигентов, фабричных рабочих, контрабандистов, проституток и даже подростков. После короткой подготовки лазутчиков снабжали нехитрыми легендами и в сопровождении унтер-офицеров доставляли на линию фронта к командирам сторожевых охранений. Во время перехода многие из них гибли под обстрелом, подрывались на минах, попадали в руки военной жандармерии противника, сдавались, терялись на местности или просто скрывались. С ценной информацией возвращались немногие.
Почерк работы австрийской фронтовой разведки мало отличался от русской, разве что вознаграждения агентам не были такими щедрыми. Желающих же рискнуть жизнью ради нескольких сотен рублей или крон у обеих сторон было предостаточно.
Почтовый ящик на калитке ограды Матаховской пустовал.
Девятнадцатого декабря[57], в день именин государя, Белинский решил навестить товарищей. Попетляв по узким улицам города и пройдя через пару проходных дворов, он зашел в отделение через черный вход со стороны Сикстусской.
Несмотря на государственный праздник, контрразведчики были на своих рабочих местах.
Дашевский выполнял важное задание штаба фронта: делал выборку агентов с оперативными возможностями в Румынии. Внезапная смерть румынского короля сделала обстановку в республике нестабильной, и было не ясно, на чьей стороне теперь выступят румыны. Для русской разведки Бухарест являлся важным промежуточным пунктом для связи с агентурой в Австрии и Венгрии.
На столе уже лежали готовые материалы на двух кандидатов. Сотрудник львовской газеты «Новый край», ратник ополчения Фишю при условии не быть призванным в армию и оплате в четыреста рублей проявил инициативу выехать и контролировать «важный» пункт в Румынии.
Весьма обнадеживающей была характеристика и на другого кандидата – коммивояжера Моисея Секлера: «интеллигентный, вполне приличный с виду, хотя еврей, но еврейского мало».
Ротмистр Корецкий был поглощен работой над рапортом, в котором предстояло опровергнуть безосновательные обвинения и гнусные намеки начальника транспортной роты полковника Крыленко, который, проходя по улице Кароля Людвига[58], заметил, как в автомобиле, находящемся в распоряжении отделения, несколько раз проехала дама с большой собакой.
В указанный день этот автомобиль был выделен ротмистру Корецкому для поездки в Здолбунов, где ему надлежало разобраться с весьма серьезным сообщением местного коменданта этапного пункта о том, что немцы – хозяева местных колбасных лавок в городке – вкладывают шпионскую информацию в колбасы и пересылают ее противнику через кондукторов-евреев.
Перед докладом начальству об этом вопиющем факте использования армейского транспорта для перевозки гражданских лиц Крыленко потребовал объяснение у Ширмо-Щербинского, и тот был в ярости.
– Опять дама! Ротмистр! – обрушился он на Корецкого. – Это непростительный поступок для офицера штаба армии!
История с автомобилем и в самом деле вышла скверная. В канцелярию управления снабжения фронта поступило уже немало сигналов о том, что шоферы за деньги возят частных лиц, и там, безусловно, ждали подходящего случая наказать виновных. Кроме этого, Крыленко неоднократно направлял рапорты начальству, в которых оспаривал право отделения иметь в своем распоряжении автомобиль, который, по его мнению, должен быть приписан к его роте.
Корецкому в конце концов все же удалось охладить пыл начальника, представив весьма вескую причину своего поступка: автомобиль, по его словам, оказывается, перевозил близкую родственницу одного из эндековских руководителей, что являлось важной частью работы отделения по укреплению позиций среди польских партийцев.
В конце концов Ширмо-Щербинский махнул рукой и велел ротмистру изложить как можно убедительнее все в рапорте.
Белинского угостили именинным пирогом, специально доставленным в отделение из штаба армии, и он невольно был вовлечен в спор между офицерами по поводу целесообразности наступления в сторону Венгрии.
– Павел Андреевич, – спрашивал у него Новосад, – скажите, пожалуйста, зачем мы лезем в эту карпатскую мясорубку? Неужели у нас нет других способов покончить с австрийцами?
– Наверное, у командования есть для этого основания, – ответил капитан.
– Но мы же можем завязнуть в этих горах и позволить австрийцам собраться с силами, – озабоченно рассуждал прапорщик.
– Очевидно, в Ставке принимают решения с учетом интересов наших союзников и ситуации на Западном фронте, – предположил Белинский.
– Вот именно. Интересы наших союзников и наши обязательства перед ними больше всего и мешают нам достичь собственных целей в этой войне, – с досадой заключил Новосад.
– А какие, сударь, цели, по вашему разумению, имеет Россия в этой войне? – спросил прапорщика Дашевский, который в это время раздумывал над сообщением агента, брат которого служил на заводе «Шкода» и изъявлял желание организовать там взрывы генераторов за «обещанное место в России».
– Ну конечно же это освобождение от унизительного немецкого гнета, который несколько десятилетий тяготеет над Россией, – уверенно заявил прапорщик.
– А как же наша святая миссия освобождения славянства, в том числе подъяремной многострадальной Червонной Руси, откуда мы слышим вековые воздыхания и стоны? – не без иронии спросил Дашевский.
– Одно другому не мешает. Я все же думаю, что нас подвигло на войну признание нашей собственной отсталости и наглая уверенность немцев в своем превосходстве. Посмотрите, какое негодование и презрение в народе ко всему немецкому!
– Жертвовать сотнями тысяч соотечественников на чужих землях, чтобы дать достойный отпор германской наглости? – поднял брови Дашевский.
– А какие же тогда, по вашему мнению, причины нам воевать?
– Ну, одну из них уже упомянули – это наша зависимость от европейского устройства и соответствующих договоров…
– Павел Андреевич, – повернулся Новосад к Белинскому, – а как вы считаете?
Капитан задумчиво посмотрел на молодого товарища. Он старался избегать споров о войне. Его удручало отсутствие единомышленников.
Он свято верил в догмы о защите веры, царя и отечества, усвоенные им в кадетском корпусе и укрепившиеся за годы службы. Но что касается нынешней войны, то разумных причин для России воевать не находил. А для современной Европы решать споры путем взаимного истребления вообще считал безумием. Но с кем бы он ни делился своим мнением – встречал безумную воинственность, остервенелое германофобство и антисемитизм. Шовинистический чад с первых дней войны заполнил все кругом. Даже его близкие друзья и знакомые, которых он уважал за индивидуальные суждения, порой граничащие с опасными революционными крайностями, превратились в фанатичных патриотов.
– Нам, господа, следует меньше рассуждать, – неожиданно послышался голос Корецкого, который наконец закончил рапорт о злополучном автомобиле с дамой и собакой, – а больше уповать на правоту нашего исторического дела, а точнее, на безошибочный инстинкт масс и милость Божию.
– Ну конечно, – с иронией парировал Дашевский, – русский человек во всем видит Бога, без воли которого и волос не упадет с его головы.
– А как же иначе, Владимир Михайлович. – Корецкий встал и начал расхаживать по кабинету. – Такие великие события, как эта война, не могут обойтись без участия божественной силы и высшей справедливости.
– Я с вами согласен, уважаемый Борис Зенонович, лишь в том, что народная религиозная фантазия безгранична в объяснении великих событий.
– А что это за фолиант у вас? – спросил Корецкий, заметив толстую книгу на столе Дашевского.
– Специальный номер венского издания «Reise und Sport – галицийцы», стоимостью целых пять крон, который содержит обширную и весьма ценную для нас информацию о здешнем крае. Рекомендую полюбопытствовать.
Корецкий взял книгу и стал пролистывать ее.
– Вот такую же панораму города вместе с окрестностями, только в виде дубовой модели, мне на днях предложил один из моих агентов, – ткнул он пальцем во вкладку книги. – По его заверениям, модель стоила тридцать тысяч крон, а изготавливалась инженерами по заданию австрийского штаба целых два года. Этот прохвост за указание места ее хранения пожелал, чтобы я оставил шестьсот рублей в конверте при кассе кондитерской Зочека.
– И как вы думаете поступить? – спросил заинтригованный Новосад.
– Я думаю, мой агент и так подарит мне этот макет после того, как полицейский чиновник составил на него протокол по причине продажи папирос дороже цены на этикетке.
На лицах офицеров появились улыбки.
– Интересно, – продолжал листать книгу Корецкий, – во Львове, оказывается, имеется даже своя фабрика по шлифовке бриллиантов.
Слово «бриллианты» мгновенно привлекло внимание поручика Чухно, который занимался составлением финансового отчета отделения за минувший месяц. Список затрат на оперативные нужды заканчивался расходами на чай, сапоги, тридцать бутылок красного вина для нужд штаба, телефон для связи с городами Галиции, шины и покрышки для автомобиля.
Несколько мгновений он исподлобья смотрел на Белинского, прикидывая, стоит ли уделить внимание этой бриллиантовой фабрике. Однако решил не отвлекаться – было уже запланировано более живое дело: заявление владельца бакалейной лавки по Шоссейной в доме Гитштейна-Пинхуса некоего Шпака, который доносил, что в Тарнополе, в магазине «Народной торговли» по улице Третьего Мая, на складе спрятано большое количество полотна, белья, спиртного и других предметов, которые, по его словам, будут полезны русской армии. Владелец магазина еврей Эрлих якобы при вступлении русских войск в Тарнополь скрылся, а магазин закрыл с намерением в будущем передать весь товар австро-германцам.
Теперь Чухно предстояло убедить начальника отделения командировать его на место с проверкой. В подобных случаях тот обычно не возражал. Тем более что в итоге таких выездов Чухно обычно возвращался с ящиком конфискованного вина или какой-нибудь редкой по тем временам снедью.
Рабочий день подходил к концу, и офицеры уже собирались переместиться в соседнее здание, где в американском кафе Вассермана отметить именины государя.
Корецкий уже обговорил меню с хозяином заведения, который обещал, что на столе будет копченый сиг, язык и гусиная печенка. С собой офицеры намеревались взять несколько бутылок водки и хереса.
Белинский пожелал товарищам весело провести вечер, сам же он собирался засесть за чтением обнаруженных в библиотеке Матаховской произведений модных авторов Анри Дювернуа и Джона Голсуорси.
Глава 18
Вызов Мезенцева к Новогребельскому
Начальник жандармского управления полковник Мезенцев был срочно вызван в штаб генерал-губернатора.
Дорога до Губернаторских Валов обычно занимала не более пяти минут, но при выезде с Коперника на Кароля Людвига полковнику пришлось задержаться и вместе с огромной толпой львовян с изумлением наблюдать, как по центральному проспекту гарцевали полки Кавказской туземной дивизии.
Воины ехали в черных бурках, черкесках и алых башлыках. Под ними были необычно косматые низкорослые лошади. Пронзительно звучала зурна. На солнце блестело золото и серебро оружия. Впереди на белом коне с винтовкой за плечами ехал мулла.
Своими впечатлениями о дикой красоте кавказцев полковник по прибытии на место поделился с генералом Новогребельским, который как раз обсуждал с помощниками переброску Дикой дивизии в район Самбора.
Все сходились во мнении, что в условиях Карпат лучших разведчиков, чем горцы с их выносливыми и неприхотливыми к корму лошадьми, не сыскать.
Кто-то заметил, что в одном из полков этой дивизии служит второй сын Льва Толстого Михаил.
– Мне однажды привелось быть свидетелем их атаки на неприятеля, – вспомнил генерал, – страшное зрелище: бешеный галоп, сатанинский оскал, глаза горят, кошмарный вой: ы-ы-ы… Беспощадный ураган, сметающий все живое на своем пути. Скачут они не тесной колонной, а редкой цепью – попасть в них трудно, и после их атаки живых среди неприятеля нет, ведь они никого не берут в плен.
– Я слышал, немцы их тоже не берут в плен, – заметил адъютант, – а жестоко пытают, перед тем как убить.
– Да они и не сдаются, – убежденно ответил генерал.
– Тем не менее австрийцы начали сбрасывать с аэропланов воззвания к мусульманам, – заметил кто-то из помощников.
– Неудивительно, – парировал генерал, – ведь их союзница Турция объявила священную войну.
В конце концов перешли к делу.
– Получена телеграмма командующего Осадной армии генерала Поливанова. – Новогребельский обвел присутствующих строгим взглядом. – Он сообщает, что австрийцы взорвали наши подкопы под основной редут крепости и тем самым сорвали готовящийся штурм Перемышльской крепости. Все работы велись в строжайшей тайне, и Поливанов не исключает, что сведения о подкопе поступили в крепость из Львова по подземному кабелю.
«Опять этот чертов кабель! – подумал Мезенцев. – Он все-таки будет стоить мне карьеры».
Сведения о телеграфном кабеле, якобы проложенном австрийцами из Львова в Перемышльскую крепость и дальше – в Краков и Вену, являлись болезненной темой для губернаторского штаба. И хотя подобная возможность передачи шпионских сведений за сотни километров вызывала крайнее сомнение даже у губернатора, вопрос стоял на контроле Киева и требовал самого тщательного расследования.
В кабинет вошел денщик с небольшим самоваром и стал разливать чай.
– Петр Васильевич, у вас же богатейший опыт политического сыска, – генерал откинулся в кресле и перешел на назидательный тон, – вам удавалось раскручивать куда более замысловатые дела. Почему вы не можете себя здесь показать? Потом, что у вас, наконец, с этим Резидентом? С ним-то сколько можно возиться?
– Ваше высокоблагородие, – собрался к непростому разговору Мезенцев, – разработка Резидента ведется с соблюдением особых мер, чтобы не дать ему обнаружить за собой даже малейших признаков наблюдения. Естественно, это весьма осложнило и затянуло работу. Арест его считаю преждевременным, ведь ничего существенного пока не добыто: ни связей, ни реальных улик шпионажа. Возможности ускорить разработку появились только сейчас, когда нам удалось подставить объекту нашего агента Солиста.
– А вы уверены в нем? – скептически заметил генерал. – Ведь ему, скорее всего, придется иметь дело с профессиональным разведчиком.
– Я думаю, да. Как-никак вся его жизнь – тоже сцена.
– Ну, так поторапливайтесь же, полковник. У нас больше нет времени. Вот почитайте, что пишут в столице о происходящем всего в ста верстах от Перемышля. – И генерал взял и швырнул на стол номер «Русского инвалида».
Глава 19
Запрос из Киева
Через пару дней уже генералу Новогребельскому пришлось держать ответ и выслушивать крайнее недовольство состоянием дел в подвластных ему структурах губернатора Бобринского. Причиной тому стала телеграмма, полученная из Киева, со следующим содержанием:
«по нашим сведениям в пределах галиции вообще и в городе Львове в особенности в сильной степени прогрессирует шпионаж прошу уведомить что обнаружено за последнее время в этом направлении и какие меры на будущее желательно признать необходимыми для пресечения шпионажа в самом его корне во вверенном вам районе».
– Ну-с, генерал, и что вы изволите отвечать? – с хмурым выражением спрашивал Новогребельского губернатор.
– Я думаю, ваша светлость, нам не стоит лукавить – начал объясняться генерал. – Со шпионами во Львове мы и в самом деле еще не разобрались, хотя сейчас в разработке имеется весьма перспективное дело, которое, я надеюсь, ответит на многие вопросы. Мне кажется, в ответе следует сделать акцент на серьезных препятствиях, которые не позволяют нам эффективно осуществлять работу по розыску шпионов.